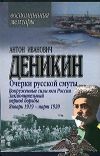Текст книги "Белое движение. Исторические портреты (сборник)"

Автор книги: Андрей Кручинин
Жанр: Военное дело; спецслужбы, Публицистика
Возрастные ограничения: +12
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 50 (всего у книги 102 страниц) [доступный отрывок для чтения: 27 страниц]
В Мелитополь он ворвался уже 29 мая, как всегда, первым, в сопровождении всего лишь пятерых конвойцев. Вокруг еще бушевал бой, людьми владело ожесточение, но когда белые конники наскочили на большую группу бросивших оружие и испуганно сгрудившихся красноармейцев, – оказавшийся неподалеку генерал бросился наперерез: «Это наши братья, не сметь их рубить!» – и был встречен дружным и благодарным «ура» пленных. Вообще очень человечный по отношению к сдающимся, Слащов в те дни с полным правом писал в распространяемой по Таврии листовке:
«Стрелки 3[-ей] Советской Дивизии.
Ваши комиссары наврали Вам, что мой корпус расстреливает пленных.
Ни один пленный красноармеец не расстрелян – после перехода к нам буду считать Вас своими братьями – Русскими людьми.
Ни один мужик корпусом не ограблен – иду с русским народом и за народ.
Слащов»
Успех, впрочем, имели не только эти воззвания, но и активные действия слащовских дивизий; рассказывали, что среди воевавших против них красноармейцев были случаи отказа идти в бой, «потому что Слащов – непобедим»… И свою репутацию генерал как нельзя лучше подтвердил в боях, за которые был награжден только что учрежденным орденом Святителя Николая Чудотворца II-й степени.
Однако стратегических последствий майско-июньские операции, включая даже сокрушительный разгром советской конной группы Д. П. Жлобы, не возымели. Во всем «врангелевском периоде» войны вообще не видно единой стратегической идеи: стремительным ударом заняв всю Северную Таврию, Главнокомандующий как будто поставил задачей удержание освобожденной территории – как показывал опыт, крайне рискованный, если не заведомо обреченный на неудачу способ действий.
Слащов, в отличие от Врангеля, имел четко сформулированный стратегический план, бывший, впрочем, не менее рискованным. Он указывал Врангелю на Правобережье Днепра, где разгорались крестьянские восстания и откуда можно было взять во фланг группировку советского Юго-Западного фронта, действующую против поляков. Риск же заключался в том, что немногочисленная армия была не в состоянии, перенося центр тяжести своих операций за Днепр, одновременно надежно прикрыть Северную Таврию. Очевидно, Слащов готов был даже поступиться Крымом, но Врангель с этим планом согласиться не мог.
Речь здесь шла, сознавали это или нет оба генерала, о принципиальном характере Белого движения. Стратегия Слащова восходила к традиции раннего, еще корниловского добровольчества – эпохе ледяных походов, кочующих армий и пренебрежения базой и линией фронта, Главнокомандующий же предпочитал прочно закрепить за собою всю Таврию, создав там «опытное поле» русской государственности. Недалекое будущее показало, однако, что фактическая передача инициативы в руки противника к добру не приводит, и уже в конце июля за нее пришлось расплачиваться Каховкой…
Захват Каховского плацдарма на левом берегу Днепра стал значительным успехом красных. Изнемогавшие в боях полки Слащова несколько раз били и сбрасывали в реку переправлявшихся большевиков, но численное превосходство тех было слишком большим, с высокого правого берега советская артиллерия господствовала над левобережьем, и разгромить занявшую плацдарм красную группировку можно было попытаться только во взаимодействии с конным корпусом генерала И. Г. Барбовича. Однако Врангель не торопился подчинять его Слащову, а когда это все-таки было сделано, предписал Барбовичу «усиленно беречь конницу» и в конце концов отдал категорический приказ вывести из боя уже втянувшиеся в него конные полки и отойти в резерв. Ссылаясь на «офицеров, служивших под начальством Слащова и бывших возле него во время этой операции», современник рассказывал, «как рыдал Слащов, когда эта конница, получив повторное приказание из штаба Врангеля, наконец решительно отказалась повиноваться Слащову и ушла в тыл…»
Всяким человеческим силам положен предел. Это прекрасно понимал Яков Александрович, и наибольшим, чего он мог добиться, было нанесение противнику возможно сильнейшего урона. Но если это и было достигнуто (белые в те дни забирают пленных в количестве, заметно превосходившем их собственную численность), изменить стратегическую обстановку уже не удается: инициатива и здесь перешла к большевикам.
Наверное, понимал это и Врангель; по крайней мере, Слащову была прислана из Ставки телеграмма, чрезвычайно резко оценивавшая его действия. Не одержав победы на «внешнем» фронте, Главнокомандующий достиг ее на фронте «внутреннем», спровоцировав неугодного ему генерала на рапорт об отставке, которая и была принята 4 августа 1920 года.
* * *
Слащов чувствовал себя уязвленным, однако на всеобщее обозрение назревающий конфликт вынесен не был. Главнокомандующий хотел удержать Якова Александровича от перехода в активную оппозицию: популярность генерала в войсках и среди населения Крыма могла сделать его опасным противником, а вражда между двумя личностями такого масштаба грозила дестабилизацией политической обстановки. Понимал это и Слащов, во имя общего дела занявший позицию демонстративной лояльности к Главнокомандующему. Впрочем, внутренняя напряженность отнюдь не исчезла.
Не прошло и недели после многократно опубликованного хвалебного приказа Врангеля – «России отдал генерал Слащов свои силы и здоровье и ныне вынужден на время отойти на покой», – как на «отошедшего на покой» было заведено уголовное дело по статье, говорившей об «умышленном убийстве, изнасиловании, разбое, грабеже и умышленном зажигательстве или потоплении чужого имущества», с «особым надзором начальства» в качестве меры пресечения. Обвинения вызвали вполне понятное и громогласное негодование Якова Александровича, после чего «подследственному» было официально поручено возглавить комиссию по вопросам улучшения быта военнослужащих (!), а обвинения «смягчили» до сознательного «попустительства» начальника подчиненным ему преступникам. Все это, в общем, выглядело дурным анекдотом, тем более что следствие заглохло за отсутствием каких-либо данных о действительных или мнимых преступлениях Слащова. С другой стороны, полностью игнорированы были и рекомендации, сделанные его комиссией (ужесточить сбор налогов, предложить имущим кругам «сознательно отдать половину своего состояния… на финансовое и экономическое возрождение России» и «воздвигнуть виселицу для спекулянтов… торгашей и себялюбцев»). «Улучшение его здоровья оказалось лишь кажущимся[106]106
Так в первоисточнике. – А. К.
[Закрыть], – писал в связи с этим докладом Врангель о Слащове. – Отдых, повидимому, не рассеял тумана в его голове».
Эта реплика – единственное, что счел нужным Главнокомандующий сказать о полководце, которому был немало обязан, – лишь один образчик вакханалии сплетен, разыгравшейся вокруг имени опального генерала. Беспрестанно повторялось: Слащов – алкоголик, ни дня не способный прожить без спиртного, кокаинист, находящийся под постоянным воздействием наркотика, наконец, просто сумасшедший, все же успехи его – прихоть слепого случая. Думается, лучший ответ на подобные домыслы дал сам генерал в разговоре с П. А. Клодтом, состоявшемся уже в Константинополе.
«Я откровенно высказал Я[кову] А[лександровичу] все, что слышал о нем неблагоприятного, — вспоминал Клодт. – Он выслушал меня и ответил: “Меня рисуют отчаянным пьяницей, кокаинистом, приписывают мне целый ряд чуть ли не преступлений. Вы меня хорошо знаете. Можете ли Вы этому поверить? Видели ли Вы меня когда-нибудь пьяным? Что я любил выпить, я этого не отрицаю, но пьяным меня ни Вы и никто в полку не видел. Что касается кокаина, то я прибегал к нему, когда для спасения дела мне приходилось не спать по несколько ночей сряду. Но кто же может за это осудить меня? Привычным кокаинистом я никогда не был. Мне приходилось действовать в исключительно трудной обстановке, я мог ошибаться, но все мои поступки отвечали моей совести. Другой образ действий я считал бы недостойным моего родного полка, о котором всегда помнил. Если бы я вел такую жизнь, какую мне приписывают, неужели это не отразилось бы на моем здоровье, на моем внешнем виде? Разве я уж так изменился?” Я смотрел на него – передо мною стоял прежний Я[ков] А[лександрович] с своей обычной улыбкой, очень мало изменившийся, несмотря на свое вообще некрепкое здоровье и на все бесчисленные ужасы, которые ему пришлось пережить. Я расстался с ним успокоенный».
Последнее тоже немаловажно, ибо внешний облик генерала становился объектом пересудов не в меньшей степени, чем все остальное. Но обращаясь к мемуарным свидетельствам, мы видим, что на каждое отталкивающее описание опустившегося или не вполне нормального человека находится противоположное, рисующее Слащова жизнерадостным и здоровым (вплоть до рассказа Владыки Вениамина: «Бодрящее и милое впечатление произвел он на меня. Что-то лучистое изливалось от всей его фигуры и розового веселого лица…»), – здоровым за исключением многочисленных ранений, иные из которых – особенно рана в ступню – мучительно тревожили его, также, возможно, заставляя прибегать к болеутоляющим средствам. Слащов, не раздумывая, ставил на карту свое здоровье с той же легкостью, как в бою – свою жизнь, и именно потому, что должен был быть в бою независимо от состояния здоровья. Современник и запомнил его в атаке «в валенке на одной ноге и в сапоге на другой» – нестерпимая боль не позволяла даже надеть сапог…
Ореол славы «спасителя Крыма» продолжал окружать Слащова. 20 августа ялтинская городская дума преподнесла ему звание почетного гражданина Ялты, и в начале сентября Яков Александрович переезжает туда из Севастополя, однако ненадолго. Тревожные слухи о тяжелых боях в Северной Таврии, конечно, не могли миновать его; по приглашению Врангеля генерал приезжает в Ставку, но возвращается разочарованным, не увидев там духа решимости, дерзания, уверенности в собственных силах. В Севастополе же Яков Александрович неожиданно для себя, да должно быть, даже и не догадываясь тогда об этом, сам оказался… угрозой Главнокомандующему: тому показалось опасным внимание публики, окружившее яркую фигуру «генерала Крымского». 20 октября Слащов получил предписание «незамедлительно отправиться в распоряжение генерала Кутепова»; «одновременно, – писал Главнокомандующий, – сообщаю последнему о Вашем выезде и предлагаю использовать Вас для объединения командования частями на одном из участков фронта». Якову Александровичу осталось неизвестным, что «последнему» в действительности, по позднейшему признанию самого Врангеля, было приказано, «чтобы он задержал генерала Слащова при себе, не допуская возвращения его в Севастополь». В штабе Кутепова Яков Александрович и узнал о падении Перекопских и Юшуньских позиций. Но окончательно все испортили, по его мнению, даже не поражения в боях, а приказ Главнокомандующего и объявление Правительства об эвакуации, изданные и распространенные 29 октября 1920 года.
Слащов негодовал, оценивая их как призыв «Спасайся, кто может!» и считая, что именно они сделали остатки Армии небоеспособными. И все же генерал не успокаивался, предлагая Врангелю «из тех, кто не желает быть рабом большевиков, из тех, кто не желает бросить свою Родину, – сформировать кадры Русской Армии, посадить их на отдельные суда и произвести десант в направлении, доложенном вам мною еще в июле месяце и повторенном в моих докладах несколько раз».
Здесь перед нами вновь не просто столкновение двух личностей, а несхожесть принципов борьбы. Для Врангеля, который заблаговременно распорядился готовить эвакуацию, уже было позволительным покидать Россию на неопределенное время и с неопределенными перспективами и фактически отдавать беженцев и, что еще важнее, Армию на милость союзных держав; наступал новый этап борьбы, по-прежнему остающейся антибольшевицкой, национальной, освободительной, но уже отходящей от прежних Белых традиций. Напротив, Слащов – весь в прошлом, во вчерашнем дне героической Белой Легенды, эпохе безумного самопожертвования и несомненной, не подвергаемой обсуждению готовности «победить или умереть» здесь, в России, никуда не уходя с родной земли. В пользу Врангеля говорит спасение от большевицкой расправы, по разным оценкам, 135–150 тысяч человек, но и авантюра Слащова в условиях крайнего измождения сил красных, похоже, имела все-таки некоторые шансы на оперативный успех и могла затянуть войну еще на одну зиму. Победила же, конечно, точка зрения Врангеля, попросту не вошедшего в рассмотрение планов своего порывистого подчиненного. Вместе с Кутеповым Слащов в ночь на 1 ноября возвращается в Севастополь и делает попытку прорваться к Главнокомандующему, но тот, опять же через Кутепова, отказывает ему. И Яков Александрович, взвинченный происходящим на его глазах крушением всего Белого Дела, кажется, начинает приходить к рискованным решениям…
* * *
Обстановка была для него слишком тягостной. Эвакуация Врангеля из Крыма, конечно, по организованности далеко превосходила то, что творилось, скажем, в Новороссийске, – но никакой исход многотысячных людских масс, из которых дисциплинированные воинские контингенты составляли не более трети, по самой природе своей не может пройти совершенно гладко и всегда будет сопровождаться трагедиями, недостатком мест, сутолокой, неразберихой, сломанными человеческими судьбами. На впечатлительного и эмоционального Слащова, не обладавшего беженским опытом и оказавшегося среди такого человеческого водоворота впервые, все это должно было произвести особенно сильное впечатление, достигшее кульминации, когда он столкнулся с остатками Лейб-Гвардии Финляндского полка.
С Финляндцами было Георгиевское знамя, врученное Государем в 1906 году. Священное полотнище удалось пронести через всю Смуту, спасая от большевицкого надругательства, – теперь же, несмотря на личное распоряжение Врангеля, места полку и знамени на кораблях не нашлось; но, когда офицеры уже готовились зарывать в землю полковую святыню, судьба послала им Слащова.
Спасение знамени – честь, о которой мог только мечтать любой солдат и офицер, – стало последним деянием генерала Слащова-Крымского на еще свободной русской земле. Пользуясь своей популярностью среди морских офицеров, он устроил Финляндцев на ледокол «Илья Муромец» и сам взошел на его борт, поскольку назначенного для генерала корабля уже не было в порту. Ко всему этому добавлялись еще страшные подозрения о свившей гнездо в штабах измене, и хотя документальных оснований для таких обвинений нет, субъективные переживания возмущенного и мечущегося Слащова уже толкали его, кажется, на попытку переворота.
Его видят и на рейде Севастополя, и в первые часы изгнания, в константинопольской бухте, – на палубе корабля с рупором в руках. Он что-то кричит; «пытался оправдаться», – заметит много лет спустя один из очевидцев, – но тогда Слащову еще не в чем оправдываться, и он не оправдывается. Он обвиняет. Только теперь, когда все рухнуло, и ни днем ранее, он идет в открытую атаку на Главнокомандующего, которого считает недостойным его поста. И союзника себе Слащов ищет в генерале Кутепове.
«Приехав в Босфор, – рассказывал Яков Александрович, – я… указал Кутепову на необходимость смены штаба.
Кутепов во всем со мной согласился и взялся передать генералу Врангелю мой рапорт…»
На самом деле поданный 19 ноября 1920 года рапорт говорил отнюдь не только о «смене штаба». Упрекая Главнокомандующего в потере Крыма, Яков Александрович требовал у Врангеля передать свой пост Кутепову. Верный себе, Слащов подчеркивал впоследствии, что, по его мысли, смена Главнокомандующих должна была произойти легальным путем, «чтобы сохранился принцип п р е е м с т в е н н о с т и в л а с т и[107]107
Разрядка Я. А. Слащова. – А. К.
[Закрыть], чтобы не было того, что принято называть coup d’état[108]108
Государственный переворот (франц.).
[Закрыть]», – признавая тем самым, что налицо все-таки была попытка переворота.
Но Врангелю удалось погасить бунт быстро и без лишнего шума. Очевидно, он убедил Кутепова в нецелесообразности подобных действий и предоставил ему полную власть над самыми стойкими кадрами Армии, размещенными в Галлиполи, себе же оставил защиту нужд и интересов русских беженцев перед союзным командованием в Константинополе. В этом распределении ролей для генерала Слащова не было места, и он исключается из состава Армии.
Новым ударом для него стала резолюция «собрания русских общественных деятелей», призывающая во имя продолжения борьбы с большевизмом сплотиться вокруг Врангеля. Слащов в письме к председателю собрания повторил упреки, брошенные им ранее Главнокомандующему, но они не были услышаны. Врангель же, созвав «суд чести старших офицеров Русской Армии», 21 декабря уволил генерала Слащова-Крымского от службы «без права ношения мундира».
Возмущенный Слащов доказывал, что приказ был незаконным. Теперь генерал дрался в одиночку, и следующим его ударом стал выпуск в январе 1921 года книги «Требую суда общества и гласности (Оборона и сдача Крыма)», в которой он настаивал на моральном осуждении Главного Командования. Книга привлекла к себе внимание публики, и в глазах «общества», к которому апеллировал Слащов, два генерала окончательно стали антиподами. И тем не менее громом среди ясного неба оказался следующий шаг «генерала Крымского», в первой половине ноября 1921 года неожиданно уехавшего из Константинополя… в Советскую Республику.
Во многом он был олицетворением само́й Белой борьбы – один из первых Добровольцев, «победитель махновцев и петлюровцев» (формулировка агитационного плаката с его портретом), защитник Крыма, монархист, солдат до мозга костей, демонстративно враждебный «гнилому тылу»… – и теперь его отъезд давал великолепный повод для скрытого злорадства тем, кому был антипатичен как сам Слащов, так и дело, за которое он сражался три года. Теми же, кто не питал к генералу злобы, овладело недоумение.
Зачем он это сделал?!
* * *
Не избежать этого вопроса и нам – слишком уж противоречит «возвращение»[109]109
Мы ставим слово «возвращение» в кавычки, ибо генерал Слащов не мог вернуться в страну, в которой он никогда не жил до этого. Он уезжал не из РСФСР, а из России, а это были два разных государства. – А. К.
[Закрыть] Слащова всей его предыдущей биографии. Дальнейшее в значительной степени относится к области неподтвержденных (а может быть, и неподтверждаемых) догадок, поэтому следует сразу сделать два принципиальных замечания.
Разумеется, генерал Слащов был далеко не единственным белогвардейцем, эмигрировавшим, а затем вернувшимся в Россию. Именно поэтому в данном случае мы не собираемся выводить каких-либо общих правил для «возвращенцев» и не считаем, что «возвращение», пусть даже десятков тысяч, само по себе способно объяснить «возвращение» одного человека. Мы – не о десятках тысяч; мы – об одном генерале Слащове.
Другое исходное положение наших рассуждений относится как раз не к общему, а к индивидуальному. «Чужая душа – потемки», и исследователь может, разумеется, признать за своим героем «право» в любой момент совершить любой поступок, логически не связанный ни с предыдущим, ни с последующим или даже противоречащий всему, что мы знаем о человеке. Тем не менее в случаях, когда имеются конкретные факты биографии, окружающие такой спорный поступок, игнорировать их недопустимо, особенно если они к тому же выстраиваются в какую-либо систему; а именно логическую систему мы и попробуем увидеть в тех событиях и свидетельствах современников, которые до сих пор были недостаточно известны.
Не приходится обсуждать злобных обвинений, что Слащов был «куплен», поскольку сребролюбие никогда не было свойственно Якову Александровичу, более того – еще в начале Гражданской войны все вывезенные из Петрограда личные ценности были им потрачены на нужды белогвардейской организации, – и непонятно, почему вдруг в эмиграции его в одночасье оказалось столь легко «купить». Версия, будто эволюция взглядов генерала началась еще весной 1920 года под влиянием воззвания к русским офицерам А. А. Брусилова и группы других старых военачальников, ни на чем не основана, а приводимая ее автором ссылка на документальный источник фальсифицирована (Слащов там даже не упоминается). Более правдоподобными выглядят предположения о «тоске по родине» или желании «не отделяться от России и переносить все, выпавшее ей на долю, веруя, что “претерпевший до конца, той спасен будет”[110]110
Неточная цитата из Евангелия: «Претерпевый же до конца, той спасен будет» (Мк. 13:13). – А. К.
[Закрыть]», но оба они отличаются умозрительностью и недоказуемостью, апеллируя, в сущности, к тем самым потемкам в чужой душе. Не выдерживает критики и заявление о «раскаянии», ибо в опубликованных уже в СССР мемуарах Якова Александровича, несмотря ни на что, как раз раскаяния-то и не видно: они написаны с чувством спокойной гордости за все содеянное, а фразы о собственном «недостатке сознательности» звучат при этом едва ли не злой иронией.
Среди личных мотивов упоминались также малодушие, слабость, «соблазн», обида, уязвленное самолюбие, причем даже автор, решительно не приемлющий слащовского поступка, писал об этом:
«…Слащова больше жалели, но не презирали.
Жалели за малодушие, обычно ему не свойственное, жалели за то, что общую прекрасную белую идею, которой он когда-то так доблестно служил, ему не удалось поставить выше личного, случайного, жалели за ложный, самоубийственный шаг, повлекший за собой все последующие и доведшие его до окончательного морального падения.
Жалели, – но, кажется мне, не ненавидели.
Особенно те, кому хоть некоторое время довелось быть с ним в боевой работе».
Это свидетельство очень ценно. Выдвигая версию о «личном, случайном» как главном мотиве Слащова, оно, в сущности, само же и подводит к ее опровержению, показывая, что личность генерала не до конца утратила вес в белогвардейских кругах даже после шага, однозначно квалифицированного многими как «измена». А ведь противостояние с Врангелем могло стать основной причиной отъезда в РСФСР, только если бы оно повлекло за собою остракизм, полное изгнание Слащова из той среды, которая была для него единственно близкой. Но эмиграция отнюдь не была однородной, и оставаться белогвардейцем вполне можно было и не будучи «вранжелистом» (выражение В. В. Шульгина). Так, с явным пиететом относились к Слащову радикальные монархические круги, испытывавшие явный недостаток громких имен, – и у Якова Александровича были все данные, чтобы занять в какой-либо из подобных организаций высокое положение, позволяющее, кстати, и избежать материальной нищеты. Более того, он и сам «состоял в распоряжении» Великого Князя Димитрия Павловича чуть ли не накануне отъезда в РСФСР. Наконец, были бы определенные шансы на успех и у самостоятельной «слащовской партии», пожелай генерал собрать вокруг себя единомышленников и начать свою собственную политическую игру, – коль скоро на Церковном Соборе в Сремских Карловцах находились фантазеры, в кулуарах выдвигавшие кандидатуру Якова Александровича на… Российский Престол «якобы как незаконного сына Александра III» (!!); самое удивительное, что было это, когда генерал уже находился в Советской Республике (Собор проходил с 21 ноября по 3 декабря 1921 года).
Вся эта эмигрантская каша, в которой серьезные и выстраданные чувства порой соседствовали с откровенным фарсом, тогда еще только заваривалась, так что возражение, будто Слащов мог сразу разглядеть бесперспективность подобных попыток и предпочесть службу в «настоящем», хотя бы и большевицком государстве, – не выглядит убедительным. Да, наконец, осенью 1921 года еще не окончилась вооруженная борьба, на Дальнем Востоке сражалась Белоповстанческая Армия, и обсуждались даже проекты переброски туда русских войск из Турции. И как бы скептически ни относился Яков Александрович к любой эмигрантской деятельности, – это не объясняет, почему он мог предпочесть ей режим, с которым начинал войну одним из первых и заканчивал одним из последних (и последним из военачальников его уровня, кто еще рвался в бой после падения Перекопа и Юшуни!). «Зачем он туда поехал? Что его привлекало там? – размышлял генерал Клодт. – Опасность, которой он подвергался, была очевидной; что же он рассчитывал получить взамен? Скромная роль “военспеца” едва ли могла его прельщать, он был слишком крупный человек, чтобы соблазниться такой “серой” будущностью…»
Единственное, казалось бы, чем мог «соблазниться» генерал Слащов, предпочтя «Совдепию» – «эмигрантщине», могла стать вывернутая большевиками идея «Единой Неделимой России», борьбы за «русские рубежи» (и Советскую власть) против мифической «интервенции» иностранных держав, в недружелюбии которых кто-кто, а уж белогвардейцы-то смогли убедиться на собственном опыте. Только это могло найти отклик у русского офицера, и только на этот «соблазн» и мог поддаться Яков Александрович.
Мог… но поддался ли?
Конечно, как и все Белые вожди, он был «единонеделимцем» и, как большинство белых, испытывал к союзникам по Антанте чувства, варьировавшиеся от сдержанной неприязни до яростной ненависти (к «предателям-французам»). Но кроме того и прежде того он был антикоммунистом, понимавшим, что хуже большевиков для России ничего быть не может. Ведь это он в 1920 году допускал идею «федерации с Украиной»; это он стратегические планы кампании 1920 года развивал в направлении боевого сотрудничества с Польшей; это он весной того же 1920-го удовлетворенно объявлял в приказе поступившие с Дальнего Востока сведения, что «Япония начала энергичные наступления[111]111
Так в первоисточнике. – А. К.
[Закрыть] своей армией»; наконец, это он, уже в Константинополе, вполне дружелюбно разговаривал с представителями английской разведки. Верность «Единой Неделимой» независимо от цвета флага над ней стала официальным объяснением поступка Слащова… но насколько это объяснение соответствовало истине?
А ведь существуют и другие факты, позволяющие утверждать, что незадолго до отъезда в РСФСР взгляды генерала Слащова оставались прежними. Так, Александр Вертинский слышал, как Яков Александрович «кричал, что Россию продали немцам». Артист, признававшийся: «Трудно было понять что-нибудь в этом потоке бешенства», – отнес реплику на счет «издевательств над германским происхождением Врангеля» (не немца, а шведа в довольно отдаленном поколении), но в устах Добровольческого офицера она имела смысл вполне однозначный: «немецкими наемниками» с начала и до конца войны именовались большевики…
И все-таки генерал в конце концов принял предложение советских эмиссаров в Константинополе об амнистии и отъезде в РСФСР.
Почему же?
Для ответа на этот вопрос следует обратить внимание на некоторые обстоятельства, пока ускользавшие от внимания тех, кто писал о «возвращении» генерала Слащова. Дело в том, что, помимо красной агентуры, на Якова Александровича стремились оказывать влияние и многочисленные сторонники идеи консолидации сил и сплочения вокруг Врангеля.
«…Кроме Врангеля и Слащова Армия никого не знает.
Других имен, могущих объединить и спаять изверившихся во всех и всем солдат, – нет…
Надо протянуть друг другу руки, и тогда Армии, страдающей на чужбине, хотя [бы] морально станет легче нести тяжелую страду изгнания», – писал автор анонимной брошюры «Ответ генералу Слащову-Крымскому», и его чувства разделяли, наверное, многие. Абсолютно лояльным к Главнокомандующему был Донской Атаман генерал А . П. Богаевский, общавшийся с Яковом Александровичем; офицеры Лейб-Гвардии Атаманского полка устраивали даже специальный обед, на котором старались убедить приглашенного Слащова в пагубности разжигаемой им вражды; к той же задаче был привлечен сербский посланник; просил Врангеля использовать Слащова в совместной работе В. В. Шульгин. И особо отметим свидетельство генерала Н. В. Шинкаренко, в разное время бывшего подчиненным и Врангеля, и Слащова: незадолго до «возвращения» Слащов «устыдился, что ли, и выразил раскаяние» в выпуске своей книги. Сделать это он мог, например, во время личной встречи с Главнокомандующим.
Да, такая встреча была. Эти люди, казалось бы, окончательно разведенные по разные стороны пропасти, дважды встречались и беседовали перед неожиданным поступком Слащова, причем в обстановке если и не конспиративной, то по крайней мере исключающей широкую огласку. В РСФСР Слащов сначала пытался скрыть факт этих бесед, а в дальнейшем (возможно, уличенный) пробовал «легализовать» их, подавая дело так, будто не имел к организации встреч никакого отношения и последствий они не получили. А вот в этом позволено будет усомниться…
Причины сомнений изложим чуть ниже, пока же подытожим наши наблюдения над недолгим эмигрантским периодом биографии Слащова-Крымского: не имевший видимых серьезных причин для «возвращения», он принял предложение советской разведки как раз после улаживания конфликта с Врангелем (причем о том, что конфликт был исчерпан, знали немногие) и даже после двукратных встреч с Главнокомандующим. И вскоре супруги Слащовы, а с ними – четверо офицеров, в том числе полковник Мезерницкий, тайно сев на итальянский пароход, столь же тайно отплыли в Севастополь.
* * *
Конспирация требовалась хотя бы потому, что за деятельностью генерала Слащова в Константинополе пристально следила французская контрразведка: неприязнь Якова Александровича к французам, всемерно толкавшим Русскую Армию к распылению, ни для кого не была секретом. Настроения генерала разделялись значительным числом русских солдат и офицеров, причем именно тех, кто сохранял наибольшую непримиримость к большевизму – Галлиполийцев. Напряженность дошла до того, что создалась угроза ареста французами Главнокомандующего; в ответ размещенные в Галлиполи войска Кутепова изготовились к… походу на Константинополь.
Этот вполне реальный план (англо-французские оккупационные войска не смогли бы оказать серьезного сопротивления) подкреплялся еще и тем, что на турецкой политической сцене присутствовала сила, подходившая на роль союзника русских в этом столкновении. Герой Великой войны М. Кемаль-паша стремился вывести страну из тяжелого положения, в котором она оказалась после капитуляции, и становился естественным противником победоносной Антанты. Сейчас он пользовался помощью большевиков, но, как «реальный политик»-прагматик, был готов к сотрудничеству со всеми, кто оказывался нужным в данный момент, и идея разбить альянс кемалистов с Советской Республикой отнюдь не выглядела нереальной. Пути к Кемалю искало и командование Русской Армии, и Слащов; с турецкой же стороны переговоры с Яковом Александровичем вел… а вот имя этого человека будет для нас вдвойне интересно.
Потому что человеком этим был тоже белогвардейский генерал, Султан-Келеч-Гирей, черкесский князь, оказавшийся у Кемаля как единоверец-магометанин. Этого уже хватило бы, чтобы привлечь к столь колоритной фигуре наше внимание, но существует и еще одно, гораздо более важное обстоятельство.
Немедленно после «возвращения» Слащову и его спутникам-офицерам, конечно, пришлось ответить на вопросы, поставленные перед ними Чрезвычайной Комиссией. Сразу заметим, что сведений о количественном и качественном составе Русской Армии Яков Александрович, как это видно из протокола, фактически не дал, да скорее всего точных данных не имел и сам; намного больше внимания он уделил характеристике лиц начальствующего состава.
Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?