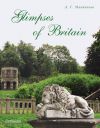Автор книги: Анна Разувалова
Жанр: Языкознание, Наука и Образование
Возрастные ограничения: +12
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 1 (всего у книги 40 страниц) [доступный отрывок для чтения: 11 страниц]
Анна Разувалова
Писатели-«деревенщики»: литература и консервативная идеология 1970-х годов
«ДЕРЕВЕНЩИКИ»: ПЕРЕЧИТЫВАЯ ЗАНОВО (вместо предисловия)
Несколько раз в ответ на слова о том, что я пишу работу о позднесоветском литературном консерватизме – о «деревенщиках», я слышала от собеседников, чья молодость пришлась на 1960-е годы: «“Деревенщики” – консерваторы? Да… конечно, консерваторы… И все же странно – кажется, это было совсем недавно». Некоторую заминку в разговоре вызывал, как мне теперь кажется, не сам термин «консерваторы» применительно к этому направлению, а то, о чем он напоминал – о действующих лицах, обстоятельствах, атмосфере тех времен, когда «деревенщиков» называли «реакционерами», но относиться к этому клейму и «заклейменным» можно было (уже стало можно) по-разному. Интеллигент хрущевской и брежневской поры в зависимости от идеологических предпочтений мог видеть в «неопочвенных» авторах представителей крестьянской «мелкособственнической стихии», усомнившихся в «завоеваниях Октября», или воплощение «русскости», не убитой «советским», носителей «отжившей» морали и деревенских предрассудков или этически обеспокоенных интеллектуалов, ясно различавших черты близящегося культурного кризиса. Впрочем, причины, по которым в «долгие 1970-е» вроде бы сугубо вкусовое высказывание о «деревенской прозе», комплименты или упреки в ее адрес, легко разворачивалось в нечто большее – будь то свидетельство «духовно-нравственных» устремлений личности или обозначение ее идеологической позиции, еще станут предметом обсуждения в этой книге, а пока только замечу – с тех пор изменилось не так уж много. Да, «деревенщики» давно перестали быть активными персонажами современной литературной сцены, но уж если о них заходит речь, то выясняется, что для одной части читателей с советским культурным бэкграундом они по-прежнему – явление не столько литературного, сколько общественного плана, «мнимые» величины, возникшие в атмосфере фальшивого позднесоветского гиперморализма, а для другой – современные классики, создавшие убедительные художественные миры, повествовавшие о «вечном» (о душе, памяти, жизни и смерти), и заключать их в пределы социоидеологических коллизий – значит не видеть в них главного. Эти споры снова и снова воспроизводят символические (и не только) различия между разными группами читательской аудитории, в том числе ее «профессиональной» части. Вокруг реплики известного филолога «Просто вот из интереса перечитал почти все произведения вашего раннего Распутина и теперь (без)ответственно заявляю: “Это – читать невозможно и не нужно, это – очень плохая проза!”»[1]1
См. страницу Олега Лекманова в «Фейсбуке» (пост от 20.11.2014). URL: https://www.facebook.com/lekmanov?fref=nf.
[Закрыть] в социальной сети разворачивается полемика с упоминанием множества имен, привлечением экспертов, которые помнят «как было», аргументацией от этики и от эстетики; высказанные по ходу дела суждения (например: «Вы что, там, в Москве, с ума посходили? Ну Распутин, конечно, не гений языка, но В. В. Личутин – безусловно. На Западе его бы считали первым национальным писателем, за “уровень языка”, а не почвенные клише…»[2]2
Там же.
[Закрыть]) аккумулируют явные и скрытые предубеждения, которыми определяется наше восприятие литературы как таковой и (не)приятие «деревенщиков» в частности – тут и возмущение столичными вкусами, и принятая по умолчанию антитеза «низкого» (идеологии, «почвенных клише») и «высокого» («языка»), и стремление реабилитировать относительно позднего «деревенщика» Личутина, напомнив о «подлинных» критериях художественной ценности.
Любопытным образом позднесоветские и перестроечные споры вокруг «деревенской прозы», как и особенности ее «нобилитации», повлияли на институциональное устройство филологической среды, занимавшейся исследованием творчества «неопочвенников» (их изучение обычно локализовано в вузах тех регионов, с которыми писатели были связаны), и ее теоретико-методологические предпочтения. Предлагаемые в этой среде контексты филологической интерпретации традиционалистской прозы («деревенщиков») нередко сами по себе довольно традиционны. Говоря о «традиционности», я имею в виду, во-первых, зависимость таких контекстов от идей правой, национально-консервативной критики «долгих 1970-х» (по сей день считается, что именно она верно истолковала аксиологию и стилистику «деревенской» школы), во-вторых, их устойчивость, тиражируемость, особенно заметную, если обратиться к массово поставляемым на российский научный рынок статьям в вузовских сборниках и кандидатским диссертациям. У исследователей «деревенской прозы» есть вполне определенные представления об идеологии и поэтике «неопочвеннического» традиционализма, есть ряд готовых дефиниций для каждого из видных авторов этой школы, соответственно проблематизация традиционалистского дискурса о традиционализме воспринимается как этический вызов – подрыв авторитета современных классиков русской литературы. Однако круг, который по каким-либо причинам – эстетическим и/или идеологическим – отвергает «деревенскую прозу», видит в ней лубок или далекое от всех норм политкорректности высказывание, тоже обычно руководствуется не проблематизируемыми пресуппозициями. Исходя из сложившегося положения вещей, я пыталась решить в книге две задачи: во-первых, найти новые, не учтенные контексты, которые помогли бы осмыслить возникновение «неопочвеннического» литературного сообщества и тех риторико-идеологических формул, которые его создали, во-вторых, реинтерпретировать типичную для «деревенщиков» проблематику (экологическую, регионалистскую, национально-патриотическую), взглянув на нее не столько как на набор сюжетно-стилевых моделей, «отражающих» эмпирику общественной жизни, сколько как на инструмент самоописания и самопонимания национал-консерваторов. Отсюда структура книги, в которой нет последовательно разворачиваемого от раздела к разделу нарратива, но есть маятникообразное возвращение к темам и проблемам, обозначенным в первой главе и связанным с переосмыслением типичной для «деревенщиков» проблематики на предмет возможных импликаций правоконсервативного и националистического свойства (хронологически в центре внимания, в основном, «долгие 1970-е»[3]3
Для обозначения периода с конца 1960-х до середины 1980-х годов я использую конструкт «долгие 1970-е» (иногда говорят «длинные 1970-е»), позволяющий подчеркнуть несовпадение календарной хронологии и культурно-идеологического содержания эпохи. В данном случае речь идет об определяющих этот период консервативных тенденциях в политике и культуре, формирование и развитие которых не обязательно привязано к хронологически «сильным» позициям.
[Закрыть], хотя в I главе я обращаюсь к событиям конца 1950-х, а в IV иV главах – к периоду перестройки). Вопросы поэтики и нарраталогии затрагиваются в книге спорадически, я сосредоточиваюсь на них лишь в той степени, в какой они необходимы, чтобы очертить смысловые границы «неопочвеннического» консерватизма и прояснить отдельные социопсихологические аспекты «деревенской» литературы.
Большая часть этой книги была написана во время трехлетней докторантуры в Центре теоретико-литературных и междисциплинарных исследований Института русской литературы (Пушкинский Дом) РАН[4]4
Ряд разделов книги (в том числе глава V) подготовлены при поддержке Российского научного фонда, проект № 14-18-02952 («Конспирологические нарративы в русской культуре XIX – начала XXI вв.: генезис, эволюция, идейный и социальный контексты»).
[Закрыть]. Мне бы хотелось поблагодарить коллег – Александра Панченко, Валерия Вьюгина, Кирилла Анисимова, Сергея Штыркова, Валентина Головина, Игоря Кравчука – за благожелательный интерес к этой работе и выразить самую искреннюю признательность моему научному консультанту Константину Богданову. Я очень многим обязана его точным и тонким советам, комментариям, неизменно дружественной помощи. За возможность публикации в «Новом литературном обозрении» – самая искренняя благодарность Ирине Прохоровой.
Глава I
«Я КОНСЕРВАТОР. ОТЪЯВЛЕННЫЙ РЕТРОГРАД»: «НЕОПОЧВЕННИЧЕСКИЙ» ТРАДИЦИОНАЛИЗМ – РЕВОЛЮЦИЯ И РЕАКЦИЯ
«Деревенская проза» как объект критических проекций
О «деревенщиках» написано и сказано так много, что очередное обращение к этой теме требует пояснений. Внимание к «неопочвенничеству» в «долгие 1970-е» и первое постсоветское десятилетие, конечно, проистекало из особого статуса этого направления в отечественной литературе. Высказываемое горячими поклонниками «деревенской прозы» мнение о том, что она – самое талантливое, самое достойное из созданного в позднесоветский период, распространялось тем шире, чем сильнее было желание значительной части интеллигенции, с одной стороны, найти противовес производимым в массовых масштабах стандартным «советским текстам», а с другой стороны, спасти от девальвации «ценности высокой культуры». Неудивительно, что произведения «деревенской прозы» филологами были прочитаны довольно подробно, а главным ее представителям посвящены не единичные монографические исследования. На рубеже 1980 – 1990-х годов в ситуации смены политической конъюнктуры авторитет «деревенщиков» был поколеблен, интерес к их сочинениям заметно пошел на спад, однако завершение периода реформ и переход к «стабильности» совпали с появлением, казалось бы, более взвешенных, примиряющих оценок. Когда в начале 2000-х годов экспертам (искусствоведам, философам, психологам, культурологам) был задан вопрос о художественно состоятельных именах и произведениях 1970-х, многие вспомнили Василия Шукшина, Виктора Астафьева, Валентина Распутина, оговорившись, что не относят их «ни к официальной, ни к неофициальной, а точнее оппозиционной культуре»[5]5
Иванов В.Д., Мусаханов Л.Р. Баланс художественной культуры (на материале экспертного опроса по советской культуре 1970-х) // Художественная жизнь России 1970-х годов как системное целое. СПб., 2001. С. 117.
[Закрыть]. Конечно, в 2000-е годы бывших «деревенщиков» к востребованным писателям могли причислить только их самые преданные поклонники, но именно в ХХI веке началась очередная волна официального признания «деревенской прозы». Если учитывать только самые крупные государственные премии и награды, то выяснится, что В. Распутин в 2003 году получил премию Президента Российской Федерации в области литературы и искусства, в 2010 – премию Правительства России за выдающиеся заслуги в области культуры, еще через два года – Государственную премию Российской Федерации за достижения в области гуманитарной деятельности за 2012 год. В 2003 году лауреатами Государственной премии Российской Федерации стали В. Астафьев (посмертно) и Василий Белов, последний в том же 2003 удостоился ордена «За заслуги перед Отечеством» IV степени. Связать присвоение «деревенщикам» череды государственных премий с сегодняшней популярностью их произведений невозможно, ибо такая популярность – дело «давно минувших дней», она пришлась на 1970 – 1980-е годы. Но чем же тогда руководствовалось экспертное сообщество, отдавая предпочтение тому или иному автору-«деревенщику»? Среди мотивов можно предположить лестное, например, для того же Распутина ретроспективное признание его литературных заслуг вне зависимости от актуальной общественно-политической повестки. Вот только премия, особенно присуждаемая государством, редко бывает проявлением бескорыстной любви к искусству, ибо прежде всего она нацелена на легитимацию определенных культурно-идеологических установок и ценностей, в данном случае – на «продвижение» и утверждение очередной версии традиционализма. Взволнованная реакция журналиста информационного портала «Русская народная линия» на известие о присуждении Распутину Государственной премии наглядно это демонстрирует:
Неужели что-то существенно повернулось в сознании тех, от кого зависит выстраивание идеологии нашего государства и нашего народа? Неужели духовными и нравственными приоритетами в современной России становятся традиционные ценности русского народа и выдающиеся соотечественники, их исповедующие и утверждающие во всех сферах повседневной жизни страны?
Хотелось бы в это верить! Тем более что совсем еще недавно Валентин Распутин воспринимался и подавался на страницах очень многих влиятельных изданий и на экранах федеральных телеканалов со скепсисом и издевкой – как уходящая фигура застойного и преступного режима, как представитель сомнительного патриотического лагеря, давно уже не влияющий на современную интеллектуальную жизнь России[6]6
Малютин С. Иного Бергам не дано! // Русская народная линия. URL: http:// ruskline.ru/analitika/2013/06/12/inogo_bergam_ne_dano.
[Закрыть].
За несколько лет до этого Алла Латынина в связи с присуждением В. Распутину премии Александра Солженицына предположила, что недовольство части критиков решением жюри имеет политическую подоплеку – категоричное неприятие консерватизма, напомнившее ей о прецеденте из XIX века – гонениях на «обскурантов» Федора Достоевского и Николая Лескова[7]7
См.: Латынина А. Вакансии как раз открыты // Литературная газета. 2000. 8 – 14 марта. С. 9.
[Закрыть]. И хотя выработка критериев «чистой» эстетики, свободных от политико-идеологических предпочтений, как и следование этим критериям при присуждении литературных премий – задача сколь амбициозная, столь и невыполнимая, Латынина была права, констатировав привычку критиков сверять внимание к «деревенщикам» (или отсутствие такового) с колебаниями идеологического курса.
На самом деле в центре идеологических споров «деревенская проза» находилась постоянно – с момента зарождения (достаточно вспомнить ее протоманифест – вызвавшую скандал и административные разбирательства «новомирскую» статью Федора Абрамова 1954 года «Люди колхозной деревни в послевоенной прозе») и до бесполезного, по словам В. Распутина, хождения «деревенщиков» в политику в конце 1980-х – 1990-е годы[8]8
В. Распутин пояснял мотивы, побудившие его заняться политической деятельностью: «Что касается писателя Распутина, то, может быть, действительно было бы больше пользы, если бы я не занимался политикой. Я для себя как рассуждаю: если бы нашлась достойная замена, нашлись бы люди, которые бы делали то, что я пытался сделать, спасая северные реки или Байкал, я бы с удовольствием устранился. И ушел бы в чистую прозу. <…> Мое хождение во власть ничем не кончилось. Оно было совершенно напрасным» (В. Распутин – В. Бондаренко. «Слышу гул подземной Руси…»: Беседа накануне юбилея // Бондаренко В.Г. Пламенные реакционеры. Три лика русского патриотизма. М., 2003. C. 500, 503). Однако в том же интервью Распутин сетует на наивность представителей патриотических сил, которые чурались политики и тем самым ослабляли свои позиции: «…как лезли наши демократы туда (в депутаты. – А.Р.), а если кто-то не проходил, например, Евтушенко, как они быстро искали новые лазейки, находили территории, где они могли бы быть избранными. <…> А наши сторонники все отказывались от депутатства, отказывался Василий Белов, меня чуть ли не силой затолкали в депутаты, да и других патриотов тоже. А надо было не отказываться, надо было предвидеть усилия наших врагов» (Там же. С. 503).
[Закрыть]. Позднее, в постсоветскую эпоху, публичные выступления ее представителей также воспринимались как идеологический жест. Стоит согласиться с Кэтлин Партэ, утверждавшей, что ни одно из направлений советской литературы не подвергалось столь часто политической интерпретации, как «деревенская проза»[9]9
Партэ К. Опасные тексты России. Политика между строк. СПб., 2007. С. 113.
[Закрыть]. По наблюдениям исследовательницы, за несколько десятилетий, пока литературная продукция «неопочвеннической» школы представляла живой интерес для читателей (с учетом нисходящей траектории популярности – примерно с середины 1950-х до начала 2000-х), сменилось пять идеологически привилегированных кодов прочтения ее текстов. Вычленение Партэ хронологических периодов, внутри которых работал по преимуществу тот или иной код, небесспорно, но предложенную ею схему вполне можно принять за рабочую при обсуждении процессов конструирования различными идеологическими силами того или иного образа «деревенской прозы».
В 1950-е годы произведения будущих «деревенщиков» критика использовала как довод в поддержку затеянной Н.С. Хрущевым реформы сельского хозяйства. В 1960-е для правой критики они олицетворяли спонтанный традиционализм и мощные корни национальной культуры, а для сторонников «новомирской» программы – неистребимость в народе хозяйской инициативы и способности к социальному творчеству. В последующие полтора десятилетия национально-консервативный лагерь ссылками на «деревенскую прозу» доказывал «от рождения присущий» отечественной литературе «антибуржуазный» пафос и безальтернативность реализма в качестве ее главного метода, а либеральная критика с Сергеем Залыгиным и В. Астафьевым, В. Беловым и В. Распутиным, В. Шукшиным и Борисом Можаевым связывала надежды на честное обсуждение острых общественных проблем.
В целом, в дискурсивном присвоении «деревенской прозы» национально-консервативная критика была успешней, нежели ее оппоненты. Отчасти это объясняется большей идеологической и «вкусовой» близостью с «деревенщиками» (видные деятели движения «русистов», например Илья Глазунов, Сергей Семанов, в 1960 – 1970-е годы были непосредственно причастны к их политическому просвещению) и успешным курированием профессионального продвижения этих писателей. Кроме того, отмечают Марк Липовецкий и Михаил Берг, национально-консервативное крыло было относительно более сплоченным, нежели мало озабоченные соображениями консолидации условные либералы[10]10
См.: Липовецкий М., Берг М. Мутации советскости и судьба советского либерализма в литературной критике семидесятых: 1970–1985 // История русской литературной критики: советская и постсоветская эпохи. М., 2011. С. 497.
[Закрыть]. За десятилетие, которое символично началось публикацией статьи Александра Яковлева «Против антиисторизма» (1972) об опасных националистических тенденциях «неопочвенничества»[11]11
Термин «неопочвенничество» распространяется в работе на писателей-«деревенщиков» и критиков, связанных, в основном, с журналами «Молодая гвардия» и «Наш современник», хотя очевидно, что «неопочвенники» были частью представительного и разнообразного по оттенкам политических взглядов национально-консервативного крыла советской интеллигенции. Термин «национал-консерваторы», «национально-консервативный», акцентирующий два идеологических компонента движения, также используется в работе, в том числе и метонимически – через перенос наименования целого на часть (то есть тех же «неопочвенников»).
[Закрыть] и столь же символично завершилось, уже при другом Генеральном секретаре, осуждением статьи Михаила Лобанова «Освобождение» (1982), национально-консервативная критика сумела навязать литературно-критическому официозу свой стиль говорения о «деревенской прозе». Впрочем, слово «навязать» слишком акцентирует волевой, чуть ли не насильственный характер действия, между тем как в глоссарии «неопочвеннической» и официальной критики изначально были совпадающие позиции и в данном случае уместнее говорить о взаимовлиянии. Созданный национал-консерваторами образ «деревенской» литературы – оплота «народности», надежной продолжательницы классики, педалированием «русской темы» и вниманием к травматичным страницам недавней советской истории (коллективизации, прежде всего) подчас обескураживал отвечавшие за идеологическую работу официальные инстанции, провоцировал желание окоротить чересчур резвых правых «ревизионистов», но в целом не противоречил устраивавшей их картине культурной жизни. Как следствие, с конца 1970-х – начала 1980-х при обсуждении эстетики «деревенщиков» почти непременно возникал стилевой трафарет «верности традиции» и ее «обновления», а идеология школы сводилась к формулам «возвращение к корням», «человек на земле» и т. п., возникшим в 1960-е, но постепенно утратившим налет прежней оппозиционности.
В годы перестройки отечественная критика, точнее, ее демократическое крыло, живо отозвалась на общественную деятельность «деревенщиков» и очевидный кризис некогда популярного направления. «Мы становимся трезвей и новыми глазами смотрим на прежних любимцев»[12]12
Ермолин Е. Пленники Бабы-Яги // Континент. 1992. № 2 (72). С. 343–366. URL: http://magazines.russ.ru/continent/2011/150/e10.html.
[Закрыть], – пояснял такую позицию один из участников «развенчаний». Массированный пересмотр литературного наследия вчерашних кумиров немалой части советской интеллигенции во многом был спровоцирован их политическими высказываниями. Несмотря на то, что кризис идей и распад эстетической системы «деревенской прозы» стал заметен раньше – о них заговорили в связи с публикацией «Пожара» (1985), «Печального детектива» (1985), «Все впереди» (1986)[13]13
См., например: «Печальный детектив» В. Астафьева: мнение читателя и отклики критики // Вопросы литературы. 1986. № 11. С. 73 – 112; Художник или публицист – кто прав? // Литературная газета. 1986. 27 августа. С. 2; Иванова Н. Человека все касается // Известия. 1985. 28 августа. С. 3; Старикова Е. Ищущая душа: Заметки при чтении повести В. Распутина «Пожар» // Новый мир. 1985. № 2. С. 232–236; Обсуждение романа В. Белова «Все впереди» // Вопросы литературы. 1987. № 9. С. 113–164. На самом деле первые констатации кризиса «неопочвеннической» литературы датируются еще второй половиной 1970-х годов. Об исчерпанности «деревенского» направления рассуждали тогда Виктор Чалмаев и Лев Аннинский: первый варьировал часто повторявшиеся упреки в ограниченности кругозора «деревенщиков» и заявлял о полезности для них «инъекции и социальных и нравственных понятий из иных миров» (Проза. Этика. Эстетика: Диалог критиков Льва Аннинского и Виктора Чалмаева // Литературная Россия. 1976. 2 января. С. 8), второй призывал не драматизировать процесс смены одного направления другим и уверял, что смена «деревенской прозы» на литературной авансцене другими явлениями закономерна, поскольку «общий тонус литературы 70-х годов все-таки предполагает соотнесение всех идей и эмоций с “фоном” НТР…» (Там же). Естественно, сами «деревенщики» с подобной оценкой собственных перспектив не соглашались, и Ф. Абрамов в одном из писем обрушивался на «ученых мерзавцев»: «Ужас что несут эти нечестивцы! Деревенская проза исчерпала себя, деревенская проза переживает кризис… Да что это такое? Россия кончилась? Россию давайте хоронить… Так это надо понимать?» (Абрамов Ф.А. Письмо В.И. Белову (17.01.1976) // Абрамов Ф.А. Собр. соч.: В 6 т. СПб., 1991–1995. Т. 6. С. 382. Далее ссылка на это издание дается с указанием номера тома и страницы).
[Закрыть], только в перестроечную эпоху критики и литературоведы пошли дальше грустных недоумений по поводу превращения художников в публицистов и выдвинули в адрес «деревенщиков» программные претензии. Утрата морального авторитета в глазах интеллигенции и сдача прежних творческих позиций теперь трактовалась как логическое следствие, во-первых, реакционного отрицания современности, для описания которой «деревенщики» не создали художественного языка[14]14
См.: Белая Г. Затонувшая Атлантида. М., 1991. С. 26.
[Закрыть], во-вторых, апологетики архаичных социальных норм и бедности представлений об автономном существовании индивида вне ценностей «рода» и «традиции»[15]15
См.: Левина М. Апофеоз беспочвенности («Онтологическая» проза в свете идей русской философии) // Вопросы литературы. 1991. № 9/10. С. 3 – 29.
[Закрыть], в-третьих, социального конформизма, выросшего из романтизации «законосообразности бытия»[16]16
Ермолин Е. Указ. соч.
[Закрыть] и недооценки персональных свободы и выбора. Упреки в коллаборационизме, которые до этого доносились, в основном, из-за рубежа, в конце 1980-х – начале 1990-х стали обычными. Например, Василий Аксенов в 1982 году, выражая общий критицизм диссидентской части эмиграции в отношении советского культурного истэблишмента (в том числе «деревенщиков»), но пытаясь сохранять объективность, объяснял Джону Глэду:
С ними произошла трагическая история. Я бы сделал ударение именно на этом слове «трагическая». Начинали они очень неплохо, это люди небездарные. И среди них много действительно ярких, я бы прежде всего назвал Василия Белова и Бориса Можаева. У них чувствовался и художественный и общественный протест против застоя. Но тут произошла очень ловкая акция со стороны идеологического аппарата. Они не дали им превратиться в диссидентов, хотя они шли к этому гораздо более коротким путем, чем я со своими формалистическими поисками[17]17
В. Аксенов – Д. Глэд // Глэд Д. Беседы в изгнании. Русское литературное зарубежье. М., 1991. С. 78.
[Закрыть].
Позднее, в нашумевшей статье «Поминки по советской литературе» Виктор Ерофеев продолжал наносить удары по больному месту. Заостряя собственное инакомыслие акцентированием конформизма «деревенщиков», он объявлял их произведения типичным образчиком советской литературы, очередной трансформацией соцреализма, всегда успешно эксплуатировавшего «слабость человеческой личности писателя, мечтающего о куске хлеба, славе и статус-кво с властями…»[18]18
Ерофеев В. Поминки по советской литературе // Литературная газета. 1990. 4 июля. С. 8. Вокруг статьи Ерофеева и, в частности¸ в связи с причислением «деревенщиков» к «советской литературе», сведенной автором к негативному опыту несвободы и насилия, вспыхнула дискуссия. См.: Варжапетян В. Да здравствует литература! // Литературная газета. 1990. 25 июля. С. 5; Марченко А. Во чьем пиру похмелье // Литературная газета. 1990. 1 августа. С. 5; Киреев Р. Панихида с кнутиком // Литературная газета. 1990. 8 августа. С. 4; Буртин Ю. Мертвое и живое // Литературная газета. 1990. 22 августа. С. 4; Урнов Д. Кто создает иллюзии? // Литературная газета. 1990. 26 сентября. С. 5; Гордин Я. Что позади? // Литературная газета. 1990. 26 сентября. С. 5; Кашук Ю. Ниши биоценоза // Литературная газета. 1990. 10 октября. С. 4; Василевский А. Novaja Тухляндия? // Литературная газета. 1990. 10 октября. С. 4; Гольдштейн А. Такое долгое прощание // Литературная газета. 1990. 24 октября. С. 7; Рубашкин А. Не выплеснуть бы и ребенка // Литературная газета. 1990. 24 октября. С. 7; Оклянский Ю. По ком звонит колокол // Литературная газета. 1990. 31 октября. С. 4.
[Закрыть] С откровенностью восторг освобождения от былых авторитетов выплескивал в начале 1990-х критик Евгений Ермолин:
И я уже без пиетета, ожесточенно и, пожалуй, оголтело формулирую: вот писатели, не исполнившие своего призвания. Они не имели внутренней решимости, чтобы идти самым рискованным путем, им недоставало воли к исканию, к жизненной неустроенности, к бескомпромиссному служению истине. И они стали самоуверенными апостолами банальной веры, публицистами-моралистами[19]19
Ермолин Е. Указ. соч.
[Закрыть].
Очевидно, что обе точки зрения, возникшие внутри литературного процесса 1970-х и в экстремальной форме озвученные на рубеже 1980 – 1990-х, есть результат оценки позднесоветской культурной реальности разными интеллектуальными группами, адаптации ее к модели мифологического противостояния добра и зла. Взаимоотрицающие дискурсы о «деревенщиках» (национально-консервативный и либеральный), созданные «долгими 1970-ми» и принадлежащие им, в 2000-е годы были переоснащены научной (либо квазинаучной) аргументацией и многократно воспроизведены в публицистике и исследовательской литературе. Правая критика в лице В. Бондаренко, продолжившего линию Вадима Кожинова, Анатолия Ланщикова, М. Лобанова и Юрия Селезнева, придала новые идеологические оттенки старой, высказанной еще в 1970-е годы идее, согласно которой национальная литература второй половины ХХ века есть предсказанный русскими классиками триумф «простонародья», наступивший в результате слияния «высокой» дворянской и «низовой» крестьянской традиций:
В начале 20-х годов прошлого века, наблюдая за гибнущей русской культурой, многие ее ценители искренне считали, что у русской литературы осталось только ее прошлое. <…>
Вдруг из самых недр русского народа, из среды мастеровых и крестьян как богатыри былинные стали появляться писатели, спасая честь и достоинство национальной литературы. Место погибшей, уехавшей, надломленной русской интеллигенции <…> вновь оказалось занято художниками, осмысляющими судьбу своего народа… Скажем честно, не та у выходцев из народа была культура, слишком тонкий слой образованности, много зияющих пустот. <…> но уровень духовной энергии, уровень художественного познания времени, уровень ответственности перед народом сравним с русской классической литературой XIX века. Эксперимент по выкорчевыванию нашей стержневой словесности не удался[20]20
Бондаренко В.Г. Серебряный век простонародья: Книга статей о стержневой русской словесности, об окопной правде, о деревенской прозе и тихой лирике. М., 2004. С. 6–7. См. также: Бараков В.Н. «Почвенное» направление в русской поэзии второй половины ХХ века: типология и эволюция. Вологда, 2004; Павлов Ю.М. Критика ХХ – ХХI веков: Литературные портреты, статьи, рецензии. М., 2010.
[Закрыть].
Напротив, либеральное сообщество продолжало сомневаться в культурных достоинствах прозы «деревенщиков». М. Берг с иронией объяснял невозможность присуждения премии А. Солженицына «манипуляторам», вроде Дмитрия Пригова или Владимира Сорокина, и огорчительную для него логичность ее присуждения В. Распутину:
Разве можно было наградить их с формулировкой «за пронзительное выражение поэзии и трагедии народной жизни в сращенности с русской природой и речью, душевность и целомудрие в воскрешении добрых начал»? Нет, потому что эта формула – выражение комплекса неполноценности, помноженного на комплекс превосходства. Зато Распутин, который во времена советской цензуры был (или казался) смелым обличителем и радетелем за народную правду, а ныне стал скучной и мрачной архаикой, весь, как Афродита из пены, вышел из этой самой «сращенности», «пронзительных выражений» и «целомудрия», которое, позволь ему, будет опять головы рубить[21]21
Берг М. Премия Солженицына отдана Распутину. URL: http://www.mberg.net/asputin.
[Закрыть].
Упоенно разоблачал «деревенскую прозу» Дмитрий Быков. Правда, он вывел за ее пределы Шукшина, Можаева, Распутина, Астафьева, Екимова, сделав «типичными представителями» Анатолия Иванова и Петра Проскурина и обрушив свой гнев на стандартный литературно-кинематографический нарратив о деревне 1970-х – начала 1980-х годов, в полемическом пылу отождествленный с «деревенской прозой»:
Деревенщикам не было никакого дела до реальной жизни деревни. Их подмывало обличить в жидовстве и беспочвенности тот новый народ, который незаметно нарос у них под носом – и в который их не пускали, потому что в массе своей они были злы, мстительны, бездарны и недружелюбны. Их поэзия – что лирика, что эпос – не поднималась выше уровня, заданного их знаменосцем Сергеем Викуловым и почетным лауреатом Егором Исаевым. Их проза сводилась к чистейшему эпигонству. Если бы в России был какой-нибудь социальный слой несчастней крестьянства, они ниспровергали бы культуру от его имени. <…>
…Не припомню ни в одной литературе мира такой апологии дикости и варварства, к которой в конце концов скатилась деревенская проза: все самое грубое, животное, наглое, грязное и озлобленное объявлялось корневым, а чистое было виновато одним тем, что оно чисто. <…> Деревенщики отстаивали не мораль, а домостроевские представления о ней, с гениальным чутьем – вообще очень присущим низменной натуре – выбирая и нахваливая все самое дикое, грубое, бездарное[22]22
Быков Д. Телегия // Русская жизнь. 2007. № 10. URL: http://www.intelros.ru/2007/09/20/telegija_derevnja_interesovala_pisatelejjderevenshhikov_menshe_vsego.html.
[Закрыть].
В апологетике «деревенской прозы» и ее развенчаниях наблюдалась явная симметрия: с одной стороны, «деревенщики» представали носителями и защитниками «русскости» против «советскости», отстаивавшими традиционные национальные ценности перед лицом власти, чей политический генезис был связан с «интернационалистской» идеологией разрушения; с другой стороны, «деревенщики» казались приспособленцами, сумевшими ловко продать свои таланты, носителями социальной и культурной архаики, как, впрочем, и поддерживавшая их власть, не способная к инновативности и интеграции в цивилизованный мир. Константой одного и другого определения оставалась отсылка к советскому проекту: достижения или провалы мыслились производными от его политико-культурной природы и отношения к нему как варианту глобального модернизационного процесса. Либеральные оппоненты «деревенщиков» реагировали на признаки стагнации в послесталинской фазе развития советской системы, в то время как сами «деревенщики» самоопределялись в дистанцировании от ее первой фазы, концентрировавшей энергию модернизации. По существу, их консерватизм в сочетании с национализмом и стали одним из идеологических проявлений медленной деградации системы и разложения ее институтов[23]23
См.: Гудков Л., Дубин Б. Своеобразие русского национализма // Pro et contra. 2005. Сентябрь-октябрь. С. 6 – 24.
[Закрыть]. Впоследствии в ситуации смены политического курса либералы отождествили консерватизм «деревенщиков» с «обскурантизмом» и провозгласили конформизм доминантой их стиля мышления и типа личности, забыв, что «насаждение реакционных идеалов» когда-то было нонконформистским шагом, а обвинения в «патриархальщине» с разной степенью ожесточенности звучали в адрес «деревенской прозы» на протяжении всего позднесоветского периода и рупором их была чаще всего официозная критика. Другими словами, карту обвинений в консерватизме (идеологическом и эстетическом) в разное время и разных дискурсивных комбинациях разыгрывали противостоявшие друг другу силы, так что есть смысл видеть в дополнявших друг друга обличениях «реакционных заблуждений» «деревенщиков» знак перегруппировки сил и изменения интеллектуально-идеологических трендов при переходе из позднесоветского периода к политике перестройки.
Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?