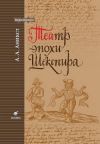Текст книги "Венок сюжетов"

Автор книги: Борис Владимирский
Жанр: Культурология, Наука и Образование
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 8 (всего у книги 12 страниц) [доступный отрывок для чтения: 3 страниц]
Писатели посмотрели и не нашли там многого, что написали. Потому что они написали лирический и смешной сценарий. Фильм, в своем роде тоже чрезвычайно примечательный, получился более приподнятым, торжественным, пышным, с развернутыми знаменами в конце, с замечательной музыкой Дунаевского и песнями на слова Лебедева-Кумача.
Но это была не та картина, которую предполагали Ильф и Петров. И они попросили их имен в титрах не оставлять. И до сих пор в картине «Цирк», которую мы с вами охотно смотрим и пересматриваем, в титрах написано «Режиссер-постановщик орденоносец Г. Александров», а больше ничего, как будто сценария у этого фильма вовсе и не было. Но это по желанию самих авторов.
Глава 23. Поездка в Америку. Страшная ссора вечером в городе Гэллопе. Кричали часа два. Поносили друг друга самыми страшными словами, какие только существуют на свете. Потом начали смеяться. И признались друг другу, что подумали одно и то же: ведь нам нельзя ссориться, это бессмысленно! Разойтись же мы не можем, погибнет писатель. А раз все равно не можем разойтись, тогда и ссориться нечего. Мы всегда чувствовали друг без друга полную беспомощность. Говорили о том, что хорошо бы погибнуть вместе, во время какой-нибудь катастрофы. Страшно было подумать, что наступит такой момент, когда один из нас останется с глазу наглазс пишущей машинкой. В комнате будет тихо и пусто, и надо будет писать. Всегда была уверенность в друге. С ним не пропадешь. Неверие в собственные силы и огромная вера в силы друга.
Глава 24. Болезнь Ильфа. Все убеждали Ильфа, что он здоров. И я убеждал. А он сердился. Он понимал и чувствовал, что все кончено. Сон Ильфа: съели туберкулезные палочки.
Глава 25. Мы пишем «Одноэтажную Америку». Она была нашим спасением.
Глава 26. Америка и СССР. Маниакальное желание помочь, что-то сделать, внести предложение. Чувство родины. Мы с удовольствием сделались бы хозяйственниками. Мы только вскользь захватили тему об СССР, но, собственно, впервые стали широко, с обобщениями думать о нашей стране. Мы увидели ее издали. Равнодушие во всех его проявлениях казалось нам самым страшным преступлением.
Действительно, в «Одноэтажной Америке» при том, как критически увидена Америка, много доброжелательности и много желания перенять у американцев, этого трудолюбивого народа, самое лучшее, что там есть. Именно потому, что они очень любили свою страну.
Бюрократизм, равнодушие, административная тупость их возмущали. Вот опять записи Ильфа:
Лицо, не истощенное умственными упражнениями.
Соседом моим был молодой, полный сил идиот.
До революции он был генеральской задницей. Революция его раскрепостила, и он начал самостоятельное существование.
Не знали, кто приедет, и вывесили все накопившиеся за пять лет лозунги.
Мы пойдем вам навстречу. Я буду иметь вас в виду. Я постараюсь пойти вам навстречу». Все это произносится сидя, совершенно спокойно, не двигаясь с места.
Глава 27. «Тоня». Рассказ в этом новом для нас жанре, повествовательный и почти не смешной, писался с мучительным трудом. Мы сидели на подоконнике и смотрели вниз, на Нащокинский переулок. <…>
Глава 28. Мой друг Ильф. Его прогулки. Его друзья. Его чтение.
Дело в том, что об Ильфе многие говорили (и сам он себя так называл): «зевака». Он был человеком, жадно впитывающим впечатления окружающей среды, читающим все подряд: и прекрасные книги, и железнодорожные справочники, и газету, и объявления. Он, выходя на прогулку, мог простоять на трамвайной остановке два часа, прислушиваясь к тому, что говорят, и никуда не уехать. Выписывал фразы из меню, из объявлений, вообще записывал то, что видел или слышал.
Вот названия одесских улиц: Косвенная улица, Гулевая улица. Или вывеска: «Часовая мастерская „Новое время“. Причем тут мгновенно включается его фантазия, его способность довести ситуацию до абсурда. Ну, например, был такой салат „Весна“, а он говорит: салат „Демисезон“. В честь балета „Пламя Парижа“ появился одеколон „Пламя Парижа“. Ильф сочиняет: одеколон „Чрево Парижа“. Или: „Раменский куст буфетов“. Что смешного? Ильф дописывает: „Куст буфетов, букет ресторанов, лес пивных“.
Вот еще из «Записных книжек»:
Позавчера ел тельное. Странное блюдо! Тельное… Съел тельное, надел исподнее и поехал в ночное. Идиллия!
Вечерняя газета писала о затмении солнца с такой гордостью, будто это она сама его устроила.
Книга высшей математики начиналась словами: «Мы знаем…»
А иногда трудно угадать, что он придумал, а что прочитал на самом деле. Все помнят, что отвечал Бендер Паниковскому, когда тот жаловался, что его девушки не любят. Он ему советовал обратиться во Всемирную лигу сексуальных реформ. Что за странная организация? А я, перелистывая журналы 1930 года, нашел, что действительно такая была! И в 1930 году в Вене состоялся ее международный конгресс. Я не знаю, что они там нареформировали, но там была и делегация от нашей страны. Очень интересно было бы поднять протоколы!
Ещё записи – что Ильф слышал на улице, на собрании, на прогулке:
Товарищи, если мы возьмем женщину в целом…
Так вы мне звякните! – Обязательно звякну. – Значит, звякнете? – Звякну, звякну непременно.
Я те звякну, старый идиот! Так звякну, что своих не узнаешь!
Не гордитесь тем, что поете! При социализме все будут петь.
Ерошка по возбуждении настоящего дела фигурировал сперва в качестве простого свидетеля, но затем был привлечен в качестве обвиняемого и в этом качестве скончался.
Когда я вырасту и овладею всей культурой человечества, я сделаюсь кассиршей.
Когда я смотрел «Человека-невидимку», рядом со мной сидел мальчик, совсем маленький. В интересных местах он все время вскрикивал: «Ай, едрит твою!.. »
Сторож при морге говорил: «Вы мертвых не бойтесь, они вам ничего не сделают. Вы бойтесь живых».
– Надо портить себе удовольствие, – говорил старый ребе, – нельзя жить так хорошо.
Что он видел? Видел вроде бы то же самое, что и мы с вами можем увидеть или видели люди в то время. Но у Ильфа была поразительная способность запечатлеть виденное тем единственным и неповторимым словом, после которого мы с вами увидеть ситуацию иначе, кажется, и не можем, – настолько это точно:
Крахмальный замороженный воротник.
Тяжелая, чугунная осенняя муха.
Хвост, как сабля: выгнутый и твердый.
Тусклый, цвета мочи свет электрической лампочки.
Дворницкие лица карточных королей.
Ноги, грязные и розовые, как молодая картошка.
Снег падал тихо, как в стакане.
Плотная, аккуратная девушка, как мешочек, набитый солью.
Кот повис на диване, как Ромео на веревочной лестнице.
Путаясь в соплях, вошел мальчик.
Всю ночь во дворе бегал, скребся, мяукал котенок. Видимо, сдавал экзамен на кошку.
Он лежал в одних трусах, и тело у него было такое белое и полное, что чем-то напоминало труп в корзине. Виной этому были в особенности ляжки.
– В конце концов, я тоже человек? – закричал он, появляясь в окне. – Что это: дом отдыха или… – Он не окончил, так как сам сознавал, что это давно уже не дом отдыха, а то самое «или» и есть.
Но дочитаем до конца рукопись Петрова:
Мой друг Ильф. В этом человеке уживались кролик и лев. Из детства Ильфа: история пенсне со шнурком. Ему выдан паек: два ведра вина. Он нес эти ведра по улице. В гостях всегда требовал чай. Любил также пить воду. Когда-то писал стихи, но никогда мне их не показывал – вероятно, он их давно выбросил. Обожал новые знакомства, даже напрашивался в гости, но поддерживал знакомства только тогда, когда убеждался, что новый знакомый человек интересный. Новых знакомых, которые ему не нравились, он высмеивал. Зачитывал чужие книги. Но его книги зачитывали чаще. Любил, когда никто не видит, покрасоваться перед зеркалом. Иногда увлекался рубашками, иногда галстуками. В последний день брился. Увлечение фотографией, задержавшее написание «Золотого теленка» на год. Увлечение этого глубоко мирного человека военно-морской литературой. Любил стекло: стаканчики, вазочки и т. д. Любил вещи, но не хотел этого показать. Любил отдельные словечки, увлекался ими. У него было огромное уважение к слову. Выкрикивал какое-нибудь одно словечко: «Под суд!» по всем поводам. Любил входить в комнату с каким-то торжественным заявлением: «Женя! Я совершил подлый поступок!» Старушка, которой он соврал, что он брат Ильфа. Маленькой девочке: «Будем жить с тобой в стенном шкафу. Сделаем запас манной каши и будем жить. Хочешь?» «Женя, вы оптимист собачий!» «Боря, у вас вид газели, которую изнасиловал беспартийный козел». Ильф очень сердился, когда какая-то читательница выразила уверенность, что он зарабатывает тридцать тысяч в месяц. Он никак не мог втолковать ей, что зарабатывает сравнительно немного и живет… (Здесь в рукописи Петрова оборван край листа. – Б. В.) Нас обоих томила мысль, что мы бездельники. В самом деле мы были очень трудолюбивы. Эта вечная неудовлетворенность мешала отдыхать. Только неделю после книги мы отдыхали по-человечески, потом начинались страдания.
Однажды он сказал: «Женя, я принадлежу к людям, которые любят оставаться сзади, входить в дверь последними». Постепенно и я стал таким. Мы неизменно отказывались от участия в вечерах-концертах. В тех редких случаях, когда мы все-таки выезжали, мне приходилось читать, а Ильф выпивал всю воду из графина. При этом он страшно мучился и потом говорил, что безумно устал. И это была правда. Его тяготило многолюдное общество. Однако он обожал общество небольшое. Духовная стерильность Ильфа. Безошибочное чувство меры.
Ильф обожал детей. Постоянно повторял фразу, которую дети кричали при его переезде в новый дом: «Писатели приехали!» А потом, когда Ильфа везли на кладбище, дети орали: «Писателя везут!»
Мои страдания. Один раз я даже сел и написал несколько мрачных страниц о том, как трудно работать вдвоем. А теперь я почти что схожу с ума от духовного одиночества. Трудно писать об Ильфе как о каком-то другом человеке.
Глава 29. Последний фельетон, который так и остался недописанным. В тот вечер мы попрощались в лифте так, как прощались десять лет подряд:
– Значит, завтра в десять?
– Лучше в одиннадцать.
Но завтра он уже лежал.
Глава 30. Смерть Ильфа. Умирающий, он всех жалел. Он прощался с миром мужественно и просто, как хороший и добрый человек, который за всю свою жизнь никому не принес…(Здесь снова оборван край листа. – Б. В.)
Глава 31. Похороны.
Глава 32. Я смотрю на пройденный путь.
Петров смотрел на пройденный путь и тогда, когда публиковал «Записные книжки» Ильфа. В предисловии к ним он обратил внимание читателя на одно обстоятельство: Ильф мало писал о себе, больше об окружающем мире.
Записи о себе в основном относятся к последнему периоду. И все они какие-то очень грустные. Может быть, это связано с болезнью, с предощущением конца. Но, как мне кажется, не только. Здесь особый взгляд на мир.
Говоря об этом особом взгляде на мир, надо вспомнить спор об Остапе Бендере. В 30-е годы его ведь считали жуликом, прохиндеем, а в 60-е годы один критик обвинил Ильфа и Петрова в том, что они-де в своем романе очень нехорошо отнеслись к отечественнной интеллигенции – они ее всю высмеяли в образе Лоханкина.
Мне кажется, эти нападки доказывают, что «Золотой теленок» был прочитан невнимательно. Ведь рядом с лже-интеллигентом Лоханкиным в этой книге есть образ интеллигента более сложный. Это образ Остапа Бендера. Бендер – в известном смысле alter ego авторов. В нем не только их шутки, не только ильфовские странный шарф и башмаки, не только словечки, не только отношение к жизни, но и мировосприятие.
В «Золотом теленке» Остап не просто жулик и совсем не весельчак. Это фигура драматическая. Он гоняется за миллионом, но когда получает его от Корейко, то деньгам, в общем-то, не рад: «Сбылась мечта идиота!» По инерции он продолжает, переводит все в «бранзулетки», пытается осуществить какие-то планы, пытается перейти границу, пока «сигуранца проклятая» не отбирает у него все, и он говорит, что придется переквалифицироваться в управдомы.
В романе есть одна очень важная нота, которую замечательно почуяли Михаил Швейцер и Сергей Юрский в фильме «Золотой теленок», в самой блистательной экранизации этой книги. Это драматическая нота.
Вспомните: он гонялся за Синей Птицей, он пытался жить интересно, была некая авантюра, наполненная жизнь… а после того, что он получил миллион, ему стало скучно. А ведь Остап артист! Как прекрасно он понимает законы каждой ситуации, в которую попадает, – будь то волисполком, автопробег или контора «Рога и копыта». Он актер! И в нем есть особое отношение к жизни, благодаря чему мы и смеемся над ним, и сострадаем ведь тоже!
В «Золотом теленке» Остапу тридцать три года – возраст Иисуса Христа. Ильфу, когда он писал этот роман, тоже было тридцать три (как, кстати, и Юрскому, когда он снимался в фильме). И в его «Записных книжках» есть строчки, где связь с романом, как мне кажется, очевидна:
Ему тридцать три года, а что он сделал? Создал учение? Говорил проповеди? Воскресил Лазаря?
Стало мне грустно и хорошо. Это я хотел бы быть таким высокомерным, веселым. Он такой, каким я хотел быть. Счастливцем, идущим по самому краю планеты, беспрерывно лопочущим. Это я таким бы хотел быть: вздорным болтуном, гоняющимся за счастьем, которого наша Солнечная система предложить не может. Безумцем, вызывающим насмешки порядочных неуспевающих.
Здесь есть важная лирическая нота, ключ к роману. В отличие от «Двенадцати стульев» «Золотой теленок» – книга, я уверен, драматическая, лирическая, в чем-то и горькая – о человеке, который не смог найти своего места в жизни, окружающей его.
Так вот, грустные записи Ильфа:
Я тоже хочу сидеть на мокрых садовых скамейках и вырезывать перочинным ножом сердца, пробитые аэропланными стрелами. На скамейках, где грустные девушки дожидаются счастья.
Вот и еще год прошел в глупых раздорах с редакциями, а счастья все нет.
В фантастических романах главное – это было радио. При нем ожидалось счастье человечества. Вот радио есть, а счастья нет.
Прочитав, вероятно, объявление какой-то физиологической лаборатории, что нужны люди, согласные подвергаться испытаниям:
'Требуется здоровый молодой человек, умеющий ездить на велосипеде. Плата по соглашению».
Как хорошо быть молодым, здоровым, уметь ездить на велосипеде и получать плату по соглашению.
Это одна из последних записей Ильфа.
Мне кажется, что этот грустный, иронический и лирический тон, в общем и Петрову довольно часто свойственный (он его стеснялся больше), как раз свидетельствует о том, что перед нами не просто юмористы, для которых смех – самоцель. У Ильфа и Петрова были цели гуманные, благородные, общекультурного свойства. Их жизнеутверждающий смех очеловечивает нас. Хотя, читая их книги, мы веселимся, казалось бы, совершенно бездумно.
Даже если предположить, что когда-нибудь исчезнут все недостатки, ими осмеянные… Трудно это предположить, правда? Потому что, наверное, все равно не исчезнет глупость. Человеческим порывам суждена очень долгая жизнь, их преодолеть очень трудно… Но даже если предположить, что мы в один прекрасный день окажемся без всего этого, – книги Ильфа и Петрова сохранят свое значение для нас. Потому что в них удивительно солнечное, оптимистическое отношение к жизни. Вера в то, что жизнь может и должна быть чище, лучше и благороднее.
Встреча третья. Театральные пародии
Лев Толстой, Виктор Буренин, Михаил Волконский, Константин Станиславский, Никита Балиев, Влас Дорошевич, Михаил Булгаков, Владимир Маяковский, Вуди Аллен, Юлиан Тувим о театре и людях театра с любовью и…
Сегодня мы будем разговаривать о литературно-театральной пародии. Обсуждаемый жанр несколько необычен, поэтому я сегодня буду не столько теоретизировать, сколько знакомить вас вживую с образцами этого замечательного и очень смешного жанра, по необходимости сопровождая их краткими комментариями.
В принципе, пародия – жанр, всем нам хорошо известный, а нынче даже как будто процветающий. Но, несмотря на то, что количественно пародий стало намного больше, сегодня культура пародии несколько у нас утрачена.
Живой наш классик пародийного жанра, телевизионная звезда Александр Иванов пишет в основном не столько пародии, сколько эпиграммы в форме пародий, стихотворные фельетоны. Ибо что он делает чаще всего? Он берет в качестве эпиграфа строчки из стихов мало известного или вовсе неизвестного поэта, очень смешные, ляпы в себе содержащие, глупость очевидную, иногда наивно-безграмотную, – и дальше в восьми четверостишиях доводит это головотяпство до логического конца, до абсурда, чтобы было еще смешнее.
Нужно сказать, что это удается не всегда, потому что поэты на этот счет самообслуживаются блистательно. Смешнее, чем они, уже трудно сделать, хотя виртуозность Иванова достигает каких-то геркулесовых столпов. Однако ему приходится дожимать интонацию, иногда даже быть грубым по отношению к поэту. Он откровенно признается, что волк – это санитар леса, а пародист – санитар литературы, орудие естественного отбора и так далее.
Но то, что он делает, все-таки не пародия, в основном. Почему? Потому, что главный признак пародии – это узнаваемость. Когда мы читаем пародию, мы должны узнавать, что' пародируется. И тогда мы как бы видим сквозь двойное изображение. Мы видим и пародируемый материал, и пародирующий, только слабости пародируемого, стиль его доводятся действительно до какого-то смешного состояния.
Но чтобы пародировать некий узнаваемый стиль, нужно наличие такового, а в нашей поэзии, в общем, не так много узнаваемых поэтов. Когда Иванов пишет пародию на Ахмадулину или Евтушенко, – это настоящая пародия, это смешно, и никакие эпиграфы не нужны. А во множестве других случаев (у него же сотни пародий!) все это никому неведомые члены Союза писателей, которых он честно смешивает с грязью.
Между тем сегодня мы немножечко забываем о подлинной сути этого жанра. Он многофункционален. Пародия может критиковать, отрицать, может быть признанием в любви пародируемому материалу. Тут вариантов возможно множество. Не хочу теоретизировать, тем более что о литературной пародии написано очень много. Есть замечательные на этот счет литературоведческие труды.
А вот с театральной пародией дело обстоит несколько иначе. О ней почти ничего не написано. Это удивительное явление существует, но для теории, для культуры его как бы нет. Поэтому мне придется поневоле здесь самому какие-то дефиниции вводить и такую рукодельную типологию театральной пародии перед вами разворачивать.
А ведь помимо черт, равно присущих театральной и литературной пародии (узнаваемость, доведение до логического конца, порой до абсурда, тех или иных свойств оригинала), – театральная пародия имеет ряд чрезвычайно интересных особенностей.
Итак, начнем с того, что театральная пародия – всегда актуальный или, если будет позволено использовать это слово, животрепещущий жанр.
Театр, вообще говоря, – дело кровавое, очень серьезное и ничуть не смешное. Это я говорю со всей ответственностью, поскольку всю жизнь свою так или иначе связан с театром, даже приходилось что-то делать на сцене, ставить какие-то, не Бог весть какие, но спектакли, и писать всю жизнь о театре, и дружить с людьми театра, и ссориться с ними…
Театр – дело, которое, по Пастернаку, «не читки требует с актера, а полной гибели всерьез». Ибо, выходя ежевечерне перед публикой, актер творит произведение искусства из собственных нервов, из собственной крови, из собственного тела, из собственных чувств, он жизнью расплачивается за успех, за аплодисменты или за неуспех, за шиканье и уходы из зала.
Сейчас существует такая медико-психологическая версия, что театр, давая возможность психологической разрядки, на самом деле способствует актерскому долголетию и помогает изживать те комплексы, от которых мы, простые смертные, не имеющие возможности выйти на сцену, страдаем и раньше времени отдаем концы. Но я не могу согласиться с этой теорией, потому что я видел, и вся история театра об этом повествует, какое все-таки это опасное, трудное и бесконечно серьезное дело. Бесконечно ответственное.
И, может быть, именно поэтому всегда рядом с театром существует его многократное отражение в зеркале юмора, в зеркале смеха, в зеркале пародии. Ибо это серьезнейшее дело требует разрядки, требует выплеска. Отсюда такое огромное количество актерских баек, анекдотов. И вроде бы только что он на сцене потрясал души трагическими эмоциями – и вот он уже за кулисами шутит и рассказывает истории о прошлогодних гастролях…
Мне кажется, что эта разрядка действительно жизненно необходима людям театра, ибо иначе напряжение становится почти смертельным. У меня нет возможности это доказать статистически, но весь опыт мирового театра доказывает, что это именно так.
И второе – может быть, еще более интересное. Театр ведь по природе своей сам весь есть ложь, обман. Любое искусство – ложь, любое искусство – вымысел. Не в плане высоко идеологическом. По тому плану оно – правда, вероятно. Но это – правда путем вымысла, правда при помощи лжи, правда средствами фантазии. А в театре эта кажимость – она на глазах, она возведена в квадрат: здесь марля притворяется бархатом, здесь мужчина притворяется женщиной, здесь тесное пространство притворяется всей вселенной. Сплошное притворство, карнавал!
Действительно, если взглянуть на театр наивным глазом, совершенно не будучи завсегдатаем театральных кресел, – Господи Боже мой, сколько здесь придуманного, искусственного, условного, буквально напрашивающегося на осмеяние и на пародию! Театр в этом смысле куда более уязвим, чем другие виды искусства. Скажем, кинематограф: то, что проецируется на киноэкран, безусловно, оно снято в настоящем лесу, как правило. А здесь – пыльный пенек какой-то, и тряпочки висят, изображающие зелень… Все притворство!
Мне кажется, что одна из самых замечательных театральных пародий принадлежит… Льву Николаевичу Толстому. В эпопее «Война и мир», во втором томе, он рассказывает о первом посещении Наташей Ростовой оперы. Он описывает спектакль, как бы глядя ее глазами. Глазами, по существу, ребенка. Или вольтеровского Простодушного, дикаря, попавшего в цивилизованное общество. Это та точка зрения, которую Толстой в себе сознательно культивирует, не принимая современного ему искусства, поскольку оно с его точки зрения, есть разврат и услаждение десятков тысяч и абсолютно чуждо народу.
Давайте взглянем на то, что видит Толстой вместе с Наташей Ростовой. Это пишет очень серьезный человек без всякого желания нас с вами рассмешить – это надо помнить.
На сцене были ровные доски посередине, с боков стояли крашеные картоны, изображавшие деревья, позади было протянуто полотно на досках…
То есть на сцене были не деревья, не дом, не дворец, а доски, полотно.
В середине сцены сидели девицы в красных корсажах и белых юбках. Одна, очень толстая, в шелковом белом платье сидела особо, на низкой скамеечке, к которой был приклеен сзади зеленый картон. Все они пели что-то.
Это эффект примерно тот же, какой бывает, когда мы выключаем у телевизора звук.
Когда они кончили свою песню, девица в белом подошла к будочке суфлера, и к ней подошел мужчина в шелковых в обтяжку панталонах на толстых ногах, с пером и кинжалом и стал петь и разводить руками.
Мужчина в обтянутых панталонах пропел один, потом пропела она. Потом оба замолкли, заиграла музыка, и мужчина стал перебирать пальцами руку девицы в белом платье, очевидно выжидая опять такта, чтобы начать свою партию вместе с нею. Они пропели вдвоем, и все в театре стали хлопать и кричать, а мужчина и женщина на сцене, которые изображали влюбленных, стали, улыбаясь, и разводя руками, кланяться.
Потом о самочувствии Наташи, ее переживаниях, и продолжается описание второго акта, где Толстой снова использует этот прием остраннения (привычное делает странным).
Во втором акте были картины, изображающие монументы, и была дыра в полотне, изображающая луну, и абажуры на рампе подняли, и стали играть в басу трубы и контрабасы, и справа и слева вышло много людей в черных мантиях. Люди стали махать руками, и в руках у них было что-то вроде кинжалов; потом прибежали еще какие-то люди и стали тащить прочь ту девицу, которая была прежде в белом, а теперь в голубом платье. Они не утащили ее сразу, а долго с ней пели, а потом уже ее утащили, и за кулисами ударили три раза во что-то металлическое, и все стали на колена и запели молитву. Несколько раз все эти действия прерывались восторженными криками зрителей.
Снова о Наташе, об Анатоле…
В третьем акте был на сцене поставлен дворец, в котором горело много свечей и повешены были картины, изображавшие рыцарей с бородками. Впереди стояли, вероятно, царь и царица. Царь замахал правою рукой и, видимо робея, дурно пропел что-то и сел на малиновый трон. Девица, бывшая сначала в белом, потом в голубом, теперь была одета в одной рубашке, с. распущенными волосами, и стояла около трона. Она о чем-то горестно пела, обращаясь к царице, но царь строго махнул рукой, и с боков вышли мужчины с голыми ногами и женщины с голыми ногами и стали танцевать все вместе. Потом скрипки заиграли очень тонко и весело, одна из девиц с голыми толстыми ногами и худыми руками, отделившись от других, отошла за кулисы, поправила корсаж, вышла на середину и стала прыгать и скоро бить одною ногой о другую. Все в партере захлопали руками и закричали браво. Потом один мужчина стал в угол. В оркестре заиграли громче в цимбалы и трубы, и один этот мужчина с голыми ногами стал прыгать очень высоко и семенить ногами.
В скобках Толстой замечает, уж вовсе накаляясь от ненависти:
(Мужчина этот был Duport, получавший шестьдесят тысяч рублей в год за это искусство.) Все в партере, в ложах и райке стали хлопать и кричать изо всех сил, и мужчина остановился и стал улыбаться и кланяться на все стороны. Потом танцевали еще другие, с голыми ногами, мужчины и женщины, потом опять один из царей закричал что-то под музыку, и все стали петь. Но вдруг сделалась буря, в оркестре послышались хроматические гаммы и аккорды уменьшенной септимы, и все побежали и потащили опять одного из присутствующих за кулисы, и занавесь опустилась. Опять между зрителями поднялся страшный шум и треск, и все с восторженными лицами стали кричать:
– Дюпора! Дюпора! Дюпора!
Вот попытка увидеть театр глазами беспристрастными, а в то же время чрезвычайно пристрастными. Ибо сколько Толстой ни изображает Простодушного, он все-таки понимает, что такое хроматическая гамма и уменьшенная септима. И тем не менее он пытается отрешиться от этого своего знания, от своего понимания и увидеть то, что, с его точки зрения, являло собой всю рутину, пошлость, мерзость театра.
Вроде бы Толстой в этом смысле прав. Рутины было чрезвычайно много. Например, в Александрийском театре в те годы играли затрушенные, запыленные пьесы из испанской жизни, написанные русскими драмоделами. В них царила смесь испанского или французского с нижегородским. Пьесы эти способны были вызвать ненависть в худшем случае, в лучшем случае – зевоту. И пародия это метко подмечала. Скажем, знаменитый русский журналист и общественный деятель Виктор Буренин, сперва человек левых убеждений и только позднее сделавшийся одним из самых одиозных сотрудников газеты «Новое время», высмеивал этот стиль в своей театральной пародии, которая называлась:
ДОН ВАВИЛЛО И ДОН ПАХОММО
Испанско-Александрийская трагедия с неожиданным началом и концом
Театр представляет роскошный дворец в испанско-александринском вкусе. Лунное освещение. (Та самая дыра в полотне, которая изображает луну у Толстого. – Б. В.) Вдали шумит Гвадалквивир.
Дон Вавилло
(отпив квасу)
Прекрасный квас, синьор! Его, конечно
Вы покупаете в той лавке, что на пьяццо
Дель Санкта Долороза, близ часовни
Пафнутия Толедского, не правда ль?
Дон Пахоммо
Так точно, дон Вавилло. Но скажите,
Как вы узнали, как проникли сердцем
Ту роковую тайну?…Изумляюсь!
Дон Вавилло
Вот видите ли, дон Пахоммо: дед мой,
Покойный командир Архип дель Морда,
При короле Альфонсе Арагонском
Служил пажом. А в те былые годы,
Не то, что ныне на балах придворных
Все веселились от души, и сам
Король Альфонсо часто сарабанду
Откалывал с своей супругой Бьянкой
Кастильскою, а после сарабанды
Севрюгу кушать он любил: ему
Из Петербурга привозили
От Смурова, севрюга ж, вам известно,
Способна жажду страшно возбуждать;
И вот, бывало, как монарх севрюги
Накушается вдоволь, то всегда
Покойному приказывал он деду:
«Архиппо, марш! Поди-ка и купи
Бутылку квасу в лавке близ часовни
На пьяццо Санкта Долороза». Вот
Все обьясненье тайны, что сейчас,
Синьор, вам роковою показалась.
Дон Пахоммо
Поистине чудесно… Но позвольте,
Ведь ваш покойный дед давно скончался,
А квас, который вы, синьор Вавилло,
Изволили хвалить, – он куплен Маврой,
Кухаркою моей, сегодня утром.
Как согласить событие времен
Прошедших невозвратно с сим явленьем?
Дон Вавилло
В природе, дон Пахоммо, очень много
Подобных совпадений. Иногда
Случается: намеренье питаешь
Две рюмки хереса или мадеры выпить,
А хватишь вдруг очищенной полштоф,
И пьян напьешься просто как скотина.
Со мной подобный случай был в Севилье
У герцогини Феклы де Груддасто
Раз в будуаре я любовью сладкой
Беспечно наслаждался… Герцогиня
Меня любила с страстию безмерной
И сердце мне любовию пронзила,
Вот точно так, как сей кинжал пронзит
Живот тебе, злодей, лишивший чести
Мою жену!
(Вонзает кинжал в дона Пахоммо.)
Дон Пахоммо
О, для чего я квасом
Поил его!.. Темно кругом… Кончаюсь.
(Умирает.)
Здесь мы как будто находим живое подтверждение правоты Льва Николаевича. Заодно мы обнаруживаем и второй вид театральной пародии. Если у Толстого пародия сугубо литературная – это описание воображаемого спектакля средствами повествовательной прозы, – то у Буренина пародия уже литературно-драматургическая: он осмеивает драму в форме драмы же. Правда, эта драма не предназначена для постановки. Ее нужно читать.
А возможен и третий вид театральной пародии – в форме собственно театральной, когда драма пишется для пародийного представления и потом разыгрывается на театральных подмостках. Вот к такой пародии мы сейчас и обратимся.
Вспомним, что Толстой ведь осмеивает не просто театр, а оперу. А это искусство, как известно, одно из самых рутинных и по сию пору. И если драматический театр худо-бедно переживает некие перемены, то в опере до сих пор обсуждается, как надо петь актеру: глядя на дирижера или, наконец, только кося на него одним глазом. Недавно писал об этом певец Большого театра Ворошило: вот как – будем петь современную музыку или не будем, будем петь по-прежнему на итальянском или, может быть, иногда что-нибудь понятное для зрителя споем?… Это напряженно обсуждается уже пару веков. И это привычное напряжение – мы, читая Толстого, узнаем и свои собственные впечатления об оперной сцене, даже о самых лучших оперных сценах, где звучат лучшие голоса.
Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?