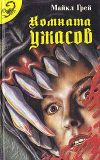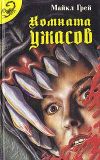Автор книги: Дмитрий Комм
Жанр: Биографии и Мемуары, Публицистика
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 1 (всего у книги 14 страниц) [доступный отрывок для чтения: 4 страниц]
Дмитрий Комм
Формулы страха
Введение в историю и теорию фильма ужасов
© Комм Д. Е., 2012
© Оформление, издательство "БХВ-Петербург", 2012
Все права защищены. Никакая часть электронной версии этой книги не может быть воспроизведена в какой бы то ни было форме и какими бы то ни было средствами, включая размещение в сети Интернет и в корпоративных сетях, для частного и публичного использования без письменного разрешения владельца авторских прав.
Вступление
Что есть фильм ужасов? Какие черты и признаки заставляют киноведов объединять огромный и совершенно разношерстный по темам, сюжетам и художественным приемам пласт кинокартин под этим названием? Каждая эпоха предлагала свой вариант ответа на данный вопрос – и раз за разом этот ответ оказывался несостоятельным. В 40–50-е годы американские кинокритики считали неотъемлемой принадлежностью этого жанра фигуру монстра, – хотя еще в 20-е годы европейская традиция фильма ужасов отдавала предпочтение созданию жуткой атмосферы действия, а не персонификации зла в конкретном персонаже. После того, как фильмы продюсера Вэла Льютона успешно доказали, что можно пугать публику, вообще не показывая монстра, а Дэвид Лин и Ноэль Коуард продемонстрировали, что фильм о привидениях запросто может быть комедией («Неугомонное привидение», Великобритания, 1947), причем даже не комедией ужасов, – «монстроцентричная» концепция хоррора «приказала долго жить».
Новое поколение специалистов в области жанровой теории предложило концепцию жанра как «формулы» (Джон Кавелти) или «чертежа» (Рик Олтман). Но и она, идеально подходя к жанрам вестерна, детектива или мюзикла, давала сбои при анализе фильмов ужасов. Понимание жанра как формулы включает в себя не только определенные сюжетные модели, но также и типичных персонажей, характерные нарративные приемы, круг тем и идей, свойственных данному жанру. Нетрудно определить типичных персонажей вестерна – шериф, наемные стрелки, певичка из салуна и т. п., равно как и обозначить его центральную тему – граница между цивилизацией и хаосом, законом и беззаконием; иногда внешняя, как в «Дилижансе» (1939) Джона Форда, иногда внутренняя, проходящая в душе героя, как в картинах Энтони Манна, но всегда являющаяся непременной составляющей вестерна, по крайней мере, в его американской версии.
Также легко разобраться с формулой и характерными персонажами детектива. Любой детектив, хоть классический, вроде произведений Агаты Кристи, хоть «крутой» в исполнении Дэшила Хэммета, всегда начинается с преступления, чаще всего – убийства, переходит к расследованию и сбору улик, в котором участвует главный герой – полицейский или частный сыщик, и завершается разоблачением (хотя и не всегда наказанием) преступника. В этом смысле советский фильм «Берегись автомобиля», в прологе которого закадровый текст сообщает: «Все мы любим детективы. Приятно смотреть фильм, заранее зная, чем он закончится», – точно характеризует взаимоотношения между создателями детективов и их потребителями. Публика действительно знает, чем начнется детектив и как он закончится; задача же его создателей – каждый раз заново переизобрести знакомую всем формулу, в очередной раз обмануть аудиторию, которая год от года становится проницательнее и уже способна вычислить преступника на первых минутах фильма (или на первых страницах книги).
Но, обращаясь к фильму ужасов, мы обнаруживаем, что он не обладает ни комплектом собственных, только для него характерных персонажей, ни таким же уникальным набором тем и идей. Ковбой из вестерна вполне может стать и героем фильма ужасов («Билли Кид против Дракулы», США, 1956), равно как может им оказаться частный сыщик, гангстер, почтальон, музыкант, секретарша – да и вообще представитель любой профессии. Хоррор также не имеет собственных сюжетных моделей, как правило, заимствуя их у детектива или у мелодрамы (подробнее об этом – в главе 1).
Единственное, в чем проявляется уникальность фильмов этого рода, позволяющая классифицировать их как единый жанр – это легко узнаваемый комплекс драматургических, стилистических, технических приемов, предполагающий эффективное манипулирование психологией восприятия, использование архетипов и мифов массового сознания. И здесь следует обратиться к другому определению жанра, также предложенному Риком Олтманом – жанр как «контракт», договор между создателями фильма и публикой, предполагающий получение зрителями определенного рода эмоций, часто заложенных уже в наименовании этого жанра. Все мы способны представить себе, какого рода диапазон эмоций предлагает фильм, на афишах которого написано «комедия». И хотя комедии бывают разными (характеров, ситуаций, нравов и т. п.), общие условия договора, по которому зрители платят деньги за билет, а создатели фильма средствами кино программируют получение ими определенных эмоций, понятны даже самым неискушенным посетителям кинотеатров. Если комедия не смешит, а фильм ужасов не пугает, зрители чувствуют себя обманутыми: контракт нарушен, обязательства, данные авторами, когда они квалифицировали свой фильм как комедию или хоррор – не выполнены.
Разумеется, я не предлагаю ставить определение жанра «хоррор» в зависимость от крепости нервов зрителя. То, о чем идет речь – это наличие в фильме определенной совокупности художественных приемов, которую можно назвать технологией страха, нацеленной на выполнение контракта со зрителем. Именно наличие технологии страха, а вовсе не присутствие на экране некого «предмета страха» (вампира, призрака, инопланетного чудовища), в конечном счете обеспечивает жанровую идентификацию произведения как фильма ужасов.
Иными словами, фильм ужасов – это не то, что показывается, а то как показывается. К примеру, сцены убийств могут присутствовать в любом жанре – от детектива до комедии. Но только в фильме ужасов они представляют собой самодостаточные зрелища, аттракционы, подобные музыкальным номерам в мюзикле – так называемым шоустопперам. Продолжительность этих сцен, как правило, не обоснована требованиями нарратива, они идут намного дольше, чем это требуется по логике действия, и нередко представляют собой нечто вроде маленького фильма в фильме – со своей завязкой, кульминацией и развязкой. При этом сцены убийств в фильмах ужасов нацелены не только на то, чтобы вызвать страх, но и доставить публике своеобразное удовольствие от того, насколько изобретательно выстроено само исполнение убийства, в какой степени оригинальна его «хореография», а также съемка, освещение и монтаж. Обычный зритель может не обращать внимания на эти вещи, но именно ими определяется общее впечатление, которое он получает от фильма. (Этот же принцип относится и к сценам нагнетания напряжения – они также могут становиться самодостаточными шоу-стопперами.)
Эта зависимость хоррора от стилистических приемов и средств выразительности подвигла некогда американского режиссера Брайана Де Пальму на радикальное утверждение: «Из всех жанров фильм ужасов ближе всего стоит к идее чистого кино»[1]1
Brian De Palma interviews: edited by Laurence F. Knapp // USA. 2003. P. 68.
[Закрыть]. Следствием тотальной зависимости фильма ужасов от вопросов формы явилась эстетизация смерти и убийства – одно из самых провокационных качеств этого жанра, с годами превратившее его в объект культа, о котором написано едва ли не больше исследований, чем обо всех остальных жанрах, вместе взятых.
Сказанное ранее не означает, что собственно предметы страха (те, кого боятся персонажи фильма: вампир, маньяк-убийца и т. п.) не имеют совсем никакой значимости. Однако их связь с технологией страха условна. Предметы страха есть порождения социокультурного контекста, в котором создается произведение, они могут «устаревать», выходить из моды, заменяться новыми. Веками культура продуцирует и накапливает предметы страха. В этом проявляется одна из ее важнейших функций: преодоление универсального базового страха человечества – страха хаоса, осознания собственной конечности. (Согласно Дэвиду Кроненбергу, «основа хоррора – в том, что мы не знаем, как умрем».) Преодоление страха происходит посредством его «называния», опредмечивания и локализации в конкретном персонаже или явлении. Нельзя победить хаос, но можно уничтожить маньяка-убийцу, этот хаос олицетворяющего. Разумеется, базовый страх при этом не исчезает, а потому требуется бесперебойное производство все новых предметов страха взамен «побежденных». Вампиры и оборотни, безумные ученые и взбунтовавшиеся машины, евреи и коммунисты, шпионы и вредители, террористы и инопланетяне – каждая эпоха рождает как собственные предметы страха, так и отчасти наследует те, что были созданы ранее. Страницы газет и телевизионные новости сегодня дают нам больше предметов страха, чем все фильмы ужасов вместе взятые.
Смысл технологии страха противоположен: она должна преодолеть локализацию предмета страха, разрушить его границы и высвободить заключенный в нем базовый страх. Заставить зрителя увидеть то, что нельзя показать, хотя бы на секунду выпустить на экран энергию хаоса – вот сверхзадача любого фильма ужасов, не важно, осознают это его создатели или нет. Только в этом случае возможно эстетическое переживание страха, с которым и связано рождение хоррора как художественного произведения. Читатель готического романа наслаждался своим страхом. Альфред Хичкок называл свои триллеры «тортами», потому что он умел смаковать страх. Саспенс – классический пример эстетического переживания страха путем растягивания его на максимально длительный промежуток времени.
Возможно, результатом недооценки технологий страха стал кризис фильма ужасов в современном кино. В 90-е годы наблюдалось перепроизводство предметов страха – начиная от грядущего апокалипсиса и клонирования и заканчивая уже ставшими старомодными маньяками-убийцами, – но при этом почти полное отсутствие страшных фильмов. (Между тем фильмы, которые формально относились к жанру хоррор, выходили в огромном количестве – как высокобюджетные, вроде «Мумии», так и независимые, типа «Крика».) Хоррор отказался от своей поэтики и «экшенизировался». Мгновенный шок на какое-то время стал основным приемом игры со зрителем, а фильм ужасов превратился в разновидность экшена, где если и присутствовал саспенс, то лишь в таком выражении: «Я дерусь с монстром, кто победит?»
Правда, в последние годы ситуация изменилась. «Ведьма из Блэр» и японский «Звонок» вернули нам лавкрафтовский идеал «космического ужаса» – дистиллированный, очищенный от культурных напластований и сексуальных обертонов первобытный ужас, когда люди твердо знали: нельзя произносить имя демона, а то он придет и сожрет твою душу. «Девятые врата» и «Клетка» возрождают иную, европейскую традицию страшного – артифицированную, неразрывно связанную с сексуально-магическими ритуалами и начиненную многослойными культурными кодами. Очевидно, кризис жанра может быть преодолен. В преддверии этого события и следует поговорить о технологии страха, наработанной за первое столетие кино.
Часть I
Мистики и декаденты

Глава 1
Истоки кинематографического хоррора. Готический роман и классический детектив. Романтическая концепция «поэтического ужаса». Образ Медузы: ужас, как высшая форма красоты. От романтизма к декадансу. Восстание масс и фантастическое кино.
Никто не знает точной даты рождения фильма ужасов как формульного произведения. Но страх сопутствовал кинематографу буквально с момента первого кинопоказа братьев Люмьер, когда зрители выбегали из зала, испугавшись зрелища прибывающего поезда. Возможность воспроизводить свет, тени и образы на экране в те времена сама по себе воспринималась как чудо, и это чудо нередко принимало жутковатый характер.
Откровенно жуткими были, например, киносъемки Британского общества психиатрических исследований в начале прошлого века. Вопреки названию, общество занималось не вопросами психиатрии, а исследованиями в области оккультизма, спиритизма и парапсихологии. Его члены использовали технические средства: дагерротип, фотографию, а с 1898 года и киносъемку, пытаясь запечатлеть на пленке то, чего не видит «недостаточно чуткий» человеческий глаз: например, момент отлета души от тела. С этой целью они снимали умирающих замедленной съемкой, а также проводили съемки в известных домах с привидениями и во время спиритических сеансов, дабы документально доказать существование «эктоплазмы». Артур Конан Дойл, являвшийся активным членом этого общества, а в течение некоторого времени и его председателем, в своей фундаментальной «Истории спиритизма», впервые опубликованной в 1926 году, посвящает целую главу тому, что он именует «психической фотографией», и описывает десятки экспериментов в этой области, каждый из которых мог бы послужить основой для настоящего мистического триллера[2]2
Конан Дойл А. История спиритизма // Звезда. СПб., 1998. С. 333–352.
[Закрыть]. Некоторые и послужили: эксперименты спиритов начала века легли в основу британских фильмов ужасов «Асфикс» (Питер Ньюбрук, 1972) и «Фотографируя фей» (Ник Уиллинг, 1997), а режиссер японского «Звонка» Хидэо Наката утверждал, что, создавая в своем фильме эффект «призрачной» видеозаписи, вдохновлялся «психическими фотографиями» спиритов.
Возможно, именно Конан Дойла стоит считать изобретателем первой формулы страха. Готические романы, написанные до него, как правило, были результатом мучительных озарений, терзаний духа, романтических переживаний, это были штучные произведения, и мало кому из авторов удавалось повторить свой успех. Формально Конан Дойл никогда не работал в жанре ужасов, но в рассказах о Шерлоке Холмсе изобрел некую технологию, сумму приемов, позволявших раз за разом безошибочно программировать читательские эмоции. Он усовершенствовал эти приемы до того, что сумел овладеть не только умами читателей, но и кошельками издателей. Он был первым в истории культуры профессиональным конструктором страха.
Вот типичная модель рассказа о Шерлоке Холмсе. К знаменитому сыщику является посетитель и излагает историю, которая может не содержать ничего пугающего или даже криминального. Но она обязана быть странной, алогичной, необъяснимой (момент первого проявления «жуткого», который позднее в кинематографе ужасов укоренится в снах или видениях героя). Словно нарисованные детской рукой человечки, велосипедист, регулярно возникающий на пустынной сельской дороге и исчезающий неизвестно куда, странное желтое лицо, появляющееся за окном пустующего дома – сами по себе эти события еще не несут опасности. Но они непонятны, необъяснимы и потому тревожат. Маленький сбой в привычном порядке вещей заставляет подозревать присутствие зловещего Нечто, опасности, не персонифицированной и оттого непредсказуемой и еще более грозной.

Обложка журнала «Стрэнд», где печатались рассказы о Шерлоке Холмсе (1924)
На этой почве взрастут позднее чудовищные фантазмы Говарда Лавкрафта, а сам он с трогательной простотой сформулирует свой метод в эссе «Сверхъестественный ужас в литературе»: «В произведении должна присутствовать атмосфера неведомого, от которого захватывает дух, а еще должен быть намек на то, что известные человеку законы природы, его единственная защита от демонов хаоса, вовсе не так незыблемы, как нам внушали с детства». Словно о «Собаке Баскервилей» написано.
Когда волнение читателя достигает апогея, в дело вступает Холмс. Вооруженный лишь гиперрациональным мышлением, напрочь отрицающим ограниченность логики и непостижимость законов бытия, он объявляет бой хаосу и неизменно побеждает. Холмс объясняет тайну, вновь делая окружающую действительность понятной, а, следовательно, безопасной.
Безопасность и порядок вещей, истина, которая укрощает холод и безумие, – вот чем торговал Артур Конан Дойл. И выторговал-таки себе бессмертие. Подобно спиритической «эктоплазме», нечто жуткое и потустороннее, как лицо Медузы Горгоны, на секунду проступало со страниц его книг, заставляя читателя внезапно каменеть от страха. Но тут же растворялось в рациональных толкованиях Холмса, позволяя добропорядочному читателю из викторианской Англии, отложив книгу, зевнуть и благодушно поразмышлять перед сном о всесилии человеческого разума. А писатель, убедивший его, что всему на свете есть логичное объяснение, сидел в это время на спиритическом сеансе и общался с духами.
Итальянский культуролог Карло Гинзбург в работе «Приметы. Уликовая парадигма и ее корни» отмечает сходство между дедукцией Шерлока Холмса и методами психоанализа, фактически ставя знак равенства между понятиями «расследование» и «лечение». Такую же аналогию можно провести между «тайной» и «болезнью». Герои рассказов Конан Дойла словно заболевают тайной, их поведение напоминает симптомы паранойи, и они обращаются к сыщику-доктору за излечением. Известное высказывание К. Г. Юнга: «По старинному поверью, божество или демон говорит на символическом языке спящему, а толкователь снов имеет своей задачей разгадать эту странную речь», – идеально описывает построение действия в этих рассказах; если за «странную речь» принять язык улик, то «божество или демон», говорящее на этом языке, есть выглядящая сверхъестественной тайна (лавкрафтовское Неназываемое), ну а толкователем выступает, разумеется, Шерлок Холмс. В этом случае формула, изобретенная Конан Дойлом, выглядит так: тайна + расследование = выздоровление.
Но параллельно с конан-дойловской возникает другая формула построения «жуткого» сюжета. Формула, в которой разгадка тайны оказывается еще более иррациональной, чем сама загадка, и, объясняя механику преступления, по сути, не объясняет ничего, не снимает с читателя напряжение, оставляя его в еще большем смятении перед неведомым. Прообраз такой формулы можно найти в «Лунном камне» Уилки Коллинза, где после ряда странных и страшных событий главный герой, благороднейший мистер Фрэнклин Блэк, обнаруживает истину: он сам украл алмаз, находясь в состоянии сомнамбулизма. На фоне этой алогичной развязки на второй план отходит другое, еще более зловещее обстоятельство романа: проклятие Лунного камня, в которое отказывались верить действующие лица, сбылось – все владельцы сокровища неизменно умирают насильственной смертью.
История об ужасной истине, сокрушающей рассудок героя, известна литературе со времен «Царя Эдипа». Однако нас она интересует не в качестве философской метафоры Софокла, но как поставленный на поток драматургический прием, который предполагает разгадку страшнее самой тайны, а не только сюжет, где сыщик сам оказывается преступником. Если у Конан Дойла разгадка ассоциируется с выздоровлением, то формула, которую мы условно назовем «коллинзовской», такова: тайна + расследование = безумие.
Впоследствии эту формулу можно будет обнаружить в романах Уильяма Айриша и Буало – Нарсежака, фильмах Анри-Жоржа Клузо, Романа Поланского и Дарио Ардженто, а наиболее радикальный вариант – в мистическом триллере Алана Паркера «Сердце Ангела», где осуществлен немыслимый идеал «коллинзовского» сюжета: жертва, расследующая собственное убийство, обнаруживает, что сама и является убийцей.
Альфред Хичкок успешно работал с обеими формулами. Но больше с «конан-дойловской»: практика Голливуда не позволяла оставлять после завершения фильма смятение в зрительской душе. Поэтому Хичкок умудрялся делать «конан-дойловские» картины даже по «коллинзовским» литературным произведениям. Так случилось с «Головокружением», снятым по роману Буало-Нарсежака «Из страны мертвых». Роман был историей погружения героя в безумие – фильм стал рассказом о его выздоровлении. Героя романа истина уничтожает. Узнав ее, он, уже поверивший в переселение душ, окончательно теряет связь с реальностью, убивает свою подругу и остается возле трупа ждать ее следующей реинкарнации. Героя фильма истина излечивает. После смерти героини, упавшей с церковной колокольни, он, ранее боявшийся высоты, подходит к самому краю и смотрит вниз. Он избавился от своего головокружения, как и от страха перед жизнью, пусть даже для этого ему и пришлось заглянуть в бездну.
Разумеется, формула хоррора-расследования (назовем ее так) не является единственно возможной для жанра. В литературе викторианской Англии нетрудно обнаружить и сюжетную модель хоррора-мелодрамы, – например, в «Дракуле Брэма Стокера». В этом романе имеется своего рода любовный треугольник, где вампир выступает в качестве «разлучника коварного», встающего между влюбленными Джонатаном и Миной. Именно в мелодраматическом ключе и будут выдержаны большинство экранизаций «Дракулы», начиная с одноименного фильма Тода Броунинга 1931 года.
Возникнув на заре формирования массовой культуры, обе эти формулы оказались базовыми для фильма ужасов ХХ века и успешно добрались до наших дней. Так «Дракула Брэма Стокера» Френсиса Форда Копполы (1992) по-прежнему является мелодрамой ужасов, в то время как темой фильмов «Клетка», «Девятые врата», «Звонок», является противостояние хрупкого человеческого разума и иррациональной необъятности тайны, они основаны на принципе расследования и заняты толкованием улик-символов.
* * *
Если основные сюжетные модели фильм ужасов заимствует у викторианской литературы, то своими темами и образами он обязан куда более разнообразным источникам. В художественном решении фильмов жанра хоррор причудливо соединяются две культурные традиции, ранее почти никогда не пересекавшиеся.
Первую из них можно условно обозначить как традицию элитарного или «поэтического» ужаса. Ее истоки лежат в живописи эпохи барокко, литературном и живописном наследии так называемого «черного романтизма» и, прежде всего, в готическом романе.
Сам термин «готика» возник в XVIII веке и поначалу носил пренебрежительный оттенок. Готы не строили готических зданий, и упоминание о них означало просто, что данный архитектурный стиль является устаревшим, безнадежно архаичным, «вышедшим из моды». Тому имелись идеологические обоснования. В эпоху Просвещения все, что принадлежало Средневековью, воспринималось интеллектуальной элитой как мракобесное и реакционное (в силу своей связи с религиозным сознанием), и лучше всего смысл, который вкладывали тогдашние мыслители в понятие «готика», передается словосочетанием «при царе Горохе (при готах) построенное». Потребовались титанические духовные усилия эпохи романтизма, чтобы готика начала восприниматься иначе: как обозначение произведения, повествующего о столкновении человека с потусторонним миром, как символ религиозного мистицизма, противостоящего рационализму и деизму Просвещения.
Готический роман как литературное направление появился гораздо раньше, чем движение романтизма. Первый «официальный» готический роман «Длинная шпага» Томаса Лиланда был опубликован еще в 1762 году, «Замок Отранто» Горация Уолпола – в 1764-м, «Влюбленный дьявол» Жака Казота – в 1772-м, «Ватек» Уильяма Бекфорда – в 1782-м, в то время как возникновение романтического движения в Англии и Германии принято относить к 90-м годам XVIII века. Однако мощный духовный поток романтизма вобрал в себя нарождавшийся ручеек литературы тайны и страха, обогатив ее своими мистическими озарениями и сделав одним из основных выразителей бунта против «религии разума».
Это была эпоха духовного смятения и интеллектуального хаоса. Разочарование образованных людей в авторитетах церкви и государства, лицемерие философов («Я сомневаюсь, чтобы простые люди имели время или же способности к образованию, – писал в частном письме апостол Просвещения Вольтер. – Кажется необходимым, чтобы существовали невежественные бедняки»)[3]3
Доусон К. Боги революции // СПб., 2002. С. 99.
[Закрыть], расчетливый цинизм нарождавшегося третьего сословия – все это вместе взятое рождало атмосферу тотальной дезориентации. Французский литературовед Огюст Виатт в книге «Оккультные источники романтизма» так описывает предшествующую эпоху: «Находясь под диктатом рационалистов, осознавая свои пределы, человек конца восемнадцатого столетия находил убежище среди призраков; он удовлетворял свою ностальгию чудесами, творимыми колдунами и шарлатанами, он отвергал материальный мир и отказывался признавать его реальность… Вся культура рушилась»[4]4
Viatte A. Les sources occultes du romantisme // Paris, 1928.
[Закрыть].
В этом нездоровом климате, когда в воздухе уже витало предчувствие ужасов французской революции, родилась литература, получившая название готической – от соответствующего архитектурного стиля. Но готика не была декорацией в этих романах; она несла в себе важный содержательный заряд. Для образованного, просвещенного человека той эпохи средневековые замки, склепы, руины монастырей были не просто экзотикой – они представляли собой некое чуждое, а потому одновременно притягивающее и пугающее пространство. Странные каменные мешки, наглухо изолирующие своих обитателей от внешнего мира, лабиринты узких коридоров и подземных ходов, назначение которых давно забылось, причудливые артефакты, в окружении которых даже время текло в ином ритме, – готика была чем-то вроде подсознания Европы того времени. В каждом замке жили духи прошлого; каждый камень хранил память о подвиге или злодеянии; каждая дверь вела в потайную комнату с фамильным скелетом внутри. Однако рационализм XVIII века ничего не хотел знать про прошлое, кроме того что оно было косным, невежественным и давно вышло из моды. Для тех, кто провозгласил культ разума, бессознательное являлось злейшим врагом. И тогда готический роман страшным призраком встал на пути просвещения, убедительно доказывая читателям, что они не так разумны, как им кажется, и все еще способны чувствовать поэзию сверхъестественного в ночных завываниях ветра или раскатах грома в грозу. Литература и живопись романтизма воздвигли культ мистического переживания, суть которого, по определению Виктора Жирмунского, заключалась в способности «видеть бесконечное в конечном»[5]5
Жирмунский В. Немецкий романтизм и современная мистика // СПб., 1914.
[Закрыть].
Однако наряду с мистицизмом, готический роман имел еще одну, не менее важную особенность. Он давал возможность затронуть в фантастическом антураже табуированные темы, как правило, сексуального (но иногда и политического, как в повести Шарля Нодье «Мадемуазель де Марсан») характера, которые в реалистическом произведении стали бы основанием для цензурного запрета. Уже один из первых и самых знаменитых готических романов – «Монах» англичанина Мэтью Грегори Льюиса – вызвал скандал и обвинения в непристойности и богохульстве. Даже Байрон (не без доли ревности, вероятно) назвал этот роман «фантазией пресыщенного сластолюбца, стремящегося возбудить себя». Помимо того что на страницах «Монаха» перед читателем проходил парад всевозможных перверсий, в нем еще и содержались антихристианские рассуждения, достойные Ницше, вроде того, что «даже в анналах борделя трудно найти больший выбор непристойных выражений, чем в Святом Писании». Лишь тот факт, что перлы эти изливались из уст монаха-расстриги Амбросио, продавшего душу дьяволу и в финале получившего заслуженную кару, спасли книгу от запрета. Скандальность «Монаха» немало способствовала его успеху: роман, впервые опубликованный в 1796 году, к 1798 году имел уже четыре переиздания.
История «Монаха» не уникальна и в полной мере выражает грядущую одержимость романтизма болезненным, деструктивным эросом. Лучше всего эту ключевую концепцию сформулировал Перси Биши Шелли. В 1819 году, путешествуя по Италии, он увидел в галерее Уффици изображение головы Медузы Горгоны и был потрясен сочетанием красоты и жестокости, наслаждения и страдания, запечатленным на картине. Шелли описал этот союз как «непреодолимое очарование ужаса» (tempestuous loveliness of terror). Синтез казалось бы несовместимых элементов – красоты и ужаса, очарования и жестокости – стал фактически программой европейского романтизма и спустя несколько десятилетий был адаптирован движением декаданса. «Эти наваждения преследовали цель не только представить красоту и жестокость как единый союз, но также запечатлеть ужас в красоте и наслаждение красотой ужаса. Жестокая красота Медузы есть символ этого синтеза… Согласно лихорадочным представлениям романтизма стремление к смерти и сексуальная страсть сливаются в жажде выхода за пределы освященных церковью границ», – пишет Клаус Креймейер в статье «От Вампира к Вамп: бэкграунд кинематографического мифа»[6]6
Kreimeier K. From Vampire to Vamp. On the Background of a Cinematic Myth: сборник «Artificial Humans» // Berlin, 2000. Р. 80.
[Закрыть].
Идея ужаса как высшей формы прекрасного, смерти как апогея наслаждения, представленная уже в «Коринфской невесте» (1797) Гете, достигла кульминации в новеллах Теофиля Готье «Любовь мертвой красавицы» (1836) и Проспера Мериме «Венера Илльская» (1837). Эти писатели перекинули мостик от готического романа к мистической литературе декаданса – эпохи, когда даже на почтовых открытках можно было найти изображения черной мессы и сопровождающих ее оргий, а танцовщицы и актрисы позировали для фотографий в образах Саломеи, Юдифи, Клеопатры и других мифических женщин-вамп, убивавших своих любовников.
В эпоху декаданса искусство начинает восприниматься как нечто в буквальном смысле «искусственное», предельно артифицированное, окончательно подменяющее собой природу, которая для романтиков еще служит источником поэтического и мистического озарения. Гипертрофированный эстетизм декаданса отвергает естественное и предпочитает рассматривать самого человека как объект искусства. Основоположник движения эстетизма Теофиль Готье с равным вдохновением описывает красоту женщины, статуи, античной вазы или трупа. Декаданс, достигший апогея в живописи поздних прерафаэлитов, символизме и движении Art Noeveau, отвергает этику и возводит перверсии – в первую очередь гомосексуализм и некрофилию – в статус высокого искусства. Наряду с культом андрогина как высшей стадии красоты, он создает культ смерти и убийства как наиболее радикального художественного акта. Художник декаданса – эстет и фетишист – видит убийство как своего рода творческий процесс, а труп – как арт-объект, достойный детального описания и даже восхищения. Именно так Пьер Луис живописует красоту мертвой Кризи в финальной главе «Афродиты», именно так Эжен Делакруа показывает убийства наложниц в «Смерти Сарданапала». «Чем больше мы узнаем искусство, тем меньше нам интересна природа» (Оскар Уайльд).

Фернан Кормон. «Убийство в серале> (1874)
В эту эпоху рождается кинематограф, и в своих первых фантастических произведениях он впитывает как мистический экстаз романтизма, так и мрачные эротические наваждения декаданса. Уже «Пражский студент» Стеллана Рие и Пауля Вегенера (1913), с его позаимствованной у немецких романтиков темой зловещего двойника – доппельгангера, почти целиком снятый на натуре в пражской Малой Стране и на улице Алхимиков, демонстрирует, что кино способно на равных конкурировать с литературой и живописью в передаче самого духа черного романтизма. А сценарист и сопродюсер «Пражского студента», классик немецкой мистической литературы Ганс Гейнц Эверс пишет в рассказе «Белая девушка»: «…я знаю Венеру, которая превращается в Эроса. Я знаю Венеру, которая надевает меха и размахивает бичом. Я знаю Венеру в образе Сфинкса, кровожадно вонзающего когти в нежное детское тело. Я знаю Венеру, которая сладострастно нежится на гнилой мертвечине, и я знаю также мрачную богиню любви, которая во время черной мессы приносит гнусную жертву Сатане над белым телом девы… Я знаю испорченнейшую Венеру… или, быть может, я должен сказать „чистейшую”, которая сочетает браком человека с цветами… Неужели вы после всего этого полагаете, что богиня любви может надеть такую маску, которая окажется для меня новой?»
Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?