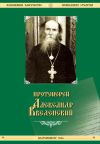Текст книги "Дивертисменты"

Автор книги: Элисео Диего
Жанр: Классическая проза, Классика
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 1 (всего у книги 11 страниц) [доступный отрывок для чтения: 3 страниц]
Элисео Диего
Дивертисмент
Прелисловие. Зеркала памяти
(О прозе Элисео Диего)
Душа сказочника счастливо обитает в Элисео Диего. Автор восьми поэтических, трех прозаических книг и ряда литературных эссе, он занимает особое место в ярком созвездии кубинских мастеров старшего поколения. Его произведения источают магический – магнетический – свет, привлекают своей исповедальной простотой, невыспренностью (хотя и непростым подчас выражением мысли), незаметно вовлекают читателя в куда как не простые поиски ответов на изначальные вопросы, которые ставит человек, стремящийся определить то человеческое, что отличает его от всего остального мира.
И в стихах и в прозе Элисео Диего прежде всего лирик. По определению известного советского литературоведа Лидии Гинзбург, лирика и есть «прежде всего разговор об основных человеческих ценностях или о том, что их разрушает, уничтожает».[1]1
Л. Гинзбург. О старом и новом. Изд. «Советский писатель», 1982, с. 16.
[Закрыть] Элисео Диего крайне обостренно, драматически переживает противоречие между идеалом и компромиссом, между возрастом ребенка и возрастом взрослого, между творением и разрушением. Переживание этого противоречия мощно обнаружилось в первой его поэтической книге «На улице Хесус-дель-Монте» (1949) и с той поры не покидает его.
Как и в стихах, в своей прозе Элисео Диего поэт. И в том, что он видит, на чем останавливает свое внимание, что выбирает для своих произведений, и в том, как он пишет, каким материалом пользуется, как строит свои произведения. Видение Элисео Диего как бы двойное: его взгляд, скользящий как бы по внешней поверхности реального мира, видит и подспудную природу вещей. Этот странный стереоскопический эффект моментально переносит читателя в область на первый взгляд нереальную – в мир волшебства, магии, фантастики: три сестры, перерезая нити ковра, обрывают чьи-то жизни; человек, загромоздивший дом вещами, полагает, что смерть, которая придет за ним, заблудится и уйдет; хозяин дома, о котором прислуга имеет противоположные суждения и которого на самом деле как бы и вовсе нет; юноша, побывавший в Атлантиде… Условия каждой фабулы принимаются читателем тут же, ибо сам автор глубочайшим образом убежден в реальности нереального – того, что приходит людям на ум, того, что может привидеться, присниться, примниться. Во многих рассказах это проникновение «под оболочку» происходит почти незаметно. Что-то странное окутывает повествование, словно бы возникает дополнительный свет или какой-нибудь посторонний – потусторонний – звук, и вот мы, сами того не замечая, вместе с автором перешли рубеж между реальным и фантазией, преодолели некий сверхсмысловой барьер.
Читая прозу Элисео Диего, словно присутствуешь при поиске ответа на вопрос: что было бы, например, если бы… Если бы автомобили восстали против людей?… Или если бы можно было вернуть детство, переселившись в дом, где оно прошло? Некоторые сюжеты Элисео Диего традиционно сказочны и чем-то очень близки Андерсену, как, например, в рассказе о строптивой марионетке, которая стала водить на нитях руки Маэстро, или в притче о бронзовом стоке, который объявил войну человеку. Вся эта кажущаяся условность, «сослагательность», позволяет Элисео Диего творить буквально чудеса: спасать невинно обиженных, наказывать злоумышленников, стяжателей, объяснять загадочное. Это сражение писателя – пусть и пером на бумаге – за лучшее устройство мира, за лучший удел в нем человека глубоко гуманно, и начал он его в трудные для Кубы 40-е годы, о которых Элисео Диего вспоминал впоследствии как об эпохе «дьявольского фарса, в котором профессора были торговцами, политики – ворами, правители – марионетками, а жизнь нации – трагикомедией».
При всей фантастичности сюжетов пространство прозы Э. Диего – истинно кубинское пространство. Сельский и городской пейзажи, растительный и животный мир тропиков и архитектура – от колониальной до современной, гамма цветов и звуков, течение дня от рассвета, через нестерпимую жару и духоту, к сиесте, а затем к предвечерью и фантасмагорическим по раскраске закатам – все это Куба. И персонажи: простолюдины, бывалые люди, труженики, мастеровые, торговцы – узнаются как кубинцы, даже когда не называется место действия, они – кубинцы своею речью, жестами, вкусами и пристрастиями, отношением к вещам и событиям.
Бросается в глаза любовь Элисео Диего к миру неодушевленному. Вещи у него – и не вещи вовсе, а почти разумные существа, все эти стулья, кресла и качалки, кастрюли, ножи, что уж говорить о шахматных фигурах! Предметы обстановки похожи на животных; одушевлены и даже наделены характерами, порою несносными, не только дома и деревья, но облака и закаты, дождь и туман. И весь этот внешний мир одновременно – проекция внутреннего мира Элисео Диего, воплощение в окружающую его действительность его самого, его взглядов на жизнь, его этики.
Идеальным человеком считает Элисео Диего ребенка. Дети в его произведениях великолепны. Это тонкие мыслители, художники и психологи, всевидящие справедливцы и честные воины. И также идеальны немногие старцы, не продавшие душу многоликому дьяволу, выглядывающему прямо или косвенно из многих, чуть ли не из всех сюжетов Элисео Диего, – те немногие старцы, которые на склоне своих лет смыкаются в цикле жизни с одержимо честными детьми. В кодекс чести Элисео Диего одним из первых входит и благородство. Даже смерть против абсурдности убийства, когда – в рассказе «Игра» – она, в облике красивой девушки, видя, что ребенок глядит на повешенную собаку, бормочет: «Нет, не по справедливости это!»
В своем труде «Кубинское в поэзии» выдающийся кубинский литературовед и поэт Синтио Витиер первым обратил внимание на одну из характернейших особенностей поэтики Элисео Диего – на огромную важность памяти, процесса вспоминания, на то значение, которое у Элисео Диего приобретает волшебная субстанция памяти, погружаясь в которую вещи обретают вечность, святость. Эта, как сказал сам Элисео Диего, «главная привычка вспоминать» и обусловливает появление в его произведениях некоего магического времени – фона, на котором происходит, по словам Синтио Витиера, «разрастание вспоминаемого материала». В сущности, Элисео Диего и занимается переправой дел человеческих из пространства места в пространство времени, из повседневного – во вневременное. Почти постоянное присутствие этих временных параметров от ограниченного (суетного) до безграничного (несуетного) придает произведениям Элисео Диего удивительную объемность. А само время у Элисео Диего не только арена действия, но и действующий в разных обликах герой.
Сердце этого выдающегося мастера открыто всем радостям и печалям мира. Точные слова запечатлевают неуловимые состояния природы, тончайшие движения души, мимолетные образы мира. Не сказать – все равно что умереть. Сказать излишним количеством слов – все равно что убить свое детище. Элисео Диего верен своему делу, и оно любит его. На протяжении вот уже сорока с лишним лет он кропотливо и влюбленно творит в стихах и прозе свое поэтическое «кубинское пространство», закрепляя его в пластичных и внешне неброских образах семьи, домашнего очага, ремесла, в картинах жизни городских предместий и поселков, поднимая обыденное, преходящее до уровня высокого, вечного.
Павел Грушко
Из книги «В сумрачных ладонях забытья»
(1942)
История о Негре-Бездельнике
Смутное беспокойство почувствовал я в тот вечер, когда мама сказала, что мы едем в поместье с высокой черной башней, столь притягательной на горизонте для наших взглядов. Вокруг башни теснились тени, это было каменное сердце, могучее, хотя и недужное, и оно обрастало плотью ночи, орошая ее кровью. Этакий черный гигант высился посреди поля, нависая над домом, и этот гигант делал порою несколько нескладных шагов в сторону, порываясь затмить своими руками округу, пока божьи ангелы не загоняли его обратно ударами бичей.
И еще мама сказала, что я могу взять с собой клетчатое пальтишко, это меня немного успокоило – в нем я чувствовал себя, как святой Георгий в его доспехах. Как святой Георгий на черно-белых иллюстрациях, вечно неподвижный, застывший над драконом, уснувшим у его ног, или как святой Георгий, когда он наклоняется над серой гравюрной водой и над черными цветами, глядя на непостижимых рыб в воде иного мира; а этот мой страшный вечер сам представлялся мне рисунком, в который я должен был проникнуть; когда, войдя в двери и заняв свое место, я успокоюсь и замру, никто не сможет изменить хотя бы один штрих на картине моей победы, где была бы башня, разбитая, лежащая у моих ног, как побежденный, выдохшийся пес.
И гигантские дети пришли бы заглянуть в эту мою книгу, порадовались бы картинке, где мальчик побеждает на своем поле врага – того, что распугивал голубей Дядюшки Элисео. Последнее особенно меня волновало: поглядели бы вы, как они в сумерках спасались, сильно взмахивая крыльями, улетая в сторону пещер-голубятен, безмолвно роняя свои белые перья, которые темнели и разлохмачивались, как только оставались наедине с ветром. Затем, после мгновенного затишья, объявлялась ночь, похожая на громадную, невероятно тяжелую стопу, – вся плоть, вся кровь, весь костяк ночи. И тут же зажигались свечи и лампы.
Автомобиль остановился у портала большого каменного дома. Но прежде мы проехали мрачный парк, где каждая посыпанная гравием дорожка вела к «Видениям». Одна, обсаженная черно-зелеными островерхими соснами, уводила к «Видению Мельницы», там люди носили черносуконные, расходящиеся в ширину капюшоны. Не знаю, точно ли это были люди – может, под масками скрывались ангелы или звери, – а только они пытались утопить меня в бездонном омуте своей «Мельницы». В том же «Видении» был и Отшельник Веласкеса, обитавший посреди своей пустынной, усыпанной белыми и черными камнями долины, куда голубка носила ему еду.
Во время всей поездки я сидел вцепившись в материнский рукав (его полотно было таким свежим и домашним) и время от времени взглядывал на эмалевую брошь у нее на груди. Это был могущественный талисман от всамделишности туманов, которые грозили расправиться с нашей грезой – моей и маминой, – пытаясь развеять ее по своей хмурой всамделишности. Сейчас я поражаюсь всей той настороженности, всему тому старательному усилию теплить в себе еле живой огонек, мешать всемогущим призракам погасить его. Труду, с каким ребенок среди великого скопления призраков и смертей должен прожить детство.
Вы ведь не знаете Негра-Бездельника, его нелепая фигура – причина моего тогдашнего страха: он появлялся там, где я его меньше всего ожидал. Он перемещается по темным подземным переходам и бухается спать где вздумается: мы открываем дверь в нашу комнату, а Негр-Бездельник уже там – привалился к стене, спокойно скрестив на животе свои ручищи.
Столь беззаботное существо могло бы доставить радость и стать другом любому ребенку, если бы не вызывало тревоги, так что радость оборачивалась смертным страхом, словно бы страх обзаводился костяком, плотью и кровью, когда Негр-Бездельник во время игры в прятки вдруг объявлялся около клумбы с цветами или прятался еще где-нибудь. Вот и на этот раз первое, что мы увидели в большущей зале с мраморной лестницей, уходившей куда-то вверх, был Негр-Бездельник, во весь рост, громадный, с копьем в руке. Я сжал руку мамы и молчаливо кивнул в его сторону, тогда она приблизилась к нему и кольцом, которое носила на мизинце (тем самым золотым ободочком, которым мы играли на безбрежных простынях постели), ударила его в грудь. Послышался гулкий звук, словно это существо было полым и необитаемым, – а все дело в том, что мы просто убили его, да-да, убили, как и многих других призраков, убили с милой жестокостью, так как без этого я бы не мог спокойно спать.
Тетушка ждала на лестнице, и мы с мамой бросились к ней. Все вместе поднялись на второй этаж, где жила Донья Исабель, хозяйка всех этих «Видений», пряха ночей.
Открылась дверь, и мама с Тетушкой вошли. Меня оставили в пустом коридоре. Засунув руки в карманы, я начал шагать мимо вереницы закрытых дверей, пока не подошел к последней и не толкнул ее.
Я увидел длинную пустую комнату – маленькую щель в каменном монолите дома. И почувствовал всю тяжесть давящего на нее здания в напряженности темного воздуха с тусклым подобием света, сочившегося от зашторенных окон. Зеркало на комоде ослепло от пыли, и образ комнаты в этом большом зрачке походил на старое, затерянное воспоминание. Там я снова увидел стулья, покрытые белесыми обтрепанными чехлами, неподвижные в их безнадежном параличе, который всегда меня удивлял. Указательным пальцем на запыленной поверхности зеркала я вывел большими детскими буквами свое имя.
Никогда не забуду плотный воздух той комнаты, из которого, казалось, была выделана мебель, вернее, чудилось, будто материалом для нее послужил тот же воздух, обретший поверхности и окраску. Предметы эти напоминали образы из сна, которые скорее являются отражениями в его глубоких водах, нежели полнокровными и живыми телами. Потом мебель стало видно лучше: она тяжело покоилась на своих толстых деревянных ножках; мало-помалу обнаружилось, что она наделена движением – одним-единственным движением тяготения, давления, отвечающего на зов земли, движением, которое каменный пол снизу вверх возвращал ей через спинки и каркасы подобно огромному, мерно бьющемуся сердцу. Но все это не так уж и бросалось в глаза – глазам представало лишь некое неподвижное ее присутствие.
Синий тонконогий стул напротив комода напряженно выгибался, будто готовясь к прыжку, а комод, не в пример ему, был тяжел и широк, и оба существовали вне всякого контакта с людьми, точь-в-точь предметы обстановки из какой-нибудь сказки, скажем, из «Золушки». Долгие годы никто не клал на комод щетку, не гляделся в запыленное зеркало. Мое имя – слово, обозначающее меня размашистыми, чистыми буквами, – подобно обелиску или световому кружеву извлекало в темноте из глуби зеркала и грез мой образ. И мебель охватила глубокая дрожь – словно от камня, брошенного в озеро, по которому расходятся все более широкие круги волн.
Как сказочный Рип Ван Винкль,[2]2
Персонаж новеллы американского писателя Уошингтона Ирвинга (1783—1859).
[Закрыть] стряхнувший с глаз столетнюю пыль, я огляделся вокруг, нет ли где двери, которая бы вывела меня на свет. Самая ближняя – большая, дубовая – была покрыта глубокой резьбой. Так как мне не хотелось снова пересекать всю комнату, а тянуло скорее выйти на свежий воздух, в сумерки, я отворил дверь, надеясь увидеть деревья, траву, тысячи знакомых очертаний. А увидел тускло-желтый рассеянный свет да нагроможденные, подобно странным кубическим скалам, клетки с животными: собаками, обезьянами, лисой. Единственное окошко было забрано плотной материей, наспех прибитой к раме большими гвоздями.
Донья Исабель сидела в своем алькове, она тонула в большущем, глубоком плюшевом кресле, ее негнущееся тельце было едва различимо. Тетушка занимала маленькое черное кресло-качалку напротив нее (для меня всегда было загадкой, как могла она умещаться, такая высокая и тучная, в смешной мебели, которую она с замечательным достоинством выбирала, дивным образом согласуясь с нею, стараясь ничего не потревожить, чтобы все как шло, так и шло), а рядом – мама в своем пышном и веселом белом платье, меня же усадили в черное кресло.
«Давно я тебя не видела, – сказала Донья Исабель, обращаясь к маме. – Последний раз, помнится, – добавила она, – мы виделись лет двадцать с лишком назад, ты была еще совсем девочка и все время тараторила о пляже, если не ошибаюсь, о пляже в Сан-Себастьяне[3]3
Сан-Себастьян – город и порт на севере Испании.
[Закрыть]. Да, о длинном золотом пляже с пестрыми кабинами, помню громоздкие купальники, которые тогда носили, некоторые в черную и оранжевую полоску. И о том, какой горячий там песок, прямо не выгнать вас было с этого пляжа, верно? Мне кажется, ты забыла о том, что Бискайский залив такой холодный от близости к полюсу. Здесь-то получше будет, место защищенное, а еще лучше в моем доме… Я не стала тебе тогда говорить, ты еще маленькая была, как я не люблю этих высоких людей в синем, прогуливающихся по песку, обрывки песен, которые заглушает прибой, звон опорожненных бутылок, а потом заход одного и того же солнца, зеленые холмы чернеют, беседа за ужином обрывается. А здесь, – и она впервые сделала движение рукой, показав на свечные канделябры, – я, когда хочу, зажигаю и гашу свое собственное солнце. Приятно не слышать ход времени в часах, не видеть никакие пейзажи, кроме одного – моих комнат и вещей, которые раз и навсегда нашли свое место и освещены, лишь когда это мне понадобится».
Говоря, Донья Исабель не двигалась – лишь взгляд ее перемещался с места на место по воздуху, не останавливаясь ни на чем, покамест, по окончании очередной ее фразы, насмешливо и спокойно не впивался в кого-нибудь из нас. Казалось, она развоплощает вещи, превращая их в свою речь, в нечто похожее на черные розы решеток, утратившие даже самый образ цветка.
«Не знаю, с какого времени я заперлась здесь, – говорила Донья Исабель, – но с той поры солнце я вижу разве что сквозь толстое и мутное стекло окна, к тому же в любой момент я могу его убрать, занавесив черной шторой. Конечно, – добавила она насмешливо, – это все равно что закрыть солнце пальцем, а я довольна, потому что еще лучше, чем стены дома, я могу выказывать мое безразличие к этой глупейшей карусели солнца и луны, ведать не ведая об их назойливых каждодневных напоминаниях, таких равномерных и несносных. Конечно, когда солнце мне нужно, я вынуждена дожидаться его двенадцать часов кряду, но и тогда – захочу, впущу его в дом, захочу, не впущу, и всегда его свет должен иметь квадратную форму, которую я ему придаю, потому что так мне заблагорассудилось».
Тут Донья Исабель добродушно улыбнулась и перевела дух. Казалось, тишина была тем же темным и тяжелым воздухом, который комкал наши одежды. Мама, видя, что я слушаю, отослала меня поиграть со щенятами собаки Ирис. Яркий свет заливал соседнюю комнату, где на циновке, в стороне от клеток с обезьянами и лисой, возлежала огромная самка датского дога, окруженная щенками. Я рассеянно присел возле них, прислушиваясь к словам Доньи Исабель, чуть заметно повысившей голос.
«Правильно сделала, дочь моя, ребенок не должен слушать ваши взрослые разговоры, – заметила Донья Исабель. – Смертный прах витает над ними, подобно тому как большая и старая птица висит над вашими головами, когда вы что ни утро говорите о еде. Вы спрашиваете: „Что нам сегодня приготовить на завтрак?“ – а ребенок вспоминает, что и вчера слышал ту же фразу, и знает, что завтра ее снова услышит, и вот так из-за одинаковой этой всегда фразы ему открывается круговорот времен: одно из них – ветреное и серое время дождей, а другое – жаркое и сухое, и он постигает, что не живет в одном чудесном и неизменном дне, в котором ты всегда маленький. Что, когда гасят свет, это как будто ты едешь в поезде, где каждый раз окно затемняется какой-нибудь иной тенью. Что день за днем мы удаляемся от нас самих, оставляя позади нашу плоть и нашу кровь, и так день за днем».
«Вон там, – сказала Донья Исабель, внезапно привстав и указывая вытянутой дрожащей рукой на дверь, – вон там граница, которую я запретила нарушать смерти, вашей противной смерти, этой гнусной танцорке. Я ее оставляю за порогом, как побитого лакея».
Она рухнула в кресло и застыла в нем, дыша как перепуганная птичка, но в глазах ее поблескивала девичья смешливость.
«Здесь всего лучше! – сказала она через миг, соединив руки и медленно озираясь вокруг. – Здесь мне спокойно среди моих вычур, штор, моих теней и ламп, и пусть снаружи мерцают разные там звезды и в канаве течет вода, всякий раз другая, все это понапрасну». В своем кресле она была похожа на клубок, еще больше напоминая зверька на фоне гобелена – зверька, который хочет вписаться в гамму его облаков или растрепанных куп. «Что, разве я не права?» – спросила она и снова погрузилась в молчание. Перед ней красные и черные линии на ковровой дорожке бездумно перекрещивались, каждый раз заплетаясь в новый узор прежде, чем заканчивали предыдущий.
Потом я долго не слышал, о чем говорили в соседней комнате, занявшись игрой с одним из щенков, с которым мы сразу подружились. Из яркой лампы выплескивался золотой поток света, заливая всю комнату, тяжелыми волнами затапливая стеклянные шкафы, образуя лагуны или выкапывая, словно в безмолвном подземелье, глубокие ходы в зеркалах.
Последние услышанные мной слова Доньи Исабель были медленны и почти неуловимы – последние аккорды монотонной, очаровавшей меня песни. Сквозь щель в двери я видел ее комнату: глубокую тень, в которой едва обрисовывался силуэт мебели, достаточно ветхой, чтобы рассчитывать на свою собственную, мирную и независимую от людей жизнь на самой кромке всех печалей, как это происходит с дряхлейшими из деревьев, которым давно нет дела до людских дорог – столько раз они видели смерть, что принадлежат не себе самим, а богу.
У меня появилось желание забрать щенка, я представил, как он прыгает со мной в поле, возле Арройо Наранхо, и даже имя ему дал – Леаль[4]4
Леаль – одна из самых распространенных собачьих кличек, вроде нашего Тузик или Бобик.
[Закрыть]. Я услышал, как мать вскользь спросила: «А что вы знаете о Пабло?» – и тогда я спрятал его под пальтишко и вышел в коридор. Передо мной была просторная мраморная галерея, белая и безмолвная, наводненная темным пеплом сумерек. Я тихонько двинулся вперед и, когда подошел к лестнице, стал быстро спускаться, даже не глядя на поверженного Негра-Бездельника. Слабый свет фонаря от входа едва ли облегчал мой путь.
Когда обе створки входной двери тяжело сомкнулись за мной, свою абсолютную свободу я воспринял как холод и подумал об оловянном солдатике, которого я обронил в запруду, – там, в глуби холодной воды, среди рыб, черных под вечер, и донного зеленого лишайника, он сжимал свое ружьецо. Я печально прошествовал к машине и заперся в ней, стараясь получше примостить зверушку. За стеклами шевелились под ветром купы, а мне казалось, будто над нами летят большие темные птицы, взвихривая воздух своими тяжелыми крыльями. А другие деревья отгоняют их своими разъяренными руками.
На обратном пути рядом с нами торопливо бежали высокие сосны и тополя, снова заслоняя «Видения» – темную землю, камни и травы «Видений». Тетушка, прямая и строгая, молчала. Лишь через много лет я понял, что она имела в виду, когда однажды сказала: «Несчастная Исабель, так и умерла в своем безумстве, все полагала, будто восстала против бога, а он был совсем рядом. Вот и твердила, умирая: „Почему ты меня оставил?“ Так-то…» (В день, когда она вспомнила это, Тетушка находилась в своей прихожей, которая, по странному совпадению, исчезла вместе с ней, потому что с ее смертью дом развалился, – глаза ее горели, как две свечи, и казалось, будто фантастическое это мерцание освещает сложную конструкцию ее одеяния.) Но тогда, в машине, она долго молчала, глядя прямо перед собой, а когда заговорила, то о новой пристройке, которую надумала соорудить. Так мы и покидаем друг друга в часы страха, отгораживаясь толстенными перегородками безмолвия: всегда полагаем, что другой утаивает куда более жестокую истину, что другой, наконец, и есть смерть, которая явилась и уселась рядом с нами.
Там, где поместье оканчивалось, мы проехали мимо дома, в котором жил лесник, – белого, сложенного из камня и бревен дома. Маленький и на заглядение красивый, он высился рядом с внушительной железной оградой. В дверях у порога мы увидели сидящего лесника: скрестив ноги, он мрачно курил, чуть наклонившись вперед. Какие дела удерживали тебя здесь, лесник? Твой стул был тебе другом, и грубый крепкий стол был тебе другом. А мерно разрастающаяся возле стен трава, а высоченные деревья, чьи темные стволы смыкаются вокруг собственной сердцевины, по которой от земли к листьям крадется вечная живица, – да пропади они пропадом. И вода, текущая по канавам, увлекающая ветки и насекомых, – да пропади она пропадом. И воз, рассекающий ночь, которая тут же смыкается, самонадеянная, могучая. Достаточно выглянуть за дверь или приблизить лицо к оконному стеклу, чтобы ее увидеть, чтобы увидеть, как загустевает в деревьях сон, порождая враждебные тела, чтобы увидеть, как маг-волшебник неутомимо заменяет одни вещи другими, притом все они как ни в чем не бывало остаются на прежних местах. Здесь у тебя был друг-стул и друг-стол, ты всегда был готов выручить себя и выручить их, а все остальное – да пропади оно пропадом.
Вот и мы с мамой, выручая наши собственные жизни, отгородились от всего и вся. Боже, ты видишь упрямцев, вот мы – слепые, глухие к увещаниям дьявола, упрямые, как наш друг лесник, – закрыли глаза, насторожили слух, будто звери какие-нибудь. Боже, тебе мы препоручили себя, тебе служим, твой сон охраняем.
Когда мы вернулись, за большими деревьями, растущими вдоль дороги, я увидел красноватое небо и на его фоне – черную башенку, во весь ее рост, точно это был человек, который провеивал на ветру ночь. И мне представился большой парк, и пустотелые существа в капюшонах, и Негр-Бездельник, неповоротливый и огромный. И в очнувшемся гуле мрачной пропасти, в этой пугающей яви, которая клубится вокруг дремоты, я увидел, как по небу проплывают красные ангелы.
«Мама, – сказал я, – погляди-ка, ангелы прилетели забрать меня».
«Да нет, – сказала она так, словно объясняла мне чудо похлеще, – это божьи тучки».
Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?