Текст книги "Аракчеевский сынок"
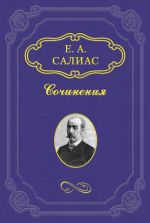
Автор книги: Евгений Салиас-де-Турнемир
Жанр: Литература 19 века, Классика
Возрастные ограничения: +12
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 19 (всего у книги 23 страниц)
XLII
Оба тихо и молча двинулись снова. Пройдя швейцарскую между двух рядов вытянувшихся в струнку служителей и солдат, а в другой горнице мимо также вытянувшихся офицеров в полной форме и чиновников в вицмундирах, они вошли в маленькую горницу, где была спальня. Большая казенная кровать красного дерева была сдвинута с места к печке, а тяжелые гардины постельные из толстой материи были скручены, подобраны и привязаны к гвоздю на стене. Вместо дворцовой, стояла маленькая складная кровать графа с тонким матрацем и красной сафьяной подушкой, без наволочки, а поверх вязаного одеяла лежала растянутая военная шинель. Остальная мебель была, очевидно, вынесена и оставался только один стул, обитый такой же материей, как спальные занавеси кровати. В переднем углу стоял столик, покрытый белой салфеткой, и на нем были три иконы, перед которыми горела лампадка. Невдалеке был другой столик, точь-в-точь такой же, также покрытый белой салфеткой, и на нем стояли темные лакированные лоханка и рукомойник, были разложены разные принадлежности бритья, а около полотенца на стене висел здоровый арапник. Эти иконы, составлявшие вместе большой складень, английские лоханка и рукомойник из войлока и арапник были предметы, всегда сопутствовавшие графу повсюду. Аракчеев собственноручно бил кого-либо крайне редко, но зато всякому – от домашнего печника, кучера, повара или иного служителя до обер-офицеров, и мелких чиновников включительно – часто указывал на этого постоянного своего спутника и говорил:
– Арапник видишь?
И на всегдашний ответ: «вижу-с» прибавлял:
– То-то же!
Войдя в спальню, Аракчеев сел на единственный стул. Шумский остался на ногах.
– Ну, объясняйся да не тяни! – выговорил он.
Шумский начал свое объяснение все-таки очень издалека. При первых же словах лицо Аракчеева несколько изменилось и стало изображать некоторое недоумение. Он мысленно бегал и искал, хотел догадаться, о чем хочет говорить сын, о чем будет просить, но чем больше говорил Шумский, тем менее он догадывался.
Шумский уже говорил о бароне Нейдшильде, об его дочери-красавице, о том, как она сразу пленила его в церкви на чьих-то похоронах, а граф все еще не догадывался, в чем будет просьба. И это было совершенно естественно. Аракчеев слишком хорошо знал сына и, следовательно, теперь, прежде всего, предположил именно то, что, собственно, и было до того дня, когда Шумский вдруг решился жениться.
Он ждал, что сын признается в совершенном им каком-либо безобразии по отношению к семье Нейдшильда. Он точно так же был далек от мысли о женитьбе, как сам Шумский был далек от нее дня два тому назад.
Рассказывая, каким образом он, затем, проник в дом барона, Шумский нечаянно проговорился, хотя сначала не предполагал упоминать о секретаре Андрееве.
– Ну, так! – прервал его Аракчеев. – Больше не надо! – Понял все. Так я и думал: пробрался лисой в курятник и скушал курочку! Ну, что ж! Теперь ведь Нейдшильд государю пожалуется, а то уж и нажаловался, а ты ко мне прибежал. Что же я тут могу?
– Как можно, батюшка! Вы совсем меня иначе поняли, – выговорил Шумский, но видя, что Аракчеев предполагает именно то, что и должно было быть, если бы не ночное дежурство фон Энзе, Шумский невольно усмехнулся догадливости отца:
– Я проник в дом барона, – прибавил он, – чтобы только чаще видеть ее и заставить себя полюбить.
– Так в чем же дело? – все-таки с удивлением произнес граф.
– Я хочу просить вашего благословения.
– Жениться?! – воскликнул Аракчеев. – Ты? На год не венчают. Ведь на всю жизнь венчают.
– Точно так-с, но я… я ее люблю…
Аракчеев замолчал и думал. Наступила пауза.
– Да ведь она же чухонка, не нашей веры! – выговорил он наконец.
Шумский слегка пожал плечами.
– Что ж из этого-с? Все-таки христианка.
– Христианка? – выговорил Аракчеев и стал качать головой. – Вот что значит ничему-то не учиться и ничего не ведать. Да знаешь ли ты, что есть христиане хуже татарина и жида. Знаешь ли ты, молокосос, что такое протестант, что такое лютеранин, знаешь ли ты, что будь я Всероссийский Царь, я бы всех их искоренил, а уж изгнал бы из империи беспременно. – Аракчеев подумал и заговорил глубокомысленно. – Слушай меня. Войдем мы с тобою, – к примеру буду я говорить, – в храм Божий, и будут православные люди стоять, креститься и земные поклоны класть. Ну, вот, мы стоим с ними и тоже молимся. Понимаешь?
– Понимаю, – протянул Шумский, ничего, конечно, не понимая. Он знал только, что Аракчеев любил изредка говорить затейливыми аллегориями, и они всегда выходили у него чрезвычайно своеобразными.
– Ну, вот, мы стоим в храме и видим: стоит в уголке человек, не крестится, не молится, стоит, разиня рот, приглядывается и прислушивается – ничего не понимает, совсем он тут, как отрезанный ломоть, не про него, стало быть, служба, литургия ли, вечерня ли – все равно. А другой человек в другом углу стоит, кулаками на алтарь грозится, рычит, ругается, надо всеми насмехается. Как ты думаешь, который из них хуже?!
Шумский едва заметно двинул плечом и крепко сжал губы, чтобы скрыть невольно проскользнувшую улыбку, а затем выговорил сдавленным голосом, чтобы не рассмеяться:
– Хуже вестимо… который ругается.
– Ну, вот! который стоит в уголке смирно, это, будем к примеру говорить, мухамеданин, он своей веры, ему в нашей ничего не понятно, а человек, который богохульничает да ругается, это протестант – лютеранец, он же и вольтерьянец, или сквернослов и сквернодумец. Он, стало быть, был христианин, но свихнулся сердцем и разумом навольничал, всю религию наизнанку вывернул, или свою собственную измыслил, да и бахвалится ею. Он изувер, еретик, его повесить мало! Язычники, коих Господь Иисус Христос, во ад сойдя, взыскал ради спасения, будут в раю, а этим лютерьянцам и всяким иным поганцам никогда царствия Божия не удостоиться. Вот тебе что такое твоя чухонка-невеста. Соберись ты на турчанке жениться, я бы сказал: окрестить ее и концы в воду. А лютерьянка твоя, считая себя христианкой, не захочет веру менять. Ведь не захочет?
– Я об этом, батюшка, еще не спрашивал.
– Так спроси.
– Не думаю, – тотчас же прибавил Шумский, боясь, что может возникнуть новая помеха, и предпочитая тотчас же разрубить, завязываемый Аракчеевым узел.
– Полагаю, батюшка, она от своей веры не отступится ни за что на свете.
– Ну, так как же тогда? Я уж не знаю…
– Мне, батюшка, хоть пулю в лоб.
– Какую пулю?
– Если мне не жениться на баронессе, так просто хоть застрелиться.
– Я тебе, сударь мой, раз тысячу сказывал, когда еще ты махонький был, – вдруг мерно, и оттягивая, заговорил Аракчеев и начал пристукивать согнутыми пальцами себе по колену как бы в такт словам. – Всегда сказывал: не смей ты меня пужать! Я не баба, и ты не из таких молодцов. На это дух нужен, хоть оно и грешное дело. А у тебя такого духу никогда не бывало. Настасью Федоровну пужай пистолетами и саблями, хоть пушками. А меня оставь. Да и что ж! Застрелишься, я только плюну. Самоубийца – дурень, а дурням и родиться бы не след.
– Я не пугаю, – тихо произнес Шумский. – Я так, к слову сказываю, что очень мне будет мудрено. Я не могу себе представить жизнь без нее, я ее обожаю.
– Так и сказывай, а не грозись. Это мы дело разберем. Если я вызовусь быть ее крестным отцом, да государь пообещается быть на свадьбе, то, известно дело, обернется иначе и легко, может быть, что твой чухонец на все согласится. А она, девица, ничего в этом не смыслит и ей, конечно, все веры равны. Девица в религии и в других науках ни уха, ни рыла не смыслит: это совсем не про бабу и писано.
Но Шумский, слушая, думал:
«Ева в религии побольше тебя смыслит».
– Ну, а главное… – продолжал граф. – Скажи мне: что, кроткая она нравом, тихая и скромная?
– Как ангел! – воскликнул Шумский.
– Ангел! Так! На один лад! Как втюрился, так ему и ангел. А я тебе скажу: всякая девка – щенок, а всякий щенок – будущий пес. И всякая-то баба – завсегда пес. Вот я женился на девице Хомутовой, стало, из истинного семейства дворянского. А сам знаешь, где она. Пожила со мною два года, да и ушла – и соломенная вдова. А и приди она ко мне, так я ее полицией спроважу на сторону. А ведь тоже венчались, в храме стояли, вокруг аналоя ходили, все, что полагается проделали, всякие клятвы приносили. А что из этого вышло? Мне она тоже была до свадьбы ангелом, а затем тотчас же стала рычать и лаяться псой. Вот так-то, смотри, и ты не женись.
Шумский молчал, совершенно не зная, что отвечать, так как очень хорошо знал, что жена графа покинула мужа вследствие его грубого обращения с ней.
– Все-таки, Михаил, обождем, – заговорил Аракчеев мягким голосом, которым говорил с сыном крайне редко.
Одно уже имя Шуйского, произнесенное им, свидетельствовало, что на графа вдруг напал стих нежности, который был как-то даже и не к лицу ему.
– Спешить не будем. Они – дворяне, хотя достояния у них мало, но это не нужно. Мое будет твоим. Все-таки они – прирожденные бароны, хоть и чухонские. Она точно, на чьи глаза красавица. На мои глаза она смахивает на какую-то овцу белобрысую. Видал я за границей – такие золоторунные овцы есть. Но нравиться она может; лицом и глазами как будто и красавица. Да это твое дело. Я только потребую к себе почтение и послушание. Чтобы слово мое для нее было святым словом. От нее я потребую больше почитания, чем от тебя. Ты все-таки парень молодой, мужчина, а она – баба. Ты прыгаешь и скачешь без узды, потому что я не пожелал на тебя ее нацепить, волю тебе давал и даю. А бабе твоей я воли не дам. Чтобы она в Грузине и предо мною и, наипаче, перед Настасьей Федоровной ходила неслышно, была тише воды, ниже травы! Ну, стало, дай мне подумать и явись за моим решением.
– Когда позволите мне наведаться, батюшка? – выговорил Шумский, смущаясь видимо.
– Мудрено. Дела много. Я вот теперь государю доклад готовлю. Вон, видел, в сарае малевали доски? Хочу я, сударь мой, всю империю Российскую тремя колерами вымазать.
И при виде совершенно изумленного лица сына, который широко раскрыл рот, Аракчеев прибавил, улыбаясь самодовольно:
– Что, удивительно? Думаешь, это невозможно? А вот я тебе покажу. Апробует государь доклад мой, так увидишь ты пеструхой всю матушку Русь православную из края в край. Вся будет выкрашена тремя колерами. Мосты, столбы, заставы, гауптвахты, караулки, даже тумбы и все присутственные места – все будет у меня под один манер в три колера: белый, красный и черный. Это еще царица Екатерина собиралась этак учинить, да только все собиралась. И при том дело шло только о верстах да о мостах. А я и присутственные места все так-то окрашу. По крайности, вся Россия как бы мундир наденет и станет в этом мундире, чисто как солдат на смотру – чинно, порядливо. А ты думал, я зря балуюсь с краской, да с ведерками, да с кистями!
– Когда же позволите придти? – решился Шумский перебить хвастливо болтливую речь.
– Ну, через две недели.
– Батюшка, я не вытерплю. Позвольте просить вас решить мою судьбу, не томя меня.
– Ну, через неделю. Я только в четверг об тебе думать буду, а остальные дни все распределены.
– Слушаю-с.
– А коли потрафится иначе – я тебе и раньше дам знать. Тогда оповестишь барона, чтобы ехал ко мне за моим согласием.
– Простите, батюшка, но полагается по обычаю, что родители жениха первые визит делают.
– Да, это всякие родители женихов, но не граф Аракчеев. Ты так ему, чухонцу, и объясни. К графу Аракчееву какие ни есть на свете живые люди – все иди с поклоном, все, за исключением государя императора и членов царской фамилии! Ну, ступай! Много ты у меня времени отнял. Государственные дела не ждут!
Шумский снова приложился к рукаву сюртука отца и вышел, бормоча почти вслух:
– Да, государственные? В ведерках, от которых маслом несет так, что задохнешься. Всю империю красить собрался. С тебя хватит и всех россиян вымазать в три колера. Тело зеленым бы колером, рожи – фиолетовым, а волосы и бороды – пунцовым. С тебя бы и начать!
XLIII
Шумский посвятил весь следующий день на приготовление всего для своей вечеринки, которую он назвал «мальчишником». Он тотчас же послал за поваром в большой ресторан по соседству, и подробно обсудил с ним вопрос об ужине. Вместе с тем, он послал Копчика за вином. Спустя час лакей явился обратно пешком, а за ним шагом подъехали два извозчика с большими ящиками вина.
Шумский хотел устроить пир горой. Он ожидал к себе всех прежних своих приятелей, с которыми постоянно кутил до встречи с Евой, но, кроме того, некоторых из этих приятелей он просил привезти с собой всякого, кто пожелает с ним познакомиться и ехать прямо ужинать без церемонии.
Часов в восемь вечера квартира Шумского начала уже наполняться. Скоро все горницы были полны, а в одной из них на карточных столах уже началась игра. Известный в Петербурге картежник, обычный банкомет, Бышевский, держал банк за главным столом, где шли самые крупные ставки.
Шумский, пройдясь по всем горницам и оглядев все и всех, остановился в раздумьи.
«Точь-в-точь, как бывало, – подумалось ему. – Вот эдак-то сколько времени в Петербурге было зря убито. Не встреть я ее, то так бы всегда и шло».
И ему невольно пришло на ум, что с тех пор, когда здесь в последний раз были те же гости, шла та же игра, много, как говорится, воды утекло. За это время не случилось, собственно, ничего особенного – только встреча с девушкой, в которую он влюбился. Но, вероятно, что-нибудь, незамеченное им, все-таки приключилось. Он чувствовал себя теперь другим человеком, он озирался и спрашивал себя, каким образом мог он находить удовольствие вот в этой жизни – кутежа и карт, карт и пьянства, всякий день, всякую ночь!
И вдруг Шумскому пришло на ум то, о чем он ни разу не подумал за все лето. Ему теперь показалось, что за это время, когда сборища и попойки прекратились в его квартире, жизнь его была все-таки полна – полнее, чем когда-либо. И жизнь эта была осмыслена ею, баронессой. За это время у него была задача в жизни, хотя задача, по мнению Квашнина и других, преступная, но, тем не менее, все-таки у него было дело, была цель, к которой он стремился.
«Что, если я женюсь, – думалось ему, – заживу совершенно иным образом и вдруг, сдуру, буду счастлив, буду доволен! Чудно это будет! Называл всех женящихся дураками и болванами, и вдруг сам в семейной жизни найду то, что люди, а главным образом глупые люди, называют счастьем. Чудно это будет!»
И эта мысль оживила Шуйского. Он еще веселее стал двигаться по всей квартире, отдавал приказания наемным лакеям, смотрел, как накрывали в зале большой стол, затем подходил к играющим, отыскивал червонную даму и бросал ее на стол, назначал крупные ставки и, почти каждый раз проигрывая, весело отходил прочь.
Однажды, поставив сто рублей все-таки на червонную даму у того стола, где метал банк Бышевский, Шумский проиграл, но, не снимая карты со стола, бросил на нее другую сотенную бумажку, снова проиграл, сделал то же самое в третий раз, и опять-таки, дама была бита.
– Полноте, бросьте – выговорил Бышевский. – Вам не можно теперь играть! Вы все аракчеевское состояние проиграете. Обождите. Знаете пословицу, кто бывает несчастлив в картах? «Heureux en amour, malheureux au jeu.»[31]31
«Счастливый в любви, несчастливый в игре». (фр.).
[Закрыть]
Сидевшие и стоявшие вокруг стола начали пересмеиваться, поглядывая на хозяина, кто просто радушно, кто заискивающим образом. Хотя Шумский еще ничего не сказал им и хотел лишь за ужином объявить о своей женитьбе, тем не менее, между присутствующими новость была уже известна.
– Да, вам «не можно» играть, – подхватил кто-то из кучки понтёров, передразнивая польский выговор Бышевского.
– Не те времена, Михаил Андреевич. Теперь бросить надо. Надо обождать! – выговорил Бышевский, срезая колоду.
– Что вы хотите сказать? Как обождать? – возразил Шумский.
– Обождать, чтобы прошло то, что мешает вам теперь играть счастливо.
– Не понимаю, – отозвался Шумский.
– Не все же так, Михаил Андреевич, ничто на свете не вечно, всему есть конец. Придет время, что мы к вам соберемся вновь, и вы будете счастливы в игре.
Шумский вдруг вспыхнул.
– Вы сами не знаете, что вы хотите сказать! – воскликнул он. – Что вы говорите?
Бышевский поднял на хозяина удивленные глаза.
– Я хочу сказать, Михаил Андреевич, что если теперь счастье в любви мешает вам выигрывать, то когда-нибудь оно пройдет. Не век же вы будете влюблены и взаимно любимы.
– Почему же нет?
– Потому, что ничто не вечно, как я уже сказал вам.
Бышевский говорил простым голосом и улыбался добродушно.
Шумский, ни слова не сказав, отошел от стола, прошел в другую горницу и сам себе подивился.
«Что это такое? – подумал он. – Что за щепетильность! Почему мне показалось в простых словах что-то особенное. Какая-то грубость, какой-то грязный намек! Мне почудилось, что он хочет сказать черт знает что! Что у моей жены заведется любовник, и что я приду играть, украшенный рогами. Что же это такое? Неужели я способен тоже и на другое чувство, над которым всегда смеялся, на ревность!»
И Шумский заметил тотчас же, что сейчас он в первый раз говорил с посторонними людьми о своем чувстве. Никто не был назван, большинство даже не знает, на ком он женится, разговор ограничился общими местами, а, между тем, в нем вдруг сказалось нечто особенное, как будто чьи-то неумытые руки полезли в его душу.
«Стало быть, я в самом деле ее люблю, – подумал он, – и глубоко люблю. Стало быть, я сам себя обманываю, прикидываюсь перед самим собою, будто это все одно баловство».
В эту минуту к Шумскому подошел Квашнин, только что приехавший. Они не видались с того дня, что Квашнин почти убежал под влиянием тех слов, которые сказал Шумский.
– Ах, Петя! – оживился Шумский. – Я уже боялся, что ты не приедешь.
– Нет, почему же! – отвечал Квашнин, но голос его был какой-то странный.
– Вижу, – рассмеялся Шумский, – ты все еще помнишь то, что я тогда сказал.
– Что такое?
– Что! Небось помнишь, чего же спрашивать, ведь ты выскочил от меня, как ошпаренный. Я, брат, ведь зря болтал, а у тебя всякое лыко в строку.
– Да ведь какое лыко, Михаил Андреевич. Да, впрочем, я думаю, что иногда ты и сам не знаешь, что говоришь, клевещешь на себя. Если бы я был вполне уверен, что ты способен на то, о чем тогда говорил, то, пожалуй бы, и не приехал.
– Ну, успокойся, голубчик. Я женюсь! И буду, должно быть, как дубина какая, обожать жену. Я сватался, принят формально и женюсь с помощью священника, а не дурмана.
– Ну, и слава Богу, – улыбнулся Квашнин радостной и добродушной улыбкой. – Воистину рад за тебя. Ну, а насчет улана как? – прибавил он.
– Да как! Не знаю. Надо бы драться, да как-то теперь глупо выходит. И жениться, и драться!
– Вестимо глупо. Понятно, что бросить надо, – отозвался Квашнин.
– Уж не знаю, как тебе и сказать. Тут есть только одна загвоздка. Не стал бы он по поводу моей свадьбы опять мне пакостить. Ты все-таки лучше поди да перетолкуй с капитаном, он здесь.
В эту же самую минуту Ханенко, переваливаясь по-утиному с ноги на ногу, с длинной трубкой в зубах, самой длинной, какая только была у Шумского в квартире, появился в дверях.
– А, вот и он – легок на помине! – воскликнул Шумский, смеясь. – Ну, господа, честь имею вас познакомить – вторично, как секундантов. Войдите ко мне в спальню да и обсудите дело со всех сторон.
– Обсудить нетрудно, – отозвался Квашнин, – да на кой прах…
– Стало выходит, Михаил Андреевич, – заговорил Ханенко, выпуская целый столб дыма изо рта, – стало быть вы и венчаться и стреляться будете одновременно. Что же прежде-то будет?
– Как придется, дорогой мой! – отозвался Шумский, смеясь. – Я этого вопроса сам решить не могу.
– А вы этим не смущайтесь: прежде ли, после ли венца!
– Мой вам совет, Михаил Андреевич, – серьезно вымолвил капитан, – прежде венчаться… вернее, знаете ли…
Ханенко хотел продолжать и, по-видимому, собирался сострить, но Шумский отошел от него, так как в эту минуту вошло несколько человек гостей вновь прибывших.
XLIV
Ханенко и Квашнин, переговариваясь, вышли в коридор и отправились в спальню хозяина. Там они уселись и стали толковать о деле. Шумский, посидев немного около карточного стола, снова вышел в столовую, оглядел несколько бутылок с вином, отдал несколько приказаний, и вдруг вспомнил, что отсутствует на столе большая серебряная чаша, в которой обыкновенно варилась у него жжёнка, она была им дана кому-то из товарищей на один вечер и назад не получена. С тех пор прошло уже месяца полтора.
«Хорош гусь, – подумал он. – Будь она простая – ну, забыл; а ведь она пятьсот рублей стоит».
Шумский двинулся в коридор и крикнул Ваську. Копчик рысью прибежал на голос барина.
– Ивана Андреевича! – проговорил Шумский и спросил; – Он не возвращался?
– Вернулись, – выговорил Васька.
– Где же он? Отчего не идет?
– Они в своей горнице на постели.
– Что-о? – протянул Шумский. – На постели? Болен, что ли?
– Не могу знать. Вернулся Иван Андреевич очень не по себе и лег.
– Позови его, – выговорил Шумский, но тотчас же остановил лакея и прибавил:
– Не надо, пусти!..
И он быстро прошел в комнату, которую занимал его Лепорелло.
При виде Шумского лежавший одетым на постели Шваньский приподнялся, сел, а потом встал на ноги.
– Что ты? хвораешь?
– Нет-с! – отозвался Шваньский.
– Что же с тобой? Стой! Вспомнил. Да ведь ты был у фон Энзе?
– Был-с.
– Я и забыл. Так что же? Пашуту привез?
– Нет-с.
– Почему?
Шваньский дернул плечом.
Краткие ответы Шваньского и, вообще, вся его фигура удивили Шумского. Он присмотрелся к нему, увидал странное выражение на лице его – не то смущение, не то озлобление, и выговорил тихо:
– Иван Андреевич! Что с тобою? Что-нибудь приключилось удивительное?
– Да-с.
– Что ж такое?!.
Шваньский опять дернул плечом.
– Да ты очумел совсем! Вижу, что есть что-то. – Так говори скорее, что?!.
Шваньский вздохнул и молчал.
– Иван Андреевич! Поясни, что с тобой, ты, должно быть, сейчас кусаться начнешь или в обморок упадешь.
Шваньский растопырил руками и выговорил:
– Ничего я, Михаил Андреевич, и пояснить не могу. Так меня шаркнуло по сердцу, такое приключение приключилось, что у меня в голове будто труба трубит. Увольте, дайте полежать, выспаться, может завтра я соображу, что сказать, а сегодня ничего не скажу.
– Да ты был у фон Энзе?
– Вестимо, был-с.
– Ну, и что же?
– Да ничего-с. Объявил мне фон Энзе, что Пашута у него была, а теперь ее, якобы, у него нету, а что, если бы она и была у него, так он ее возвратит самому графу Аракчееву, а не вам.
– Ну! – нетерпеливо выговорил Шумский.
– Больше ничего-с.
– А ты ушел от него с носом? Ты ли это, Иван Андреевич! Да ты один был?
– Никак нет-с, со мною был квартальный, да солдат. Да предписание у меня было из полиции.
– Ну и что же?
– Ничего-с.
– И ты позволил улану повернуть тебя, как мальчишку, обещая мне сделать в квартире его невесть какой скандал, А сам ничего не сделал, даже не осерчал, не крикнул на него.
– Крикнул, Михаил Андреевич, – все тем же однозвучным голосом повторил Шваньский.
И звук его голоса был таков, какого Шумский никогда не слыхал.
– Чем же кончилось?
– Кончилось, Михаил Андреевич, тем, что улан ударил меня в рыло, и я покатился кубарем в угол его горницы.
– Что! – вскрикнул Шумский.
– Точно так-с.
– При полицейских! И ты – ничего! И они – ничего?!
Шваньский молчал.
– Послушай, Иван Андреевич, я ничего не понимаю.
– Очень просто, Михаил Андреевич, меня отколотили, и я облизнулся, и вот к вам восвояси прибыл.
– Да что ты – пьян, что ли?
– Никогда не бывал! И теперь трезв.
– Да что же все это значит?
Шваньский вздохнул и выговорил совершенно глухим голосом:
– Что это значит, Михаил Андреевич? Увольте, пояснять! Хоть убейте, я теперь ничего не скажу. Завтра одумаюсь, соображу все обстоятельства и, пожалуй, расскажу вам все, что на квартире г. фон Энзе приключилось. А теперь я ничего вам пояснять не стану. Скажу только, что меня господин улан взял за шиворот, как хама. Никогда в жизни такого не бывало со мной, что было там…
Шумский стоял, вытаращив глаза на своего Лепорелло, и хотел снова спросить что-то, но Шваньский поднял на него смущенно-тревожный взгляд и выговорил умоляющим голосом:
– Михаил Андреевич! Ради Господа Бога оставьте меня. Пойдите к гостям. Ничего я теперь говорить не стану. За ночь соображусь, просветится у меня малость в голове, и я вам все поясню. Все, чего я наслушался в квартире господина улана, теперь я рассказывать не стану, если бы даже вы грозились меня зарезать. Ради Создателя – увольте!
Шумский вышел из горницы Шваньского и задумчивый вернулся в горницу, где гудели голоса гостей.
Молодой человек был сильно смущен. Он давно знал Шваньского и никогда не видал его в таком положении. Не нахальство улана, не оскорбление подействовали на Шваньского. Очевидно, помимо всего этого случилось что-нибудь еще, о чем Шваньский не хочет говорить.
– Но что же это? – выговорил Шумский вполголоса. – Что же могло там быть?
И повернувшись среди столовой, он тихими шагами двинулся в спальню по коридору. Через приотворенную дверь он услыхал голос Квашнина, который горячо говорил:
– А я уверен, выдумки! Клевета врагов! Да и кто же может это знать наверное? Эдак завтра ко мне, к другому кому, придут люди и будут меня, к примеру, уверять, что я не сын моих родителей, а родителей моих будут уверять, что я им чужой человек! Ведь это же бессмыслица! Кому же лучше знать – родителям и сыну или посторонним людям? Это все – свинство! Это все злоба людская!
Шумский, слыша громкий голос Квашнина, удивился той горячности, с которой Квашнин говорил. Отворяя дверь, он собирался спросить у приятеля, о чем он так красноречиво толкует, но при его появлении на пороге Квашнин оборвал сразу свою речь на полуслове и отвернулся. Глаза капитана Ханенко смущенно забегали по комнате. Оба собеседника сидели, как бы пойманные в чем-либо.
– О чем вы толкуете? – спросил Шумский.
– Да так – пустяки! – отозвался Квашнин фальшиво.
– Это… это, – начал Ханенко, – это, изволите видеть… оно насчет, тоись того, что если… того… так оно…
И Ханенко замолчал.
– Мы об одном общем знакомом разговаривали, – сказал Квашнин, не поднимая глаз. – Есть тут такой один офицер.
– Что же ты так горячился? Я слышал из коридора и подумал, что дело идет о чем-нибудь важном!
– Это так, – отозвался Квашнин, – пустяки!
И он вдруг поднялся и выговорил:
– Пойдемте, капитан. Что ж тут сидеть!
– Вестимо. Что же сидеть, – быстро поднялся Ханенко, бросил трубку, потом опять взял ее, и оба они двинулись к дверям, как бы спеша идти в гостиную.
Ничего не произошло особенного, ничего не было особенного сказано, а, между тем, Шумский заметил нечто в обоих приятелях. Они положительно были смущены, он очевидно подстерег разговор, который не следовало ему слышать.
«Да ведь не на мой же счет они толковали, так почему они оробели. Что такое? – начал он вспоминать: – «родителям говорят, что их сын им чужой человек; а сыну стали бы говорить, что он не сын этих родителей»… Что за ерунда! Со мной-то тут что ж общего? Что-нибудь да не так! Видно мне почудилось. А может быть, Квашнин говорил о себе, может быть, разговор шел между ними такой, при котором я был лишним. Да, но ведь я с каждым из них в лучших отношениях, нежели они между собою. Черт знает. Полагаю, что застряло во мне какое-то новое душевное состояние. Я как-то стал придираться ко всему. Вот самое простое объяснение. В простой шутке Бышевского выискал дерзость по отношению к баронессе, а теперь в какой-то нелепице, которую болтал Квашнин, тоже какой-то намек на себя нашел. Ведь это черт знает что такое!»
Шумский усмехнулся и двинулся тоже в горницы.
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.





































