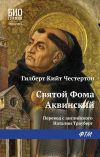Текст книги "Святой Франциск Ассизский"

Автор книги: Гилберт Честертон
Жанр: Биографии и Мемуары, Публицистика
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 4 (всего у книги 8 страниц) [доступный отрывок для чтения: 2 страниц]
Молодого дурака, а может, и негодяя, поймали, когда он обобрал отца и попытался продать то, что должен был охранять. В свое оправдание он говорит, что какой-то голос велел ему починить какую-то стену. Затем он объявляет, что по сути своей независим от всякого закона, связанного со стражами порядка, и обращается к милости епископа, который тоже вынужден отчитать его и сказать ему, что он не прав. Он раздевается при всем честном народе, швыряет одежду в лицо своему отцу и говорит при этом, что тот ему не отец. Потом бегает по городу и выпрашивает у всех встречных камни, по-видимому, в приступе безумия, связанного со стеной. Конечно, стены чинить нужно, если они треснули, но не тронутым же, не сумасшедшим! Наконец, порочный юноша скатывается на самое дно, буквально копошится в грязи. Вот как видели то, что делал Франциск, почти все его соседи и приятели.
Вероятно, они не совсем понимали, на что он живет. По-видимому, он просил не только камень, но и хлеб, но всегда заботился о том, чтобы хлеб был самый черствый, самый черный, а объедки – хуже тех, которые бросают псам. Тем самым он жил хуже нищего, ибо нищий ест лучшее, что может добыть, святой – худшее. Он был готов отказать себе во всем, а это на деле гораздо уродливей, чем утонченная простота, которую вегетарианцы и трезвенники называют простой жизнью. Как относился он к пище, так относился и к одежде. Здесь он тоже довольствовался самым плохим. По одному преданию, он обменялся платьем с нищим и, конечно, охотно обменялся бы с пугалом. По другому преданию, какой-то крестьянин дал ему бурую рубаху, наверное, совсем старую. Обычно у крестьян мало лишней одежды, и они не слишком расположены отдавать ее, пока она хоть на что-нибудь годится. По преданию, он отбросил кушак (может быть, с особым пренебрежением, ибо по моде того времени на кушаке висел кошель) и подпоясался первой попавшейся веревкой, как последний бродяга подвязывает бечевкой штаны. Через десять лет эта случайная одежда стала обычной для пяти тысяч человек, а через сто великого Данте похоронили в ней[65]65
Данте по его просьбе похоронили в одежде францисканцев.
[Закрыть].
Глава 5
Божий скоморох
Можно найти немало метафор и символов, чтобы показать, что же произошло в душе молодого поэта из Ассизи. Их даже слишком много, их слишком легко выбрать, но толком не подойдет ничто. Для меня особенно выразителен небольшой и на первый взгляд случайный факт: когда Франциск ходил по городу с мирскими приятелями, словно шествие стихотворцев, они называли себя трубадурами. Когда он вышел в мир с духовными братьями, он назвал их жонглерами Божьими[66]66
Жонглеры – странствующие комедианты и музыканты средних веков, скоморохи.
[Закрыть].
Я еще не говорил здесь о великой культуре трубадуров, возникшей в Провансе или Лангедоке, и о том, как повлияла она на жизнь и на святого Франциска. О влиянии на жизнь можно сказать много; но я скажу лишь о том, что непосредственно связано с Франциском, и прежде всего о самом важном. Все знают, кто такие трубадуры. Все знают, что в начале средних веков, в XII и на пороге XIII столетия возникла в Южной Франции своя культура, которая грозила затмить возраставшую славу Парижа. Главным ее плодом была поэтическая школа, или, точнее, школа поэтов. Чаще всего они писали о любви, хоть были и сатиры, и размышления. Красота их, запечатленная в истории, многим обязана тому, что они пели свои стихи и часто сами себе подыгрывали на несложных музыкальных инструментах – то были скорее певцы, чем литераторы. Их любовная лирика породила немало прелестных и хитроумных установлений. Была особая наука, которая пыталась привести в систему тончайшие оттенки ухаживания; были Суды любви, где со всей педантичностью и торжественностью судопроизводства разбирались те же щекотливые предметы. Важно иметь в виду одну вещь, которая тесно связана со святым Франциском. Эта высокая чувствительность была, конечно, не совсем безопасна; но не надо думать, что главной опасностью было распутство. В провансальской романтике, как и в печальной провансальской ереси, напротив, было слишком много духовного. Эта любовь не грешила чувственностью – она грешила утонченностью, доходящей до условности. Когда читаешь их стихи, веришь, что дама – самая прекрасная на свете, но как-то не очень веришь, что она вообще на свете жила. Данте кое-чем обязан трубадурам, и ученые споры о его прекрасной даме – прекрасный пример таких сомнений. Мы знаем, что Беатриче не была ему женой, но можем твердо сказать, что она не была ему и любовницей, а некоторые ученые подозревают, что она была вообще просто музой. Я не верю, что Беатриче – аллегория; не поверит и всякий, кто читал «Vita Nova»[67]67
«Новая жизнь» (1292) – повесть Данте, посвященная встрече с Беатриче, дочерью Фолько Портинари, (1265–1290).
[Закрыть] и был хоть когда-нибудь влюблен. Но если можно усомниться в ее существовании, посудите сами, какими отвлеченными были средневековые страсти. Однако при всей своей отвлеченности чувства эти были очень страстными. Трубадуры любили своих условных дам со всем пылом любовников. Об этом надо помнить, иначе не поймешь Франциска, когда на истинном языке трубадуров он говорил, что дама его прекрасней и милостивей всех, а имя ей – Нищета.
Но сейчас я хочу рассказать о жонглерах, а не о трубадурах, вернее, о том, как мой герой превращался из трубадура в жонглера; и для этого мне придется потолковать еще о средневековых стихотворцах. Жонглер не то же самое, что трубадур, хотя иные трубадуры были и жонглерами. Чаще все-таки это были разные люди, и дело у них было разное. Наверное, часто они ходили парой по свету, как товарищи по оружию или, вернее, товарищи по искусству. Жонглер был, в сущности, скоморохом, шутом, но иногда он был и тем, что мы сейчас называем жонглером. Если этого не знать, не понять легенды о Тайефере-Жонглере, который в битве при Гастингсе пел смерть Роланда[68]68
Битва при Гастингсе (1066) – сражение, в результате которого норманны овладели Англией. По преданию, Тайефер, спутник Вильгельма Завоевателя, пел о смерти Роланда, жонглируя мечом. Роланд – французский национальный герой, племянник Карла Великого, погиб в битве с маврами, ему посвящена «Песнь о Роланде».
[Закрыть], подбрасывая и ловя меч, как ловит мяч жонглер на арене. Вероятно, жонглер бывал и акробатом, подобно герою прекрасной легенды «Жонглер Богоматери», который кувыркался и стоял перед статуей Пречистой Девы, и Она похвалила его, утешила, как и вся Ее святая – свита. Трубадур, по всей вероятности, возвышал дух собравшихся серьезными песнями о любви, а потом – для разрядки, для смеха – появлялся жонглер. Какой прекрасный роман можно написать о странствиях такой пары! Во всяком случае, если есть где-нибудь в литературе чистый францисканский дух, то именно в легенде о Жонглере Богоматери[69]69
Жонглер Богоматери – персонаж народной легенды. Ремесло жонглера казалось греховным, близким к язычеству. Один жонглер в старости ушел в монастырь, но там он не мог служить Богу принятым в монастыре способом, так как не умел, как другие монахи, переписывать книги и не знал молитв. Однажды, оставшись один, стоя перед иконой Богоматери, он решился порадовать Ее своим искусством. Сбежавшиеся монахи возмутились, увидев, как жонглер кувыркается перед иконой, но тут сама Богоматерь сошла к выбившемуся из сил старику и утерла ему пот.
[Закрыть]. И когда Франциск называл своих последователей жонглерами Божьими, он имел в виду что-то очень близкое к этому скомороху.
Где-то между высокой страстью трубадуров и дурачествами жонглеров, словно в притче, истина о святом Франциске. Из двух менестрелей жонглер, несомненно, был вторым, второстепенным. Святой Франциск действительно верил, что открыл тайну жизни и она – в том, чтобы стать слугой, стать вторым, а не первым. В этом служении, в самой его глубине, он обрел свободу, граничащую с беззаконием. Жонглер тоже был беззаконно свободен. Он был свободен, ибо рыцарь был суров; можно стать шутом, когда свободно служишь чести. Когда сравниваешь двух певцов, двух менестрелей, мне кажется, лучше понимаешь, что изменилось в душе святого Франциска, тем более что к поэтам нынешний мир благосклонен. Конечно, в его душе было гораздо больше. Но этот образ поможет нам понять идею, которая, как покажется многим, сама, подобно жонглеру, стоит вверх ногами.
Примерно тогда, когда Франциск исчез в темнице пещеры, он пережил переворот, очень похожий на сальто-мортале, при котором клоун описывает полный круг и снова становится на ноги. Мне приходится употреблять гротескный, цирковой образ, потому что вряд ли можно найти более точное сравнение. Если смотреть вглубь, то был переворот духовный. В пещеру вошел один человек, вышел – другой, словно первый умер и стал привидением или обитателем рая. И отношение его к миру изменилось столь сильно, что тут не подберешь точного сравнения. Он смотрел на мир так необычно, словно вышел из тьмы на руках.
Но если мы вспомним притчу о Жонглере Богоматери, она во многом нам поможет. Теперь все признали, что пейзаж можно увидеть точнее и яснее, если его перевернуть. Некоторые пейзажисты принимают очень странные позы, чтобы с необычной точки посмотреть на свою картину. И вот, перевернутая картина, особенно яркая, четкая и поразительная, немного похожа на мир, который видят каждый день мистики, подобные святому Франциску. Тут мы и подходим к притче, к сути дела. Жонглер из легенды стоял на голове не для того, чтобы яснее и ярче видеть деревья и цветы, он об этом и не думал. Он стоял на голове, чтобы порадовать Божью Матерь. Если бы святой Франциск последовал его примеру – а он был вполне на это способен, – его подвигли бы те же, чисто духовные мотивы. Только потом внутренний свет озарил бы все заново. Вот почему нельзя считать святого Франциска просто романтическим предвестником Возрождения, певцом естественных радостей. Вся его суть, вся его тайна в том, что естественную радость обретешь лишь тогда, когда видишь в ней радость сверхъестественную. Другими словами, он повторил в своей жизни тот исторический процесс, о котором я говорил во второй главе: он очистил себя аскезой и увидел мир заново. Но в его жизни было не только это; параллель с Жонглером Богоматери можно провести и дальше.
Наверное, в той темной пещере или келье Франциск провел самые темные свои часы. От природы он был наделен тем тщеславием, которое противоположно гордыне; тщеславием, которое близко смирению. Он никогда не презирал ближних, и потому не презирал их мнений, и любил, чтобы его любили. И вот, этой части его естества был нанесен тяжкий, почти невыносимый удар. Может быть, когда он вернулся с позором из похода, его называли трусом. Во всяком случае, после ссоры с отцом его называли вором. И даже те, кто относился к нему хорошо, – священник, чью церковь он чинил, епископ, благословивший его, – явно жалели его и над ним подсмеивались. Он остался в дураках. Всякий, кто был молод, кто скакал верхом и грезил битвой, кто воображал себя поэтом и принимал условности дружбы, поймет невыносимую тяжесть этой простой фразы. Обращение святого Франциска, как и обращение святого Павла, началось, когда он упал с лошади[70]70
Обращение святого Павла – до своего обращения Павел (тогда он звался Савлом) был одним из наиболее яростных гонителей христианства. На пути в Дамаск, куда он шел, чтобы изловить членов местной христианской общины, «внезапно осиял его свет с неба; Он упал на землю и услышал голос, говорящий ему: Савл, Савл! что ты гонишь Меня?» (Деян. IX, 3–4). В Евангелии ничего не сказано о коне, с которого упал Савл, но Честертон со своей любовью к деталям дорисовывает эту сцену – не пешком же «шел» Савл в Дамаск.
[Закрыть]. Нет, оно было хуже, чем у Павла, – он упал с боевого коня. Все смеялись над ним. Все знали: виноват он или нет, он оказался в дураках. То была правда, неоспоримая, весомая, словно камень на дороге. Он увидел себя крохотным и ничтожным, как муха на большом окне, увидел дурака. И когда он смотрел на слово «дурак», написанное огненными буквами, слово это стало сиять и преображаться.
Нам говорили в детстве, что, если прорыть дырку сквозь Землю и лезть в нее все дальше, придет такое время, когда ты будешь лезть уже не вниз, а вверх. Не знаю, так ли это. Не знаю потому, что мне не случалось прокапывать Землю насквозь, тем более пролезать сквозь нее. Наверное, и я, и читатели – люди обыкновенные, не побывали там, где оказался святой Франциск. Да, и это аллегория. Мы не следовали за Франциском в то диковинное место, где полное унижение преображается в полную святость и радость. Я, во всяком случае, дошел только до того падения с романтических баррикад мальчишеской суетности. Здесь я лишь угадываю; может быть, он чувствовал что-то совсем другое. Но что бы он ни чувствовал, это все-таки очень похоже на сказку о человеке, который роет тоннель сквозь землю, идет все ниже и ниже и вдруг, в один таинственный миг, уже лезет вверх. Мы никогда не были так высоко, ибо никогда не были так низко, и потому не вправе говорить, что этого не бывает. Чем честнее и спокойней мы читаем историю человечества, особенно историю лучших людей, тем больше мы убеждаемся, что это бывает. О том, что при этом чувствуют, я и не пытаюсь писать. Извне, для ясности рассказа, напишу: когда Франциск вышел из пещеры откровения, он нес слово «дурак» как перо на шляпе, как плюмаж, как корону. Он согласился быть дураком. Он был готов стать еще глупее, стать придворным олухом Царя небесного.
Это можно выразить только символом; и образ перевернутого мира снова, хотя и по-другому, пригодится нам. Если человек увидит мир вверх ногами, а все деревья и башни – вниз головой, как в пруду, он яснее почувствует, что такое зависимость (ведь и слово «зависимость» происходит от слова «висеть»). Ему станет особенно ясен текст из Писания о том, что Бог повесил Землю ни на чем[71]71
«Бог повесил землю на на чем» – Ср.: Иов, XXVI, 7.
[Закрыть]. Может быть, святой Франциск видел в одном из своих видений город Ассизи вверх ногами – совершенно, до мелочей, такой же, как в жизни, только перевернутый. Для обычного глаза тяжелая кладка стен и весомость башен говорили о надежности, прочности; но тому, кто видел город вверх ногами, он казался беззащитным и беспомощным. Святой Франциск мог любить свой маленький город так же сильно, как раньше, даже больше – но другой любовью. Он любил каждую черепицу на крутых крышах, каждую птицу на карнизах, но видел их в новом, чудесном свете постоянной опасности и зависимости. Уже не гордясь своим сильным городом, который не сдвинуть никому, он благодарил Всемогущего за то, что город не рухнул в бездну. Он благодарил за то, что вся Вселенная не оборвалась, словно огромная сосулька, и не рассыпалась мириадами звезд. Быть может, так видел и Петр, когда висел на кресте вниз головой[72]72
…Так видел и Петр… – Апостол Петр был распят вниз головой в 67 г.
[Закрыть].
Обычно, хотя и цинично, говорят: «Блажен, кто ничего не ждет, ибо он не разочаруется». Святой Франциск говорил в счастливом смирении: «Блажен, кто ничего не ждет, ибо он обрадуется всему». Он намеренно начал с нуля, с темной пустоты изгойства, и пришел к небывалой радости, научился наслаждаться всем на свете так, как почти никто не наслаждался. Простые, внешние вещи, которым он радовался, сами говорят об этом – ведь нельзя заработать звезду или заслужить закат. Но речь идет о большем, о таком большом, что почти невозможно подыскать слова. Да, чем меньше думаешь о себе, тем больше думаешь о своем счастье и щедрости Божией. Но верно не только это. Ты видишь больше и в самих вещах, если лучше видишь их причину, ибо причина – составная их часть и, конечно, самая важная. Если объяснять вещи, они становятся чудеснее, мы больше дивимся им, меньше их боимся; ведь вещи чудесны, когда они что-то значат, а не тогда, когда они не значат ничего. Пусть бесформенное, или глухое, или злое чудище будет больше гор – его, в полном смысле этого слова, можно назвать незначительным, если оно ничего не значит. Для мистика, каким был святой Франциск, любое чудище значит что-то, оно передает свою весть, говорит на знакомом языке. В этом и смысл преданий – правдивы они или нет – о том, что он, как волшебник, знал язык зверей и птиц. Тайновидец не связан с тайной ради тайны, ибо такая тайна прикрывает грех.
Когда хороший человек становится святым – это истинный переворот. Для хорошего все на свете объясняет и утверждает Бога, а для святого Бог объясняет и утверждает все. Увидев женщину, влюбленный может сказать, что она похожа на цветок, но потом все цветы похожи для него на возлюбленную. И святой, и поэт, глядя на цветок, скажут, казалось бы, одно и то же; скажут правду, но разную. Для поэта радость жизни – причина веры, для святого – скорее плод. А главная разница между ними – вот в этом чувстве чудесной зависимости: для поэта оно подобно молнии, для святого – яркому дневному свету. Если человек в особом, мистическом смысле находится по ту сторону вещей, он видит, как выходят они из Божьего лона, словно дети из теплого дома, а не просто встречает их, как все мы, на путях мира сего. И самое странное – в том, что из-за этого он проще, свободней, беззаботней, радостней нас. Для нас предметы – как герольды, которые возвещают, что мы неподалеку от столицы великого царя. Святой приветствует их запросто, почти развязно. Он зовет огонь братом, воду – сестрой.
Так из почти нигилистической пропасти встает то великое, что зовут хвалою; то, чего не поймут, если путают с поклонением природе или с пантеистическим вседовольством. Когда мы говорим, что поэт воспевает всякую тварь, мы просто имеем в виду, что он воспевает все. Но мистик действительно воспевает тварь – то, что сотворено; он воспевает сам переход от небытия к бытию. И снова путь нам пересекает тень моста, который дал священнослужителю его таинственное, древнее имя[73]73
Тень моста, который дал священнослужителю его таинственное, древнее имя – римское наименование жреца «pontifex» («понтифик») происходит от слова «pons» – «мост».
[Закрыть]. Проходя через миг, где нет ничего, кроме Бога, мистик видит то безначальное начало, когда действительно так и было. Он не только ценит все – он ценит ничто, из которого все создано. Он один способен вынести сокрушительную насмешку книги Иова[74]74
Сокрушительная насмешка книги Иова – «Книга Иова» входит в состав Библии. Праведник Иов был подвергнут множеству испытаний, лишился детей и имущества, заболел проказой. Он требует у Бога ответа – почему Он поступил так с тем, кто был верен Ему. Вместо ответа Бог, в свою очередь, задает Иову вопрос – что знает тот о замысле Божием? «Где был ты, когда Я полагал основания земли?» (Иов, XXVIII, 4).
[Закрыть], ибо он был там, где Бог полагал основания земли, где ликовали утренние звезды и сыны Божии восклицали от радости. Может быть, теперь вам станет хоть немного понятней, почему францисканцы в лохмотьях, без денег, без дома и – на первый взгляд – без надежды ликовали, как утренние звезды, и восклицали, как Божьи сыны.
Ощущение великой благодарности и великой зависимости – не пустая фраза, даже не чувство; это – реальность, и все дело в том, что на этом реальность держится. Это не вымысел, а факт; скорее уж, по сравнению с этим, все факты – вымыслы. Нам не просто кажется, что все мы в каждой мелочи, каждый миг, зависим, как сказал бы христианин, – от Бога, как сказал бы агностик[75]75
Агностицизм утверждает, что человек может познать только явления, но не их суть.
[Закрыть], – от природы вещей. Это не иллюзия, это самая главная правда, которую мы прикрываем иллюзиями повседневной жизни. Повседневная жизнь очень хороша, и воображение – штука неплохая, но повседневная жизнь гораздо больше зависит от воображения, чем жизнь мистическая. Тот, кто видел мир на волоске милости Божьей, видел истину, если хотите – неприкрытую. Тот, кто видел свой город перевернутым, видел его правильно.
Россетти[76]76
Россетти Данте Габриел (1828–1892) – английский художник и поэт.
[Закрыть] где-то говорит – горько, но очень справедливо, – что хуже всего атеисту, когда он чувствует благодарность, а благодарить ему некого. Верно и обратное: тому, о ком мы здесь толкуем, благодарность давала самую большую радость, какая только ведома людям. Один замечательный художник гордо утверждал, что подмешал в свои краски мозг; о великом святом мы вправе сказать, что он замешал свои мысли на хвале. Все блага лучше, когда они дары. В этом смысле, без всякого сомнения, метод мистиков очень практичен и помогает жить, но надо непременно помнить и то, что внешний мир всегда отходит у мистика на второй план по сравнению с непреложной зависимостью от Бога. В обычных общественных отношениях есть что-то весомое, в них есть опора, есть уют; что ни говори, они обеспечивают нам здравомыслие и безопасность. Но тому, кто видел мир на волоске, нелегко принять их совсем уж всерьез. Пусть мирская власть и мирская иерархия, даже самая нужная, самая естественная, помогает нам твердо стоять на земле и охраняет нас; тот, кто видел их вниз головой, никогда уже не сможет смотреть без улыбки на власть имущих. В этом смысле прямое видение реальности Божией обесценивает вполне здравые, важные вещи. Мистик не может прибавить себе росту на локоть[77]77
«…прибавить себе росту хотя бы на локоть» – Мф. VI, 27.
[Закрыть], но что ему рост? Он уже не станет принимать себя как данность только потому, что его имя записано в церковной книге или в семейной Библии. Собственно, он – вроде сумасшедшего, который, защищая свою сущность, забыл свое место среди людей. «Я звал отцом Петра Бернардоне, теперь я – слуга Господень».
Все эти глубокие материи можно передать только очень коротко и несовершенно; и короче всего будет сказать, что мистик узнает о неоплатном долге. Наверное, покажется парадоксом, если я скажу, что человек обретает радость, когда узнает, в каком он долгу; но путает нас лишь то, что в коммерческом мире должник не очень склонен к ликованию, особенно если долг неизмерим, тем самым – неоплатен. И тут снова может помочь сравнение с любовной историей, где заимодавец разделяет радость должника, точнее, оба должники и оба заимодавцы. Долг и зависимость становятся радостью, когда речь идет о незапятнанной любви. Слово «любовь» слишком легко и часто употреблялось всуе, но здесь без него не обойтись. Оно – ключ ко всем проблемам францисканской морали, которые так озадачивают современного человека, особенно к аскезе. Тот, кто знает, что долг его неоплатен, выплачивает долг непрестанно. Он вечно отдает то, что не в силах отдать, швыряет в бездну благодарения. Многие думают, что они слишком для этого современны, на самом же деле они слишком плохи. Почти все мы – слишком плохи, чтобы так жить. Мы не так щедры, чтобы стать аскетами, можно даже сказать, не так радушны. Мы не так благородны, чтобы сдаться, разве что в первой любви мелькнет нам потерянный нами рай. Но видим мы это или нет, истина – все в той же загадке: на свете есть одно истинное благо – неоплатный долг.
Если даже та романтическая любовь, которая давала силу трубадурам, выходит из моды и считается вымыслом, куда уж современному миру понять аскетов! Вполне возможно, что какие-нибудь варвары попробуют начисто изгнать рыцарство из любви, как варвары, правящие в Берлине, изгнали его из войны. Если бы им это удалось, люди презрительно удивлялись бы и бестолково спрашивали, что за жадные женщины нагло требовали дани и какое невиданное корыстолюбие побуждало их стремиться к золотому кольцу; ведь спрашивают, почему жестокий Бог требует отречения и жертвы. Потеряв ключ ко всему, что влюбленные зовут любовью, люди не понимали бы, что в любви дают, ибо об этом не просят. Поможет меньшее понять величайшее или не поможет, безнадежно и бесполезно изучать францисканское движение, если вы, как нынче принято, ворчите на мрачный аскетизм. В том-то и дело, что Франциск был аскетом и не был мрачным. Как только его выбило из седла смиряющее и славное виде́ние любви Господней, он ринулся в пост и бдение, как ринулся бы раньше в битву. Он выписал вексель, все отдал кредитору и не оставил себе никакого обеспечения. Он ничего не лишился, он не сковал себя «режимом», не ушел в «суровую простую жизнь». Его самоотречение ничуть не похоже на наш «самоконтроль» – оно положительно, как страсть, как наслаждение. Он упивался постом, как упиваются вином, искал нищеты, как ищут денег. Именно положительность, пылкость его непонятны современным людям, гоняющимся за удовольствиями. Однако это исторический факт, а связана с ним еще одна нравственная истина, почти такая же непреложная. Нет сомнений, что этим героическим и непривычным для нас путем он шел с той минуты, как убежал во власянице в зимний лес, до той, когда и в смертной муке хотел лежать на голом полу, чтобы показать, что не был ничем и ничем не владел. Но можно сказать почти с той же уверенностью, что звезды, проходившие над истощенным нищим по своему сияющему пути, наконец увидели в мире, населенном нуждающимся людом, человека поистине счастливого.
Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?