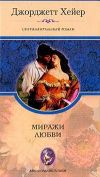Текст книги "Последние распоряжения"

Автор книги: Грэм Свифт
Жанр: Современная проза
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 15 (всего у книги 18 страниц) [доступный отрывок для чтения: 5 страниц]
Кентербери
Их нигде не видно. Как будто они ушли и бросили меня одного в Кентерберийском соборе. И я бреду обратно к тому месту, где мы с Винсом расстались, на случай, если они будут меня искать, и снова сажусь на деревянное сиденье, опираюсь локтями на колени и думаю: я сейчас вроде запасного жокея на скачках.
У меня такое чувство, будто он смотрит на меня, видит мои мысли. Давай, Рэйси, решайся, хватит тянуть. Как будто дело не только в монете, дело во мне, в нас двоих. Вот они деньги, Эм, а вот он Рэйси. Теперь у тебя все будет в порядке, со Счастливчиком-то. И локтем в бок, и подмигивает. Я думаю, вы с ним споетесь.
Как будто мне следовало быть вместо него.
Я жду на сиденье, поглядывая по сторонам, но их нигде не видать, поэтому я встаю и нахожу выход, а там и их: они стоят на мостовой и озираются, ищут меня. Здрасте, друзья-приятели, думаю я. Небо темное, грозовое, и ветер холодный, но их это, похоже, не огорчает. Со стороны кажется, что им хорошо быть здесь вместе, что все прощено и забыто.
Может, и так, думаю я.
– Куда ты пропал? – говорит Винс. – Мы уж думали, потерялся.
В руках у Винса путеводитель. Вик держит пакет. У меня ничего нет, но такое ощущение, будто я несу много чужого и все это видят.
Я чувствую за собой огромный собор, он смотрит на меня.
– А мы в монастыре были, – говорит Винс. – Ты туда заходил? – Точно без этого нельзя.
– Заходил, – говорю я, а сам думаю: по мелочам врать легко.
Потом мы идем обратно в ворота и по узким улочкам, хотя теперь выбираем не ту узкую улочку, по которой пришли сюда, а другую. Она называется Бутчери-лейн [19]19
Бутчери-лейн – Мясницкая.
[Закрыть], поэтому мы ее и выбираем.
Винс говорит, что надо идти по ней. Когда мы на нее сворачиваем, начинает барабанить дождь. Но посередине нам попадается маленький бар, «Арсенал», и он открыт, и Ленни говорит, что не мешало бы пропустить по глоточку – вреда, мол, от этого не будет.
Вик
А потом он говорит – серьезно, без улыбки, сидя у меня в кабинете, руки розовые и тщательно отмытые после сегодняшней возни с мясом, точно это не Джек, а такой предусмотрительный клиент, которого хоть сейчас обряжай да клади в гроб: «Честно сказать, Вик, – ты же старый моряк, ты меня поймешь, – я был бы не против, если б меня похоронили в море».
Эми
Наверное, они уже там, уже добрались до берега. Вытряхнули его из банки, развеяли по ветру. Сейчас они, должно быть, уже на полпути обратно, если не застряли в Маргейте, чтобы устроить себе отдых после работы: катанье на осликах и всякое такое.
Но я и сейчас думаю, что мое место здесь. У меня свой маршрут. У них свой, а у меня свой. Живые важнее мертвых, даже те, кто в его глазах был не лучше мертвого, так что теперь они для него все одинаковы. И потом, я уже попрощалась с ним, если не в первый раз, то в последний. Прощай, Джек, прощай, моя старая любовь. Кто-нибудь может сказать, что Джун и не заметила бы, пропусти я эту встречу с ней ради последнего дня с ним, я ведь и раньше их пропускала – когда-то, давным-давно, целую дюжину, – а ведь прах собственного мужа не каждый день развеивают, тут уж второго раза не будет. Но откуда ему знать, заметит она или не заметит? Да и, вдобавок, кто-то ведь должен ей сообщить.
Что ей все равно, что ему.
Кроме того, не думаю, чтобы я справилась. Стоять гам на Пирсе, где раньше была Дамба, внизу волны, соленые брызги в лицо, и чувствовать на себе их взгляды. Ты первая, Эми, не торопись, мы подождем. Ветер полощет юбку. Погода нынче такая – в Маргейте, наверное, чуть ли не шторм.
Вот где мое место – на втором этаже автобуса. Можно сказать, что за многие годы этот сорок четвертый номер стал мне родней собственного дома. Я ни здесь, ни там, вечно в дороге. Не знаю, смогла бы я когда-нибудь поселиться в Маргейте или нет. «Собираем манатки, Эм», – заявил он. Когда я уже давно махнула на него рукой, давно решила, что этого никогда не случится, уверенная, что в один прекрасный день он просто свалится замертво у себя за прилавком, в своем полосатом фартуке, с ножом в руке, чего ему, наверно, и хочется: еще одна туша для обработки. «Я завязываю. Все ясно?» Ха. «Начнем новую жизнь, крошка, – ты да я». Не знаю уж, что гам случилось, какая муха его укусила, какой медведь в лесу сдох. И глядит на меня, точно ждет, что я запрыгаю от радости, точно смотрит не на женщину, с которой прожил полвека, а на кого-то другого, незнакомого. «Маргейт, – сказал он. – Как насчет Маргейта?» Будто можно перевести стрелки назад и начать все сызнова. Второй медовый месяц. Будто Маргейт – это волшебная страна фей.
Тогда я и поняла, что мы поменялись местами. Ведь много лет назад, когда я в первый раз распрощалась с ним, это я думала, что всегда можно начать заново, что жизнь не кончается только потому, что ты в ней завяз. У меня еще хватало сил выбирать. И я выбрала не его, а Джун. Я наблюдала, как он окончательно превращается в мясника Доддса – Джек Доддс, мясник экстракласса, возьмите фарша, мадам, возьмите лопатку, – потому что не смог тоже выбрать Джун, выбрать свою плоть и кровь, всего-то навсего, и я думала, что еще способна на перемены, а вот он нет. Да, было такое дело. Но когда он смотрел на меня в ту пору, смотрел, как на кого-то другого, я чувствовала, что застряла в собственной колее. Стала женщиной, которая каждый понедельник и четверг ездит на сорок четвертом автобусе. Даже через неделю после смерти мужа.
Словно это моя вина, что я его оставила, распрощалась с ним – раз, потом другой.
А она никогда не узнает. Никогда.
Маргейт, Маргейт. А как же Джун?
Насчет автобуса. Красный, двухэтажный, шлепает и хлюпает сквозь дождь, с номером над кабиной, со своим пунктом назначения и своим маршрутом, который сохраняется из года в год. Точно пока есть номер сорок четвертый, идущий от Лондонского моста до Митчем-Крикетерс, этот мир не разлетится на куски, Лондонский мост не рухнет. Точно и впрямь, как всю жизнь бубнил он и его папаша, Смитфилд – это настоящее сердце Лондона, чтоб мне провалиться, ребята, и в таком случае красные линии автобусных маршрутов, должно быть, артерии, артерии и вены, по которым бежит кровь.
Ни разу на такси. На Джекову-то выручку? И ни разу на метро, хотя это быстрее: по Северной до самого Мордена. Потому что я люблю видеть, люблю думать, когда путешествую, когда я в дороге. Мне нравится смотреть по сторонам. И только дюжину раз в фургоне. А может, больше? На сколько больше дюжины, а, Рэйси?
Но почему я сегодня поднялась наверх? Здесь как на корабле, по которому хлещет дождь. Чтобы доказать, что я еще здоровая женщина, не чета старым воронам внизу? Чтобы доказать, что я еще способна на выбор? Чтобы по-новому увидеть мир, скользящий мимо? Ламбет, Воксхолл, Баттерси, Уондсуорт. Разве могла бы я, Рэй, стоять рядом с тобой, вместе разбрасывать его пепел? Мое место здесь, в сорок четвертом. Возьмите немного пепла, мадам. И пока бегут красные автобусы, будет бежать красная кровь и сердце будет стучать, стучать. Ах, Рэй, счастливчик, ты такой маленький. Прости, бедный мой Джек.
Рэй
В общем, я развернул перед собой «Рейсинг пост» с полной таблицей Донкастерских скачек. Потом закурил сигаретку и вынул блокнот с записями. Отчет Рэя Джонсона за 87-й, 88-й, 89-й. Всегда записывайте свои ставки. Потом мысленно прошелся по забегам и участникам, прикидывая в голове ограничения и соотношения, куда можно соваться, а куда не следует, – все это со временем начинает делаться автоматически. Люди думают, что, раз я Счастливчик Джонсон, у меня работает только шестое чувство, и иногда это так и есть, везение играет свою роль. Однако я умею извлекать из этого занятия выгоду – а это никогда не удалось бы ни Джеку Доддсу, ни Ленни Тейту, – именно потому, что все хотят верить во внутренний голос и со стороны это выглядит везением, но по-настоящему это на девяносто процентов расчет, обыкновенная арифметика. Не зря же я просиживал штаны в страховой конторе. Люди думают, что выигрыш падает с неба, что это ответ на их молитвы, но надо уметь перехитрить букмекера, а чтобы перехитрить букмекера, надо кое в чем кумекать и самому.
В общем, я изучал участников, поглаживал подбородок и думал: да, нелегкая мне выпала задачка. Нестандартная ставка, да еще налог. С тысячи-то фунтов. А гандикапы в начале сезона – это кот в мешке. Ладно еще, если б я попал туда сам, тогда было бы легче. Ты видишь лошадок, чувствуешь атмосферу, это тебе не голые цифры. И на душе спокойнее. Стук копыт по дорожке, солнце на жокейских костюмах, ирландский треп. Вся эта бурлящая смесь пива и надежды. Все, чего Джек больше никогда не увидит и не услышит.
Дымок от сигареты тянулся к окну. Легкие облачка после дождика, слабый ветер – значит, хорошие, чуть мягковатые дорожки. Учтем.
Я глянул на часы: половина двенадцатого. Только дурак торопится ставить, атмосфера меняется каждую минуту, расчет и чутье – вот что решает. Поспешишь – людей насмешишь. Но что, если? Если бы Джек.
Я старался не смотреть на имя, которое смотрело на меня из середины списка по забегу в три ноль пять. Двадцать два участника. Разве имя что-нибудь значит? Меня вот зовут Счастливчиком. Только дурак ставит на имя. А Джека уже не спасти, ему уже крышка.
Я перелистал блокнот, набросал кое-какие цифры. Правило номер один: выигрывать, так по-крупному. Но Джеку и этого мало, ему нужен огромный выигрыш, всем выигрышам выигрыш, чтобы спасти свою шкуру, свою несчастную дырявую шкуру. И арифметика его не волнует.
Так что это случай из ряда вон.
Но я все старался не смотреть на имя, которое смотрело на меня. Безнадежный аутсайдер, шансы примерно один к двадцати. Хотя оно так и пялилось на меня. Есть удача и удача. Есть ровная удача, которая ничем тебе не грозит, которая не дает пулям задеть тебя или помогает тебе иметь маленький навар, свои пять процентов, а есть сумасшедшая удача, благодаря которой ты срываешь банк. Есть расчет и шестое чувство, которое иногда усиливается настолько, что забивает расчет, и ты узнаешь о лошади все, что тебе нужно, по одному только наклону ее головы. Можно сказать, что все дело в ставках, но иногда это просто бег, и азарт, и рев скачек. Иногда это чистое торжество лошадей.
И я затушил одну сигарету, прикурил другую и прошелся по комнате, точно что-то мешало мне усидеть на месте. Постоял у окна. Задворки Бермондси. А круг в Донкастере широкий, в самый раз для гладкой скачки. [20]20
Гладкая скачка – обычная скачка в отличие от стипль-чеза (скачки с препятствием).
[Закрыть] Это же дураком надо быть. Но я чуял удачу – нутром, всеми поджилками. То, ради чего оно все делается, ради чего ты этим и занимаешься, в конце концов. Я открыл окно, как будто мне не хватало воздуха. Почувствовал ветерок, и дым у себя в ноздрях, и жизнь во всем теле, и как Джековы деньги жгут мне грудь у самого сердца.
Чудотворец.
Эми
В те дни легко было заставить мужчину улыбнуться. Даже наш учетчик Альф Грин – грудь колесом, на ней болтаются палочки, под носом черные усищи и взгляд как у старшины, берегись, если у тебя недобор, – и тот изображал передо мной что-то вроде улыбки. А может, это мне только мерещилось. Кажется, что бы ему стоило иногда отойти от правил, зачесть шесть бушелей за семь. Я у корзины в своей легонькой юбочке, разгоряченная, липкая, и он со своим ножом для насечек. За семь бушелей давали шиллинг, и каждый хотел дотянуть до двух с половиной шиллингов в день. Тяжелая работа, с рассвета на ногах. Но не думайте, что и там не было обходных путей, разных хитрых способов получать заветные жетоны. Если судить по жетонам, то чемпионкой была Ширли Хопкинс. Двести бушелей в неделю, хотя на самом деле это были не только бушели. Под конец она наколотила чуть ли не десять фунтов плюс излишки за наличные. Ее мамочка с папочкой в Дептфорде небось на стенку влезли от счастья, когда она послала им пятерку. Малютка Ширли, наша неутомимая труженица.
И не думайте, что у нас не было своих маленьких радостей. Там можно было работать и даром – сад Англии платил тебе солнечным светом, свежим воздухом, запахом сена и хмеля, и у тебя было такое чувство – хотя работа от себя не отпускала и гулять было особенно некогда, корзины в ряд, и на каждую по три-четыре человека, прямо фабрика под открытым небом, – что ты на свободе. На воле. Жили в шалашах и палатках, как кочевники, не привязываясь к одному лагерю. Вокруг ни лоточников, ни цыган, ни собак, ни других сборщиков. Жареная вкуснятина по вечерам. Костры, котелки, масляные лампы, болтовня обо всем на свете.
Приходили и цыгане со своими лошадьми, тоже собирать хмель, но становились табором поодаль, на противоположной опушке, поглядывая на нас так, словно мы заняли чужое место, и я завидовала им, потому что они были еще большими отщепенцами, чем мы, – профессионалами в отличие от нас, любителей, и когда мы вернемся обратно в Бермондси, в свои каменные коробки, они по-прежнему будут скитаться по лесам и полям. Завидовала их темной ореховой коже – не то что мы, лондонцы, квашня квашней, белые с красным, как столбики перед входом в парикмахерскую. Я каждый вечер подглядывала, как один из них водит коня на водопой к пруду, – мы в это время как раз шабашили. Он-то хмелем не баловался, забава для городских пигалиц. Здоровый парень. Оба с голыми спинами, что он, что конь.
Наверное, это было больше, чем зависть.
Мать говорила мне, ты там не вздумай...
Я и не вздумала, хотя могла бы. Вместо этого я крутила любовь с Джеком Доддсом – Джеком Доддсом, который был с другого конца Бермондси. Сосед, можно сказать. Не знаю уж, что делала Ширли Томпсон, как она предохранялась, но она-то не залетела, а вот я да, с первого же раза.
Он тоже был мускулистый, тоже крупный мужик, даже больше того цыгана, хоть и не такой ладный. Мне не стыдно признаться, что тогда они мне нравились, большие ребята, – а может, я сама себя обманывала. Что еще надо девчонке, кроме дюжего парня? И я знала, что он положил на меня глаз – все зыркал оттуда, с другого ряда корзин, делал стойку. А тот цыган и ухом не вел, и головы в мою сторону не поворачивал, разве что за моей спиной, когда не было риска, что я оглянусь. Джек тоже не считал сбор хмеля мужским делом, с его-то ручищами. Похудел, правда, кожа да кости. Он говорил, это все равно что на ромашке гадать. Любит – не любит. Или считать пуговицы. «Так чего ты тогда приехал?» – спросила я. «Есть причины», – ответил он. «И что ж ты здесь делаешь, кроме работы?» – «Так я тебе и сказал». Но кто-то шепнул мне на ушко, когда увидели, куда ветер дует: «У него папаша мясник», – да он и сам себя выдал в воскресенье вечером, на прогулке, когда мы зашли за ферму и остановились поглядеть на свиней: смотрел на них как на что-то знакомое, но словно бы с другой точки зрения, точно сосиски развешивал.
Все равно что гадать на цветах, бусинки нанизывать. Но нас свели вместе хмельные сережки, все началось со сбора хмеля. Так жизнь решает за тебя. Пей до дна, Винси, глядишь, и детишки появятся. Где собирают, там и выбирают. А потом так дальше и катится.
Он притащил газетный сверток, в котором было фунта два фасоли в стручках, – сказал, что ему дал ее один малый с фермы Уика, хотя я-то знала, что он наверняка своровал ее с поля, – и спрашивает, не надо ли мне. И я ответила: давай, если поможешь чистить. Вроде как сделала ему одолжение. Дядя Берт с Бенни оставили меня готовить ужин, а сами пошли в «Кожаную флягу» пить пиво, тратить свои жетоны, и он бы тоже туда пошел, если б не поджидал этого момента. Фасоль в стручках. «Ладно», – говорит он. Тогда я зашла в хибарку и взяла кастрюлю, два ножа, дуршлаг. Приходилось все таскать с собой, как беженцам: кастрюли, тазы, сковородки, прочую утварь. Потом отправилась к крану, принесла воды и дала ему ножик и только тут улыбнулась этакой неопределенной улыбкой, вроде желтого света на светофоре. Сразу никогда не заметишь, как одно за другое цепляется.
Потом я села на ступеньку у входа, разложила на траве газету, высыпала на нее фасоль, а кастрюлю специально поставила на ступеньку рядом, а то бы он туда уселся, места хватало. И говорю: «Внутри есть стульчик, если хочешь», – но он ответил: ничего, ему и на травке хорошо. Ноги мои лучше видать. Я бросила ему стручок и сразу поняла, что чистить он не умеет. Грудинку порубить он, наверно, умел, но фасоль явно никогда не чистил. «Вот так», – сказала я. Потом зажала дуршлаг у себя между ног, так что юбка вся сморщилась и натянулась. И говорю: «Кидай сюда. Попробуем полный набрать». Потому что хотела, чтобы он видел, чтобы он знал, если уж ему до сих пор непонятно, что это я, я сама жду, пока меня наполнят. Если только он этот дуршлаг со щитом не спутал. И мы принялись его наполнять. Вместо того чтобы вставать и класть туда фасоль, он целился и кидал, и, конечно, кое-что пролетало мимо, попадало совсем не туда, соскальзывало по моей юбке. Она была старомодная, кремовая с голубыми цветочками и на пуговицах спереди. Он все смотрел на эти пуговицы, считал их, что ли. В общем, дуршлаг мы наполнили. Я спрашиваю: «Ну, что дальше?», наматывая прядь волос себе на палец. Говорю: «Дядя Берт с Бенни еще не скоро вернутся, – а дуршлаг все торчит у меня между коленями. – Может, ты к ним хочешь?» Он сказал, что нет, не хочет, глядя на фасоль. Тогда я говорю: «Подожди. Давай сходим погуляем». Взяла дуршлаг и встала, отряхиваясь от фасоли, досадливо цокая языком, потом забрала кастрюлю, отнесла все внутрь и снова вышла с улыбкой, и он улыбался тоже.
Я подумала: что ты творишь, Эми Митчелл, куда тебя несет? Ты ведь даже не знаешь этого парня. Он тебе даже не нравится, по крайней мере не настолько, не до такой степени. Но вокруг было совсем тихо, безветренно, и так чудесно пахло. И такое чувство внутри меня, промеж меня: наполни. И надо же, чтобы, пересекая дорогу у пруда, мы увидали не кого другого, как моего цыгана с конем. Цок-цок. Все в этом мире случается благодаря совпадениям, что тут еще скажешь. Одно происходит из другого.
Но ты никогда не узнаешь, Джун, что именно благодаря этому произошла ты. Благодаря совпадению. И Джек никогда не узнает, что во всем виноват тот цыган, который попался нам по дороге. О чем-то можно говорить, а о чем-то нет. Ты никогда ничего не узнаешь, и раньше не знала, о теплых августовских вечерах и дуршлагах с фасолью. Ты никогда не узнаешь – да тебе это и ни к чему, может, без этого ты счастливее, – как одно цепляется за другое. Подведи человека к колодцу, и он станет пить. И вот ты уже с животом, пытаешься убедить себя, что виновата не больше, чем он, но все равно понимаешь – от этого никуда не скрыться, – что связала его по рукам и ногам, сказав: да, согласна, во взятом напрокат подвенечном платье, а остальные глядели на все это, точно у них самих на рыльце ни пушиночки. Подцепила – вот как это называется.
Но только после твоего рождения я почувствовала, как он рвется, выдирается прочь и одновременно обращается против меня, словно теперь все это и впрямь только моя вина, моя беда, а не его. Вот видишь, что ты наделала. Разве не лучше было бы, в конце-то концов, если бы мы сделали то же, что делают другие пары, когда жаркий вечер застает их в зарослях хмеля?
Но я думала: это не наказание, потому что одно ведет к другому, это не кара. Очень важно не считать это карой.
Не знаю, как я наскребла денег. В то лето о сборе хмеля уже и речи не было. Какое там! Ни одного лишнего шиллинга. Зато лишний рот. Правда, кормили этот рот не мы, его у нас взяли. Я чуть ли не на колени стала перед отцом и дядей Бертом. Сказала, у нас с Джеком даже медового месяца не было, так ведь? И теперь – теперь вот что. Имейте сочувствие.
Пожалуй, тогда я готова была бросить тебя, тогда я подошла к этому ближе всего.
Я сказала Джеку: на уик-энд едем в Маргейт. Не спрашивай, я все утрясла. Только уговори своего старика отпустить тебя. Скажи, это наш медовый месяц. Пароходом от Тауэрского моста. Думала: пусть скажет или покажет, что я ему еще нужна, даже если не нужна она. И пусть только попробует этого не сделать. А я скажу или покажу, что, пока ему нужна я, все остальное неважно, например ты. Тебе никогда не придется узнать, Джун, какими расчетливыми обманщицами мы умеем быть в иных случаях.
Я разорилась на новое летнее платье. Бельишко, туфли, чулки, купальник, полный комплект. Дядя Берт пошел в ломбард и заложил дедовы часы.
Солнце сияло, как будто оно было на нашей стороне, и волны искрились, и я была в новом платье, и так далее. Только вот мать в твоей душе вдруг заявляет о себе, когда ты меньше всего этого ждешь. Про это тебе тоже не придется узнать. Даже когда ты на морском берегу, мороженое и Панч с Джуди, и ты в новом купальнике, восемнадцатилетняя, и мужчины глазеют на тебя. А они таки глазели, со всех сторон. Я точно принадлежала всем разом.
Я думала: что ж, ты получил свой шанс, я дала тебе шанс.
Пирс, Дамба, Пески. Страна Грез.
Я думала, война все изменит, все расставит по своим местам. Начались передряги. Бомбы свистели над Бермондси, погибали целые улицы. Я думала: его могут убить. Или меня. Или тебя. Случайная бомба угодит в приют для безнадежных больных, никто не расстроится, благополучное избавление, в сущности. До чего подло. Но война просто подтолкнула все туда, куда оно и так катилось. Здесь были ты и я, больше никого из родных и близких, а там Джек, солдат, которого пули облетали стороной, снова превратившийся в холостого. На пару с Рэем Джонсоном. Так что когда Винс Причетт, то есть уже просто Винс, свалился на меня – на нас – с неба, мне следовало бы понять, что это ровным счетом ничего не изменит, его это уже не вернет. Как бы ты ни хотела чего-то, одним хотеньем делу не поможешь. Разве что подведешь лошадь к воде, но как заставить ее пить? Эми Доддс – добрая душа, приютила младенца Причеттов, а ведь у нее у самой-то. Но это ж и есть причина, разве не ясно?
С тех пор так и повелось: мы с тобой, а он с Винсом. Вернее, они с Винсом друг против друга, на ножах, на мясницких ножах. Но борьба объединяет мужчин, не дает им скучать.
Да, Винс, это случилось здесь. Вот где все завязалось. В саду Англии.
И чего ты никогда не узнаешь, так это того, что твое детское убеждение не было ошибкой. Все произошло из-за хмеля, можно сказать, во хмелю. Потому что в корзине. В большой корзине из дерюги, вместимостью в двадцать бушелей, подвешенной на своих опорах. Полное уединение, точно создана для этой цели. Как кролики в мешке.
И еще ты никогда не узнаешь, что три ночи спустя на том самом холме, рядом с той самой ветряной мельницей, у которой тогда еще были крылья, он посмотрел на меня, прямо мне в лицо, и, не отводя глаз, сказал: «Ты прекрасна, знаешь ты это? Прекрасна». Такого от сына мясника просто не ждешь. И когда это говорит мужчина, все в тебе переворачивается, что-то наполняет тебя целиком. Быть живой, дожить до того, что это скажет мужчина, любой мужчина, и видеть по его улыбке, что он говорит искренне.
Но тебе этого не понять, Джун, тебе этого никогда не дождаться.
О чем-то можно говорить, а о чем-то нет. Учетчик приходил со своими палочками и ножом для отметок, считал бушели, проверял, сколько ты набрала. Каменное лицо: я не кто-нибудь, а учетчик, не думай, что тебе удастся обвести меня вокруг пальца. Молись, чтобы все сошлось, учет дело серьезное. «Так... Митчелл Эми». И никаких улыбок. Может быть, я ошибаюсь, но мне кажется, он улыбнулся бы – хоть чуть-чуть, хоть самую малость, – если бы знал, что все произошло в этой самой корзине.
Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?