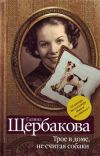Текст книги "Улыбнись нам, Господи"

Автор книги: Григорий Канович
Жанр: Современная зарубежная литература, Современная проза
Возрастные ограничения: +12
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 1 (всего у книги 17 страниц) [доступный отрывок для чтения: 5 страниц]
Григорий Канович
Улыбнись нам, Господи

I
К утру свадьба притомилась, но по уговору Данута и Эзра должны были веселить ее еще весь завтрашний день: недаром отец невесты достопочтенный Мендель Пекелис, маленький, пучеглазый, как лесная кукушка, еврей в черном праздничном сюртуке и в ермолке, бархатной скорлупкой прикрывавшей желток лысины, заплатил им чуть ли не за неделю вперед. На такие деньги не только сытно поешь в придорожной корчме или трактире, но и до самого Вильно доберешься.
В Вильно Эзра и Данута надеялись немного заработать, все-таки не глухомань, большой город, свадеб там справляют уйму, только успевай на них петь и плясать, чтобы потом через Минск и Смоленск двинуться в Москву, а оттуда в Сибирь за бурым медведем – мечтой всех бродячих скоморохов и площадных лицедеев. Они и двинулись бы с божьей помощью, если бы не багровая струйка, хлынувшая прямо в разгар свадьбы у Эзры из горла. Пел, плясал, пиликал на скрипке и вдруг зашелся в кашле – хорошо еще, успел ковшиком руки подставить, зажать в ладонях молодую кровь, не дав ей пролиться на вымытый до белизны (хоть мацу на него клади!) пол.
– Кровь, – сказал достопочтенный Мендель Пекелис, и в округлых кукушечьих глазах пожаром вспыхнул ужас.
– Кровь, – загалдели нищие, третий день кормившиеся на свадьбе и славившие своим восторженным чавканьем молодую пару.
Обвенчанные скукой, оживились и молодые – вытянули шеи, уставились на Эзру, на его напарницу, заморгали своими бессонными глазами.
– Где? Где? – зашумели со всех сторон.
Эзра стоял, застыв от неожиданности, а Данута не спускала с него глаз, и в ее взгляде сквозило скорее растерянное любопытство, нежели испуг и сострадание. Она впервые в жизни видела мужскую кровь, и эта кровь в отличие от ее собственной, с которой она умело справлялась каждый месяц, казалась ей какой-то отталкивающей и опасной.
Эта кровь предвещала не обновление, а болезнь, страшную, скоротечную, о которой Данута слышала от своей тетушки Стефании Гжимбовской еще в ту пору, когда служила у господина Скальского в Сморгони. Эзра и раньше кашлял, но Данута не придавала этому значения, думала: много курит; он действительно много курил, сворачивал одну самокрутку за другой, и поцелуи его, прогорклые и дымные, отдавали печным чадом. Она терпела и этот кашель, и этот чад потому, что была благодарна Эзре за свою нищенскую, полуголодную свободу, за радость, которую испытывала от какой-нибудь переиначенной на еврейский лад мазурки, или веселого разбитного казачка, или песни чуждого ей (поначалу!) и загадочного народа.
Заиграй мне казачка
По-хасидски!
Заиграй мне казачка
По-хасидски! —
начинал, бывало, Эзра, и Данута тут же своим высоким звонким голосом подхватывала:
То, что можно, можно всем.
Можно и чего нельзя.
Голоса их набирали силу, взлетали все выше и выше, сталкивались, сшибались, сливались воедино и, заглушенные топотом кривых, привыкших к преследованию, но не к кадрили еврейских ног, затихали, как голуби на черепичной крыше Мишкинского костела, воркующие и чистящие друг другу ненарядные, не приспособленные к долгому полету крылья.
Заиграй мне казачка
По-немецки!
Заиграй мне казачка
По-немецки!
Нельзя того, чего нельзя.
Нельзя того, что можно.
Забыв про жениха и невесту, презрев яства – жареных кур и уток, фаршированных карпов с выпученными от удивления, точно живыми глазами, рубленую печенку и толченые орехи, картошку с черносливом и гусиные шейки, заливную телятину и крупные побуревшие бобы, похожие на пуговицы с чиновничьего сюртука, вся свадьба с каким-то упоением и неистовством подпевала:
Нельзя того, чего нельзя.
Нельзя того у что можно.
Зажимая между ладоней кровавую харкотину, храбрясь и уверяя себя, что ничего не случилось, Эзра еще пытался присоединиться к этому общему неистовству, но из горла вырывался только жалкий надсадный хрип. Так хрипят прирезанные гуси в прихожей местечкового резника Янкеля Головчинера, к которому Эзра в детстве отдан был не то в ученики, не то в помощники.
Нельзя того, чего нельзя.
Нельзя того, что можно, —
прохрипел он, пялясь на свои окровавленные руки, и вдруг замолк.
Гусь, подумал он о себе. Гусь.
Отец невесты достопочтенный Мендель Пекелис страдальчески поджимал губы; Данута беспрестанно улыбалась, и в этой улыбке были и сожаление, и извинение, и безотчетное, извечное женское желание обольстить и недруга, и друга.
Гусь, гусь, стучало у Эзры в висках. Его охватило вдруг какое-то тупое, сковывающее все движения, отчаяние; вокруг него, кружась и подзадоривая друг друга, гикали, топали, отрыгали гости; уперев руки в боки, проплывали нищие; они что-то победно выкрикивали, громко портили воздух, и от этого зловония, от этого гика, топота у Эзры, казалось, вот-вот снова начнется кровавый приступ кашля, на сей раз смертельный.
– Спасибо, венец мой, – сказал достопочтенный Мендель Пекелис скомороху и весь съежился от своей доброты. – Мы с тобой квиты. Завтра можешь не приходить! Бейлке! – крикнул он дебелой молодухе, отплясывавшей с высоким нищим гопак. – Помоги человеку умыться.
Бейлке, видно, служанка Пекелиса, со всех ног кинулась в прихожую исполнять приказание хозяина.
– Вот водичка, – вернувшись, объяснила она Дануте, будто та отродясь воды не видывала. – А вот полотенчико!
Эзра долго – Дануте казалось, что целую вечность – мыл руки, погрузив их по локоть в ведро и как бы совершая некий, только ему одному понятный обряд, заставил Дануту дважды сбегать к колодцу, принести свежей воды, и, когда Данута сходила еще раз, припал к ведру, как лошадь, и стал жадно пить, прочищая горло, или, как он любил шутить, свой верстак. Комкая в руке полотенце, он никак не мог сообразить, куда его деть – оно было в розовых разводах, как небо, на которое занимающийся день похмельной кистью маляра уже наносил свои первые краски. Эзре не хотелось ни оставлять, ни забирать с собой эту холстину, она была подобна улике, следу – казалось, по нему вдогонку пустится беда, еще большая, чем та, которая уже его настигла.
В заезжем доме, где они остановились на постой, Эзра и Данута были единственными жильцами. Снимали они самый дешевый угол – крохотную каморку, темную (узнав, кто его постояльцы, хозяин Шолом Вайнер, жалея керосин, унес закопченную лампу), с застекленным наполовину окном (стекла не хватало, что ли?) и тряской кроватью, напоминающей большую выбоину на большаке. Над почерневшим, как плаха, столом висела библейская паутина, древняя и необыкновенно вязкая, в которой, видно, еще с прошлого лета (а может, с первого дня творения) чернели, словно высохшие на солнце ягоды рябины, мертвые мухи, не то помилованные, не то забытые пауком.
Данута по обыкновению разделась донага и легла, а Эзра почему-то медлил, словно ночь только-только начиналась, вглядывался в окно, вдыхая всей грудью свежий, предутренний воздух, струившийся в широкую оконную щель с жемайтийских равнин и холмов. В комнате стояла такая тишина, что было слышно, как они, эти холмы и люди, дышат, и в этом дыхании изощренное, неравнодушное к звукам ухо легко могло различить и тревогу, и смятение.
– Ты что там шепчешь? – спросила Данута, не нуждаясь в ответе. Она знала: он ответит: «Ничего» или «Спи».
– Гусь, говорю, – неожиданно сказал Эзра.
– Гусь?
Данута лежала на расшатанной, видавшей виды кровати, и груди ее светились в предутренних сумерках, как две луны, и светлые волосы струились по подушке, и от них во все стороны, как из-под кузнечного молота, летели золотистые искры, которые падали на Эзру, но сегодня эти искры не обжигали его и не воспламеняли, а гасли в воздухе и мертвыми мухами застревали в паутине, серебрившейся под низким бревенчатым потолком.
– Ложись, – сказала она.
Ей было страшно не только за него, но и за себя. Вот уже третий месяц, как не видела она своей крови, а это значило, что она ждет ребенка.
Господи! И за что ей такая счастливая и такая тяжкая кара? Только ребеночка и не хватало! Зачем он им – кочевникам, бродягам, у которых ничего, кроме любви, нет. Как его накормить, обуть, одеть? Она сама в одном платье. В чем ушла от Скальского, в том и по сей день ходит.
При воспоминании о Скальском Дануте стало еще больней. Богатый помещик, отставной офицер, чего он только не сулил ей: и дюжины платьев, и деньги, и дом в Сморгони напротив православной церкви.
Другая ни минуты не раздумывала бы, легла бы с ним в постель, не такую, как этот тряский тарантас, а в мягкую, с пуховыми подушками и периной, набитой не гусиным, а гагачьим пухом, распушила бы волосы, и пусть бы летели от них искры, падали на Скальского, жгли его, пока не испепелили бы. Но Данута скорей удавилась бы, выпила бы какого-нибудь яда – однажды она уже пыталась это сделать и, наверное, сделала бы, не появись в Сморгони этот чудной, этот потешный, черноокий бродяга с самодельной скрипочкой, парившей в воздухе, как огромный осенний лист.
Бог свидетель, Данута не на него засмотрелась, а на нее, на эту скрипочку – уж больно забавно он пиликал.
Данута как сегодня помнит и этот осенний день, и эту рыночную площадь, и этого бродягу-музыканта с его легкой, почти невесомой скрипкой, окрашенной киноварью листопада, с его диковинными хлесткими куплетами:
Заиграй мне казачка
По-шляхетски.
Заиграй мне казачка
По-шляхетски.
Нельзя того, чего нельзя,
Чего нельзя, того нельзя.
Нельзя того, что можно.
Люди кидали ему, как осенние листья, медяки.
Данута выпросила у пана Скальского гривенник и стала ждать, когда бродяга кончит петь. Но он пел и играл без остановки, упиваясь своей незатейливой музыкой, не по времени щедрым осенним солнцем, говором крестьян-белорусов, визгом поросят, виолончельным перескрипом телег.
Хоть пан Чеслав Скальский и был слеп, он не пропускал ни одной ярмарки, ни одного престольного праздника. Данута поутру приносила ему праздничную одежду, он облачался в серый войлочный зипун, причесывал свои редкие волосы, надевал соломенную шляпу, на которую все время косились местечковые воробьи в надежде склевать затерявшееся между ее стежками зернышко, и вместе с Данутой – своим бессменным поводырем – отправлялся в город.
– На, – сказала Данута, подойдя вплотную к Эзре, когда тот закончил играть и принялся вытирать пот на смуглом лице, подсвеченном лихорадочно горящими глазами. То были странные глаза. Они просто приклеивались к тому, на кого смотрели.
Монету Эзра не взял, а взял Данутину руку и долго не выпускал ее из своей, такой же теплой и прилипчивой.
Данута пробовала освободиться, но Эзра сжимал ее ладонь, как цыган-прорицатель – она поначалу и приняла его за удалого цыгана.
– Данута! Данута! – встревожился слепой пан Скальский, оставленный без присмотра.
– Пусти! Меня зовут! – прошептала она, замирая от этой негаданной и сладкой неволи.
– Приходи вечером к разрушенному мосту! – скорее грозно, чем ласково промолвил Эзра. – Придешь?
– Возьми монету! – задрожала она, продлевая свою неволю.
– К мосту! К мосту! – нараспев повторил он, и глаза его вспыхнули над ней, как звезды, которые, как ей казалось, только что зажег сам Господь.
В тот вечер Данута и бежала из дому. Она ушла в одном платье, с гривенником в руке, хотя усыпить ревнивую бдительность пана Скальского ей удалось не сразу. Пан Скальский не отходил от нее ни на шаг, все время что-то приказывал, просил, спрашивал, закрыта ли на ночь дверь, скоро ли она, Данута, ляжет.
– Ложитесь, пан Чеслав, в постель и ждите меня. Я только… – пытаясь усыпить бдительность своего сторожа, сказала она.
Данута слышала, как слепой снимает ботинки, как расстегивает ремень, как стаскивает с себя рубаху, как сует ноги в шлепанцы, как на ощупь, выбросив вперед руки, семенит к своей постели, в которой давно не было женщины, а постель без женщины – это тот же гроб, только не заколоченный.
Пан Скальский и раньше покушался на ее молодость. Придет, бывало, ночью к ней в комнату, плюхнется на кровать и давай мять девушку, тискать, лапать, шарить под одеялом стеком, постанывая от бессилия и вожделения. Однажды Данута не стерпела, ударила его ногами в грудь, пан Скальский заохал, выронил стек, упал наземь. Убила, промелькнуло у нее! Данута соскочила с кровати, бросилась к Скальскому, стала тереть его обмороженные страхом щеки, просить прощения и, давясь от отвращения, целовать, целовать.
Пан Скальский очнулся, вцепился в нее своими слепыми щупальцами, повалил на пол, и они стали кататься в темноте по скрипучим половицам; половицы скрипели, как живые, изо рта Скальского пахло грехом и тленом; Данута кусала его руки, но Скальский не чувствовал никакой боли, только похотливо дрыгал ногами.
– Будь умницей… будь умницей…
В такие минуты, когда Скальский шепотом взывал к ее благоразумию, Данута сжималась в комочек, проклинала свою тетушку Стефанию Гжимбовскую, сестру ссыльного отца, умершего в Туруханском крае, которая отдала ее этому блудливому слепцу, дальнему их родственнику, потерявшему зрение якобы в битве за свободу Речи Посполитой. Желая Дануте добра, тетушка Стефания уговаривала, просто умоляла ее не перечить пану Скальскому – «будь умницей… умницей… он все равно скоро подохнет (так и сказала) и ты станешь наследницей всего имения!» – выполнять все его капризы, даже самые щекотливые.
Данута и сама не могла объяснить, почему маленькая струйка крови вызвала у нее столько горьких воспоминаний, воскресила сонную, плывущую, как утка в тумане, Сморгонь, рыночную площадь, сухопарого пана Скальского с тонким стеком в руке и бродячего скомороха, играющего на самодельной скрипочке.
Она вдруг подумала, что к этим воспоминаниям – к этому гривеннику, к этому разрушенному мосту через Окену, столь неожиданно и непредсказуемо соединившему их жизни, надо вернуть и Эзру. Стоит ему сделать шаг в сторону от этой кровавой струйки, как на осеннем солнце снова блеснет Окена, заголубеет далекое сморгоньское небо, закружится легкая, как бы обрызганная купоросом листва, и о булыжник рыночной площади застучит тонкий нетерпеливый стек пана Чеслава Скальского.
– Помнишь? – сказала Данута, желая хоть на время, хоть на час, хоть на полчаса отвоевать его у болезни. – Помнишь, как я пришла к мосту и ты взял меня, как монету?
Эзра молчал. Но его молчание только подхлестывало ее:
– Помнишь, как мы любили друг друга…
У нее было только одно это желание: оторвать его от окна, за которым струйка крови, зажатая между ладоней, выплеснулась на мостовую и потекла к чужому и случайному кладбищу.
– Помнишь, коханы… – продолжала Данута. – Как мы лежали на ворохе листьев – ты… я… и осень…
– Помню, – безучастно произнес Эзра, все еще глядя в окно. Теперь по струйке крови, текшей к чужому кладбищу, ступал хозяин заезжего дома Шолом Вайнер, расстегивая на ходу портки и поддерживая их руками. Белая его рубаха надувалась от ветра, отчего Вайнер казался горбатым.
Ободренная ответом, Данута пробормотала:
– Ложись… Я хочу, чтобы снова было так, как в Сморгони – ты… я… и осень…
Эзра отвернулся от окна и, к ее удивлению, стал разуваться.
Данута смотрела на его смуглое гибкое тело, которое в предутренних сумерках напоминало огромную скрипку с двумя смычками.
Руки его и впрямь были похожи на смычки, и от их прикосновения ее тело начинало тихо и пьяно звенеть.
Данута подвинулась и, когда он улегся, принялась целовать его голову, плечи, живот так, словно это было последнее их утро.
– Коханы, – повторяла она, пытаясь исцелить его своими поцелуями от тоски, от черных мыслей, от чахотки. – Ты сегодня превзошел самого себя.
– Да, – сказал Эзра.
– Как ты плясал!
– Да, – сказал Эзра.
– Как ты пел!
– Да, – сказал Эзра.
– Для меня, для меня, для меня, – твердила она, обезумев от страха и нежности.
– Да, – сказал Эзра.
– Я была невестой, – сказала она. – А ты был женихом.
– Да, – сказал Эзра.
Ее словно завьюжило этим коротким, этим беспредельным в своем значении словом.
Эзра ежился от ее поцелуев, слабо и натужно отвечал, Данута грозила ему пальчиком, корила за сдержанность.
– Не унывай!.. Что из того, что нас и сегодня не успели обвенчать, – прошептала она. – Вон еще сколько городов впереди. Мы обвенчаемся на другой свадьбе. Выбирай!
– Что?
– Город.
– Иерусалим, – отшутился он.
– Вильно, – возразила она. – Там в костеле Святой Анны венчалась моя мама.
– Спи!
– Завтра, завтра…
И она снова осыпала его поцелуями.
Эзра лежал, распятый ее ласками, ловя ртом воздух; воздуха не хватало, как на полке в бане, и он фыркал от удушья.
– Данута, – взмолился он. – Завтра…
– Сегодня, Эзра. Завтра мы поедем в Вильно к твоим братьям. К Гиршу и Шахне.
– Зачем?
– Ты же сам говорил: Гирша могут повесить. Ведь говорил?
– Ну и что?
– Может, вам еще удастся увидеться перед казнью?
– Перед чьей казнью? – спросил Эзра, и снова мысль о струйке, текущей к чужому и случайному кладбищу, пронзила его.
Небо за окном посветлело. В комнату хлынули первые лучи солнца. Они сперва побелили обшарпанную стену, потом пушистыми котятами улеглись на полу, потом перебрались в угол, где, как осина в вьюгу, скрипела старая кровать, за которую они платили Вайнеру по алтыну за ночь.
Только когда совсем рассвело, их одолел сон.
Дануте снилось:
будто она стоит в подвенечном платье перед алтарем в костеле Святой Анны;
ксендз пристально смотрит на нее, так пристально, что при каждом его взгляде у нее, как листья, опадают кружева фаты;
вот уже обнажились ноги, живот с дуплом пупка, груди;
она тщится прикрыть их, но нечем;
святой отец смотрит на нее своим невидящим оком, смотрит, и взгляд его сковывает сначала правую грудь, потом левую;
хочется бежать, но она не в силах и шага шагнуть, как будто приросла к земле;
ксендз приближается к ней и, когда подходит вплотную, она видит, что в руке у него вовсе не паникадило, а стек с набалдашником, и одет он не в сутану, а в расшитый золотом зипун.
– Скальский! Скальский! – вскрикнула Данута и проснулась.
Они вышли во двор, зачерпнули в колодце бадьей воды и стали сливать ее, студеную, прозрачную, друг другу.
Откуда ни возьмись во дворе вырос хозяин заезжего дома Шолом Вайнер.
– Молодой человек, – сказал он и тронул Эзру за рукав. – Можно вас на минутку?
Снова будет его уговаривать, чтобы бросил меня, подумала Данута и сплюнула сквозь зубы. Все только и делают, что уговаривают его!..
– Вот вам лампа, – сообщил Шолом Вайнер, когда они отошли в сторонку. – Пользуйтесь на здоровье.
– Премного благодарен, – сказал Эзра, но лампы не взял.
– У меня, правда, к вам просьба, – продолжал хозяин заезжего дома. – Это, конечно, ваше дело, как спать: на боку, на спине, однако же мой Соломончик еще ребенок… второй год после бармицвы – совершеннолетия.
Эзра никак не мог взять в толк, куда Шолом Вайнер гнет.
– Это, конечно, нехорошо – подглядывать в окна. Но что поделаешь, если в доме нет ни одной лишней занавески… Попросите, пожалуйста, свою… – Шолом боком повернулся к Дануте, – попросите ее, чтобы перед сном не раздевалась… то есть раздевалась, но снимала не больше, чем моему Соломончику положено видеть…
– Ваша лампа нам больше не понадобится, – просто и незлобиво сказал Эзра. – Мы уезжаем. Теперь Соломончик будет видеть то, что ему положено. Но, согласитесь, это так мало.
– Что? – не сообразил хозяин заезжего дома.
– Видеть в жизни только то, что положено, когда хочется видеть все.
Когда Эзра рассказал Дануте о просьбе Шолома Вайнера, они оба расхохотались. Особенно громко хохотала она – захлебываясь, стремясь заглушить тревогу, нараставшую с каждым часом, с каждым упавшим наземь листом. Данута чувствовала, что в их жизни вот-вот произойдет какой-то перелом, тяжкий, с непредвиденными последствиями, что теперь для защиты их запретного и горького счастья одной любви будет мало. Да и было ли это счастье – эти вечные скитания с севера на юг, с востока на запад, этот холод и голод, эта крапивная неприязнь евреев к ней и христиан – к нему. Данута ловила себя на мысли, что редкие минуты радости не стоят таких мук, – а ведь она мучилась безропотно, тихо – и почти жалела о том, что тогда, в том пронзительном, натянутом как тетива сентябре, уступила, поддалась смутному и мстительному зову своей крови. Надо было пересилить свое отвращение, лечь с паном Скальским в постель и получить за это в награду не заезжие дома, не бесконечные слякотные большаки, не струйку крови, а тысячу саженей плодородной земли, усадьбу на берегу Окены, особняк в Сморгони с серебряными светильниками, с мебелью из карельской березы, паркетом, в него можно было глядеться как в зеркало, с огромными зеркалами, расставленными вдоль стен и забранными в позолоченные рамы, на которых сидели розовощекие ангелы. Подумывала Данута и о том, чтобы вернуться к тетушке Стефании Гжимбовской, вымолить у нее прощение. В самом деле: ей ли, дворянке, дочери офицера, кочевать с безродным евреем по городам и весям черты оседлости, ей ли веселить, как сказала бы тетушка Стефания, сумбурные жидовские свадьбы, ей ли ходить в одном стираном-перестиранном, латаном-перелатанном платье, ломать язык, заучивать чужие слова, перенимать чужие обычаи? Ради чего? Ради пылкой любви? Ради безумной страсти, бездны, из которой она выбирается по утрам только для того, чтобы сломя голову снова ринуться в нее вечером. Что-что, а любить Эзра умеет. Он любил ее ненасытно, не зная устали – теперь Данута понимала, что пылкость его усугублялась болезнью, хоть это ей раньше и в голову не приходило! Эзра не щадил ни себя, ни ее, и она была благодарна ему за это изнурение, не представляла себя в объятиях другого – Эзра был для нее богом, которому возносят не молитвы, а ласки.
– Ты – мое небо, коханы. Поцелуй меня, – шептала она.
– Потом… – отмахивался он. – Завтра…
– Нет, нет. Ждать завтра – это ждать смерти. Я хочу, чтобы всегда было сегодня… вечное сегодня…
Вечное сегодня, усмехнулась она про себя и глянула на Эзру. Вечное сегодня, пусть даже залитое кровью.
Свадьба в доме достопочтенного Менделя Пекелиса обессилила их, и Эзра с Данутой решили уйти из местечка не назавтра, а в тот же день, в самую рань, еще до первой петушиной побудки.
Данута завернула в холстину, как творожный сыр, его скрипку, сунула в котомку свой кларнет, сложила нехитрые пожитки – книжки со сценками из жизни испанских грандов и израильских царей, с описаниями небывалых историй, случившихся с Моисеем и Аароном во время их странствия по пустыне в заветный Ханаан, бумажный колпак-корону, белила, воск – при их помощи Эзра изменял свою внешность, – скудную снедь, которую им в дорогу дала сердобольная, с близорукими, коровьими глазами Бейлке; заправила постель, взбила подушки, протерла тряпкой застекленное наполовину окно, увидела за ним хозяйского сына Соломончика, смутилась.
– Он снова слоняется под окнами, – сказала она Эзре.
Соломончик переминался с ноги на ногу и, видно, ждал, когда лицедеи выйдут во двор. На нем было длиннополое теплое пальто, перепоясанное конопляной бечевкой, тяжелая, не по сезону шапка и два странных башмака, казалось, с разных по размеру ног. Соломончик был не по летам рослый и плечистый. Толстые губы замело цыплячьим пушком, норка рта всегда открыта, и оттуда, как ящерица из-под валуна, нет-нет да высовывался мокрый суетливый язык.
– Уезжаете? – тихо спросил он, когда Эзра и Данута появились во дворе.
– Уезжаем, Соломончик, – ответил Эзра.
– А откуда вы знаете мое имя?
– Я все знаю.
– А что вы еще знаете? – прогудел сын Шолома Вайнера.
– Я знаю… я знаю, например, что ты очень любишь… – начал было Эзра. Но Данута перебила его:
– Эзра!
– Люблю подглядывать в окна? Да? – не растерялся Соломончик. – И вы бы подглядывали, если бы вам было скучно, – он высунул язык и тут же, как бы почуяв опасность, спрятал его. – А куда вы уезжаете?
Вид у Соломончика был плутоватый. С первого взгляда трудно было сказать, чего в нем больше – хитрости или непристойного простодушия.
– В Вильно, – неохотно ответил Эзра.
– Если бы не отец, и я бы туда поехал, – как ни в чем не бывало продолжал Соломончик. – Он меня никуда не пускает. Только к меламеду Гершену. Я, говорит он, тоже никуда не ездил, а, слава богу, стал хозяином заезжего дома. И ты, говорит, станешь, когда я умру. Но он умрет не скоро… А мне так хочется…
– Чтобы он умер?
– Нет. Мне хочется куда-нибудь поехать. Ведь это так интересно – спать не в своей постели.
– А в чьей? – не выдержал Эзра.
– Неважно, в чьей… Только не в своей… Когда вы уедете, я заберусь в вашу… лягу и буду, как вы… – Соломончик метнул взгляд в сторону Дануты, – как вы, любить Хайку…
Эзра и Данута застыли.
– Но Хайка требует, чтобы мы поженились. Иначе она не согласна.
– Господи! – выдохнула Данута.
– Хайка говорит: грех, – продолжал Соломончик.
– А ты что говоришь? – допытывался Эзра. Он вдруг представил, как под рев публики будет изображать этого увальня, этого недоросля где-нибудь на рыночной площади, как будет показывать его ужимки, его причмокиванье языком, а Данута преобразится в Хайку, дочь меламеда Гершена, богобоязненную, перезрелую девицу с бородавкой на носу.
– Разве то, что делают все, грех? – спокойно спросил Соломончик.
– Ишь ты! – Эзра был поражен.
Данута слушала Соломончика, и вдруг против ее воли в сознании снова всплыла мысль о беременности. Ни к чему ей ребенок, ни к чему. Еще, не дай бог, вырастет такой, как этот Соломончик.
Дануте ни с того ни с сего захотелось ударить его, она и ударила бы, если бы не подумала о костеле.
Три года не ходила она на исповедь, и вот в этом глухом местечке, где и костела-то вроде нет, здесь, во дворе заезжего дома, в храме всех бродяг и странников, обители клопов и прелюбодеев, Данутой овладело нестерпимое желание излить душу, ощутить хотя бы на короткий миг радость общения с Богом, к чему была приучена с детства и что, казалось, было безвозвратно потеряно.
– Ты куда? – спросил Эзра.
– К костелу.
– Там уйма яблок, – сказал Соломончик. – Но отец говорит: все они трефные.
Костел был деревянный, запорошенный листьями. Он гляделся в быструю норовистую Дубису. Во дворе, как нищенки, чернели голые яблони, на которых присмиревшими послушницами стыли местечковые вороны.
Приземистый, крестьянского вида человек, видно, ризничий, провел Дануту через открытую дверь прямо к исповедальне и, оставив ее одну, удалился. От исповедальни, от задернутого занавеской окошечка веяло осенней сыростью и тайной.
Данута сама не понимала, зачем сюда пришла – за покаянием, за благословением, за советом? Хотя она нуждалась и в том, и в другом, и в третьем, ей было совершенно безразлично, что скажет ксендз – господи, почему его так долго нет? – просто хотелось других слов, других глаз, другой речи.
Три года Данута не была в костеле. Последний раз слушала мессу в Вербное воскресенье, стояла с вербочкой в руке за колонной небогатого сморгоньского храма, смотрела на красавца Спасителя, как робкая девчонка, которая впервые пришла на свидание.
Через открытую дверь залетали легкие, тронутые мертвящей желтизной листья, устилали пол, ложились на стертые скамьи, и от этого костел казался осенним садом – Данута даже ощущала терпкий запах яблок-паданцев – садом, в котором дышалось необременительно и вольно.
Неземная прохлада костела как бы смыла с лица Дануты усталость, разгладила морщинки, наполнила душу какой-то готовой пролиться слезами смутой. Данута и не заметила, как большая слеза скатилась по ее щеке и упала наземь, словно листок. На миг ей почудилось, что она услышала звук падающей слезы – так тихо было вокруг, так отчетливо и обостренно воспринимались звуки.
Ксендза все не было, и когда Данута уже почти разуверилась, что ей удастся облегчить исповедью наболевшую душу, он появился: старенький, в поношенной, слишком широкой для него сутане, которую он поддерживал пухлыми белыми руками, как будто ступал не по полу, а по воде.
Ксендз окинул ее взглядом с ног до головы, юркнул в исповедальню, сел на скамеечку, отдышался и сказал:
– Слушаю тебя, дочь моя.
Данута растерялась, не зная, с чего начать – с отца ли, который бросил мать, с матери ли, изменявшей отцу, с тетушки ли Стефании, которая попрекала ее, сироту, каждым куском хлеба, с пана ли Чеслава Скальского, помещика и отставного офицера, который, когда она засыпала, приходил в ее комнату и похотливо тыкал стеком в ее молодое упругое тело. А может, сразу перейти к Эзре, к его-ее ребенку?
Исповедник сопел носом, и Дануту вдруг развеселила мысль, что святой отец уснул. Она прислушалась, приникла ухом к крохотному окошечку, к ситцевой занавесочке, стараясь укрепиться в своей догадке.
– Вы не спите, святой отец? – спросила она, поражаясь собственной наглости.
– Как можно, дочь моя! – возмутился священник. – Я слушаю тебя.
– Грешна я, отец мой, – процедила Данута и вдруг осеклась, раздумала рассказывать ему о своей жизни, бестолковой, суетливой, состоящей из сплошного то упоительного, то угарного греха.
Чем он, этот тихий и недолговечный, как листопад, старец может помочь ей? Чем? Скажет: «Прочти три раза «Славься, Мария» или что-то в этом роде. А ей, ей нужен ответ. Но ответа ни у кого нет – ни у Бога, ни у дьявола.
Данута замолчала, прикусила губу, уставилась на изображение Спасителя, потом на ангелов, похожих на чисто вымытых, хорошо откормленных поросят, потом на своды, под которыми чернели аккуратные ласточкины гнезда. Эти гнезда настолько захватили ее, что она, вместо того чтобы начать свою исповедь, спросила:
– У вас что, ласточки в костеле летают?
– Летают, дочь моя, – сказал ксендз.
– Как интересно, – она не скрывала своего восхищения.
– Не отвлекайся, дочь моя, – остудил ее восторг исповедник.
Он, видно, страдал астмой, беспрестанно сопел, и Данута устыдилась своей легкомысленности. Нашла о чем спрашивать – о ласточках. Пастыря надо спрашивать о том, как жить.
– Мой муж – еврей, – выпалила Данута, решив начать с главного. – Мы не венчанные.
– То, что не венчаны, это нехорошо, дочь моя, а то, что твой муж еврей, так и Христос был евреем.
– Христос был евреем, а Эзра им остался.
– Любишь его?
– Христа?
– Эзру.
Странно было слышать от него имя Эзры, но он произнес его внятно, без всякой брезгливости.
– Люблю… И его, и Христа… Только – Господи, не покарай меня за кощунство – Эзру больше.
– Любить, дочь моя, надо всех поровну.
Слова старца приободрили ее, и она понеслась вскачь по городам и годам, принялась рассказывать о своих родителях, о слепом пане Скальском, до сих пор омрачающем ее сны, о том, как она ушла от него к Эзре, бродяге, скомороху, который и ее превратил в скиталицу.
Дыхание ксендза за ситцевой занавеской участилось, сделалось жарче и громче.
– Ты ждешь от него ребенка? – прохрипел ксендз.
Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?