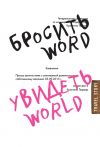Текст книги "Картина мира"

Автор книги: Кристина Клайн
Жанр: Современная зарубежная литература, Современная проза
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 4 (всего у книги 14 страниц) [доступный отрывок для чтения: 4 страниц]
* * *
В школе нам рассказывают о судилище над сэлемскими ведьмами. По словам миссис Краули, с 1692-го по 1693-й двести пятьдесят женщин обвинили в ведьмовстве, сто пятьдесят бросили за решетку, девятнадцать повесили. Их могли осудить по “заявлению о призраке”, то есть по утверждению обвинителя, что обвиняемая являлась ему привидением, и по “отметинам ведьмы” – родинкам или бородавкам. Сплетни, молва и слухи считались уликами. Верховный судья Джон Хэторн славился своей беспощадностью. Выступал скорее карателем, чем непредвзятым судьей.
– Он нам родня, между прочим, – говорит мне Маммея, когда после школы я пересказываю ей урок. Мы вдвоем сидим у “Гленвуда” в кухне, штопаем носки. – Помнишь тех троих Хэторнов, уехавших из Сэлема посреди зимы? Через полвека после судилища дело было. Убегали от срама.
Вытаскивая очередной носок из кучи, Маммея излагает мне историю Бриджет Бишоп, хозяйки таверны, которую обвинили в краже яиц и в том, что она превращается в кошку. Бриджет была чудачка, чьи яркие наряды – в особенности красный лиф, украшенный кружевом, – считали признаком дьявола. После того как две покаявшиеся ведьмы засвидетельствовали, что Бриджет участвовала в их шабаше, ее арестовали, бросили в промозглое узилище и кормили там гнилыми картошкой да свеклой и похлебкой. Всего несколько дней в подобных условиях, говорит Маммея, – и почтенная женщина начнет смахивать на затравленного отчаянного зверя.
В зале суда перед злорадствовавшей толпой Джон Хэторн спросил ее: “Откуда тебе знать, что ты не ведьма?”
Она ответила: “Ничего в этом не смыслю”.
Судья Хэторн прищурился. Вскинул указательный палец. Указал им на Бриджет, и она отшатнулась, словно от удара. “Ты глянь, – сказал он. – На прямой лжи тебя ловлю”. И хлопнул ладонью по столу – Маммея хлопает ладонью, показывая, как это было, – и обвинители со зрителями заходятся в неистовстве.
Бриджет Бишоп знала, что все кончено, говорит Маммея. Ее приговорят к смерти, оставят болтаться на Висельном холме, пока кто-нибудь сердобольный не срежет труп – может, посреди ночи. Как и многие приговоренные, она была одиночкой средних лет, с домом и собственностью, которые уже конфисковали. Кто возьмет ее сторону? Кто вступится? Никто.
В конце концов губернатор Массачусетса пресек разбирательства. Один за другим присяжные заседатели отреклись от своих слов, раскаялись и пожалели, что так поспешили судить. Лишь Джон Хэторн помалкивал. Ни малейшего огорчения не выразил. Его репутация хладнокровного изувера пережила даже его смерть через двадцать пять лет – мирную кончину в довольстве и уюте.
Маммея рассказывает мне о проклятии, наложенном Бриджет Бишоп на потомков Хэторна. Ну, не проклятие, конечно, а предупреждение, наказ.
– Нельзя не чтить ту женщину, – говорит Маммея. – Единственной силой, какой владела она, – навести на него страх Божий! Или, может, какой другой страх. Но я в это верю. Думаю, предки твои притащили ведьм из Сэлема за собою. Их духи населяют этот дом.
– Да что ж такое. – Мама громко вздыхает за стенкой. Считает, что ее мать забивает мне голову небывальщиной. Считает, что лучше б я поменьше обращала внимания на байки Маммеи да побольше – на штопку.
* * *
Я спрашиваю папу о проклятии, но он говорит, что ничего про это не ведает, хотя знает, что Хэторны – выводок, знаменитый своей неукротимостью. Лютый, свирепый шотландско-ирландский клан, перебравшийся в Новую Англию из Северной Ирландии в 1600-х, они быстро нажили репутацию жестоких к тем, кого считали своими врагами.
– Били квакеров, обдуривали индейцев и продавали их в рабство – такое вот творили, – говорит он.
– Откуда ты все это знаешь? – спрашиваю я.
– Пивал я как-то раз виски с твоим дедом, давным-давно, – говорит он.
* * *
Весной моего десятого года мама на сносях. Готовим в основном мы с Маммеей, а готовка на излете долгой зимы – по большей части из старых корнеплодов, припасенных в погребе, из сушеной рыбы и мяса из коптильни, супы да похлебки. На воде так холодно и бурно, что папа с Алом на плоскодонке выходить в море не могут. У Сэма сухой кашель и сопли. Земля вымочена насквозь: если падаю по дороге в школу, потом весь день замурзана и в сырой юбке. У всех нас поводов для радости немного.
В один сырой вечер по дороге из школы домой я вижу впереди на дороге папину бричку, знакомый барсучий силуэт в синем капоре на сиденье у папы за спиной – все понятно: мисс Фрили едет к маме на роды. Добираюсь домой, и мы с братьями и с отцом сидим в кухне. Дождь лупит по крыше и в окна, тяжкий, густой, и все мы чуем сырость аж в костях. Сдираю с себя носки, развешиваю над плитой. Даже дровяной дым из “Гленвуда” волглый.
Ребенок рождается без затруднений. Мама уже привыкла. Но после рождения Фреда она меняется. Когда нужна младенцу, встает не спеша. Посреди дня вручает его Маммее и идет прилечь. Фред вопит, требует молока, мама не дает, и Маммее приходится разводить коровье водой и добавлять туда чуточку сахара. Сует мыльный камень в духовку, обертывает тряпицей и кладет Фреду в колыбель, когда тот спит, но это маме не замена, приговаривает она.
Мы с Алом спешим из школы домой – вынуть Фреда из кроватки и покачать в кресле, искупать его в жестяном корыте. (Перед купанием он воняет кисло и сыро, словно его вытащили из земляной ямы в поле. А после купания пахнет, как щеночек.) Все стараемся придумать, как развеселить маму. Маммея печет фунтовый кекс с лимонными корками – мамин любимый. Папа строит комод для ее белья, с четырьмя ящиками. Синий – любимый мамин цвет, и я решаю удивить ее – раскрасить то-сё в доме в синий.
Ал, когда я излагаю ему свою затею, качает головой.
– Если стул покрасить, это не поможет.
– Я знаю, – говорю я, но надеюсь, что все же поможет.
Спрашиваю разрешения у Маммеи, зная, что папа не одобрит.
– Замечательно, – говорит она и выдает мне денег на краску.
После школы я покупаю галлон самой яркой синей краски, какая находится в универмаге О. С. Фэйлза и сына,[9]9
Универмаг “Фэйлз и сын” был открыт в Кушинге в 1828 г. и остается старейшим постоянно действующим универмагом в США; современный магазин существует с 1889 г. (он переехал с первого адреса, но работать не прекращал; с того времени носит имя Огастэса С. Фэйлза).
[Закрыть] две кисти с конской щетиной, жестяной поддон и банку скипидара, прячу все это в зарослях, когда устаю тащить домой. Назавтра иду проверить то место, а там ничего нет. Опасаюсь, что кто-то украл мои припасы, но, оказавшись дома, вижу их в сарае.
– Я все равно считаю, что это дурацкая затея, – говорит Ал, – но не одной же тебе всю работу делать.
Мокрая краска – цвета пера синешейки и блестит, как гладь озера. Мы с Алом оттираем старой ветошью двери сарая, раму и ободья фургона, салазки, решетку для сена и горшки с геранью. Начал красить – остановиться нет мочи. Отправляемся к Фэйлзу за добавкой, возвращаемся и красим парадную и заднюю двери – и все рамы кроватей.
Уговариваем маму спуститься и посмотреть, что мы для нее сделали, и она обнимает нас с Алом.
Все потихоньку налаживается. Теплеет, и мы с мамой опять отправляемся в отлив на прогулки на остров Малый, но теперь берем с собой и моих братьев. Ал убегает в травы, Сэм собирает морских звезд в лужицы на мелководье. Мы бродим по галечному пляжу, ищем ракушки и устраиваемся на привал под старой елью. Мама снимает с себя малыша Фреда, укладывает на спинку, Фред воркует и курлычет. Я сажусь на валун, наблюдаю за мамой. Кажется, ей лучше. Но время от времени я вижу, как она вперяется в пространство, на лице – ничего, и это меня тревожит.
* * *
Миссис Краули опрятным почерком выписывает на доску стихотворение Эмили Дикинсон, и по классу расползается ворчание.
– Это шестилетка написала, что ли?
– Что это за тире сплошные? Грамматика такая?
– Мой дедушка говорил, что она просто чудна́я старуха. Христова невеста, – говорит Гертруд Гиббонз, наша классная всезнайка.
– У Эмили Дикинсон действительно была тихая жизнь, – говорит миссис Краули, закладывая выбившуюся седую прядь за ухо. – Один мужчина разбил ей сердце, и она стала эдакой затворницей. Всегда одевалась в белое. Никто и не догадывался, что она – поэт: ею восхищались из-за ее чудесного сада. Она часами просиживала за маленьким письменным столом, но толком никто не ведал, чем она занимается. После ее смерти в ящике стола обнаружили папку со стихами. Многие страницы, исписанные четким почерком, с очень странной разметкой, сами видите. Сотни и сотни стихотворений.
Переписывая с доски в тетрадку, проговариваю слова:
Вот я – Никто! А кто же ты?
Никто – и ты – как я?
Тогда нас двое!
Но молчи! Всем раструбят – ты знай!
– Даже не в рифму, – говорит Лезли Бур.
– О чем же оно, по-твоему? – спрашивает миссис Краули, воздевая мелок.
– Не знаю. Ей кажется, что ее жизнь не имеет значения?
– Это одно из толкований. Кристина, а ты как думаешь?
– Думаю, она видит себя отличной от большинства людей, – отвечаю я. – И даже если ее считают странной, она знает, что не одна такая.
Миссис Краули улыбается. Вроде бы собирается что-то сказать, но передумывает.
– Братский дух, – говорит она.
После занятий я спрашиваю у нее, можно ли мне почитать еще стихов этой поэтессы, о которой я раньше и не слышала. Беру со стола миссис Краули маленький синий томик в твердом переплете, и та показывает мне, что Эмили Дикинсон часто применяла четырехдольный размер, перемежая строки из восьми и шести слогов – такая стихотворная форма характерна для гимнов. Что большинство своих стихов Дикинсон написала с неточной рифмой: рифмуемые слова похожи, но не один в один. А еще она применяла прием под названием “синекдоха” – это когда часть занимает место целого.
– Например, в этом стихотворении, – говорит миссис Краули, постукивая пальцем по странице и читая вслух: – “Все – досуха – Глаза кругом”. Как думаешь, о чем речь?
– Хм… – Пробегаю взглядом по первым строкам стихотворения:
Я умерла – зудела Моль
Покой проник в Чертог
И был как в Воздухе Покой —
Средь Грозовых Потуг —
– Люди стоят вокруг кровати, оплакивают усопшего?
Миссис Краули кивает. Протягивает мне книгу:
– Если хочешь, можешь взять домой на выходные.
Сидя дома на парадном крыльце после школы, я перелистываю страницы, то и дело задерживаясь:
Моя депеша в мир большой,
Кой писем мне не слал —
Весть от всего, что Под Луной —
В величии светла…
Стихотворения эти причудливы и шиворот-навыворот, я не уверена, что понимаю их. Представляю Эмили Дикинсон в белом платье, за письменным столом, голова склонена над пером, возникают эти сбивчивые отрывки.
– Ничего страшного, если понимаете не полностью, – говорила миссис Краули нашему классу. – Важно, как стихотворение отзывается в вас.
Каково это было – запечатлевать такие мысли на бумаге? Как ловить светлячков, думаю я.
Мама, заметив, что я читаю на порожках, бросает корзину с высушенным бельем мне на колени.
– Некогда лодырничать, – бормочет она себе под нос.
* * *
Ближе к концу восьмого класса – последнего года в школе Уинга номер четыре и последнего учебного вообще для многих из нас – миссис Краули отводит меня во время обеда в сторонку.
– Кристина, я не могу заниматься этим вечно, – говорит она. – Не хочешь ли ты остаться еще на несколько лет, выучиться и взять на себя работу в школе? Думаю, из тебя выйдет отличный учитель.
От ее слов я сияю гордостью. Но за ужином в тот вечер, когда выкладываю этот разговор маме с папой, вижу, как они переглядываются.
– Обсудим, – говорит папа и высылает меня на крыльцо.
Когда зовет меня обратно, мама не поднимает взгляда от тарелки. Папа говорит:
– Прости, Кристина, но ты проучилась дольше, чем мы с твоей матерью. У нее слишком много дел. Нам нужна твоя помощь по дому.
В животе у меня ёкает. Пытаюсь скрыть жесткое ребро паники в голосе.
– Но, пап, я бы могла ходить в школу только утром. Или оставаться дома, когда нужно.
– Поверь мне, ты большему научишься на этой ферме, чем по любым книжкам.
– Но мне нравится в школе. Мне нравится то, чему меня там учат.
– Книжным знанием домашние дела не делаются.
Назавтра я выкладываю все Маммее. Потом слышу, как она вполголоса беседует с папой в гостиной.
– Пусть останется в школе на несколько лет, – говорит она. – Что за беда в том? Учительство – славное ремесло. И уж начистоту: ей мало что другое под силу.
– Кэти нездоровится, сами знаете. Кристина нужна в доме. Она вам в доме нужна.
– Справимся, – говорит Маммея. – Если сейчас не возьмется – кончит свои дни на этой ферме.
– Что ж тут такого невыносимого? Я себе выбираю такую жизнь.
– В том-то и дело, Джон. Ты повидал белый свет, а затем выбрал такую жизнь. Она дальше Рокленда нигде не бывала.
– Во успех-то был у той поездки, помните? Она рвалась домой.
– Она была маленькая и напуганная.
– В большом мире ей не место.
– Да батюшки, кто ж про большой мир говорит-то? Мы о маленьком городке в полутора милях отсюда толкуем.
– Я принял решение, Трайфина.
Сообщить миссис Краули на переменке назавтра, что в школе я остаться не могу, – дело едва ли не самое трудное за всю мою жизнь. На миг она умолкает. А затем говорит:
– Ты справишься, Кристина. Будут, несомненно, и другие возможности. – Кажется, у нее слезы близко. У меня тоже. Она прежде никогда ко мне не прикасалась, но сейчас обвила хрупкими руками. – Хочу сказать, Кристина, что ты… необычная. И как-то… – Голос у нее прерывается. – Твой ум – твоя любознательность – будут тебе утешеньем.
В последний школьный день меня так распирает от жалости к себе, что я едва могу говорить. Выходя из класса, медлю у глобуса миссис Краули, заказанного по каталогу “Сиэрз, Роубак”, кручу его пальцем. Океан синий, как яйцо дрозда, с бугристыми зелеными и бурыми выпуклостями материков. Пробегаю пальцем по Тайваню, Тасмании, Техасу. Эти далекие места для меня – такие же всамделишные, как сокровище, зарытое в Тайном туннеле. Иными словами – мне трудно поверить, что они действительно существуют.
* * *
По окончании школы время тянется вдаль, словно долгая плоская дорога, какую видно на многие мили. Мой распорядок дня делается неизменным, как приливы. Встаю до рассвета, забираю охапку дров из сарая, бросаю в корзину у “Гленвуда” в кухне, возвращаюсь за следующей. Открываю тяжелую черную дверцу печки, перемешиваю золу, ищу тусклые угли. Закладываю несколько поленьев, раззадориваю огонь растопкой, закрываю дверцу, прижимаю к ней холодные окоченевшие ладони – отогреваюсь. Затем бужу братьев, чтоб шли кормить кур и свиней, лошадей и мулов. Они бурчат, спускаясь по лестнице, препираются, кому рассыпа́ть корм, кому чистить стойла, собирать яйца. Пока мальчишки в хлеву, я готовлю овсяную кашу со смородиной и изюмом – им к завтраку, делаю сэндвичи с маслом и патокой на толстом дрожжевом хлебе, заворачиваю в вощеную бумагу – это им на обед; набираю овощей и яблок в погребе, на руке – корзина, спускаюсь в погреб по хлипкой деревянной лестнице.
Ал забывает учебник, Сэм – ведерко с обедом, Фред – шапку. Когда они уже наконец уходят, я полощу их тарелки в длинной чугунной мойке в кладовке. Затем принимаюсь за выпечку хлеба, отщипнув закваски, которую храню в кладовке, посыпаю мукой доску. Застилаю кровати, опорожняю ночные горшки, хромаю в сад собрать кабачков на пирог. После школы Сэм с Фредом помогают папе в хлеву и в поле, Ал отплывает на лодке. Ближе к вечеру, когда мальчишки справились со всеми делами, они возятся с неводом, что тянется от острова Малый до Плезант-Пойнта. Перед ужином им приходится напоминать, чтоб шли мыться и разувались, прежде чем сядут за стол.
Забот у меня вроде как невпроворот. Поднимется ли тесто для хлеба как надо, если взять другой сорт муки? Сколько порций получится из чахлой курицы? Сколько денег можно выручить за шерсть восьми овец, с поправкой на издержки? Я знаю, как добиться, чтобы куры неслись лучше: давать им дополнительно соль, окна в курятнике держать чистыми, чтобы проникал свет, добавлять птице в пищу порошок из толченых омаровых панцирей. Наши здоровые куры несут больше, чем семья способна употребить сама, и мы с Алом начинаем торговать яйцами. По нескольку часов в месяц я шью марлевые мешки для хранения яиц.
Хоть руки у меня и кривые, швея из меня неплохая. По вечерам штопаю и латаю заношенные штаны, рубашки и носки братьев и освежаю старые платья новыми воротничками и манжетами. Вскоре я уже шью себе, сидя в гостиной, все юбки, блузки и платья на маминой ножной машинке “Зингер” – она украшена хорошенькими красными, зелеными и золотыми королевскими лилиями, вся округлая, словно согнутая в локте рука. По книжке выкроек учусь шить трехклинную юбку, а затем и пятиклинную. Труднее всего с петлями: мои неловкие пальцы возятся с ними целую вечность.
Мама считает, что карманы на юбках – это неизящно. Показывает мне, как приделывать потайной мешочек вдоль шва, чтобы незаметно.
– Дама на виду у всех в карман не лазает, – говорит она.
Ее жеманность кажется мне чуточку нелепой. Тут, кроме нас, никого, а мальчишки либо не замечают, либо им все равно.
Проточной воды у нас нет, поэтому мы собираем дождевую и паводковую, что льется из водостоков, в большую цистерну в погребе и качаем ее ручным насосом в кладовке. Ал придумывает, как приделать воронку от водостока к шлангу, чтобы собирать воду в цистерну, и тем упрощает задачу. Когда вода в погребе заканчивается, я снаряжаю нашего мула Денди и тележку с двумя пустыми бочками, загоняю мальчишек помогать, и мы идем по воду к ручью на пастбище в миле от дома. Стирка раз в неделю занимает по крайней мере один полный день, а то и два. Кипячу воду на плите и наливаю ее из громадного черного котла в просторное стальное корыто, затем тру белье о стиральную доску, прогоняю через ручную отжималку, а следом вешаю капающие водой простыни, рубашки и исподнее сушиться. С моим-то шатким равновесием это непросто – прищеплять белье к веревкам на улице, но можно же снять веревку со столбов и пристегнуть к ней белье прямо на земле, а потом вернуть веревку на место – с сырым бельем на ней, висящим, словно амулеты на браслете. Когда снаружи слишком снежно, я развешиваю белье в сарае. Мокрым оно остается многие дни; затхлость не выветривается из него вплоть до весны.
Когда требуется, делаю мыло: смешиваю воду со щелоком, добавляю растительного масла, а затем выливаю смесь в формочки и оставляю сохнуть на несколько дней, потом заворачиваю брикеты в вощеную бумагу и прячу в кладовке, чтоб дозрело, на месяц. Оттираю полы с хлоркой и водой, пока костяшки и коленки у меня не делаются красные, все платье – в белых кляксах. При моем нестойком равновесии даже такие простые задачки опасны. Руки и ноги у меня в отметинах и шрамах от кипятка, хлорки и едкого щелока.
Когда я бурчу об этих мелких увечьях или о том, что от меня слишком много требуют, Ал говорит:
– У нас есть крыша над головой. У некоторых и этого нет. – Полезно помнить, видимо. Но трудно стряхнуть печаль, что меня забрали из школы.
И только Маммея меня понимает.
– Ты унаследовала пытливость, дитя, – говорит она. – Тем жальче.
Время идет, и я учусь делать свою жизнь сносной. Спасаю трех нежеланных котят и выбираю заморыша, рожденного от соседского кокер-спаниеля, называю его Тёпой. Заказываю семена в пакетиках и сажаю цветник, как у Эмили Дикинсон, – с настурциями, анютиными глазками, нарциссами и бархатцами. Она именовала свой садик “мотыльковой утопией”. Когда мои цветы распускаются – приманивают желто-черных монархов, капустниц, кавалеров.
Нахожу стихотворение, переписанное когда-то в тетрадку:
В Полдень две бабочки летят
И пляшут при Ручье,
Затем пронзают Небосвод,
Садятся на Луче…
А следом вместе прочь летят
Над Морем все ярчей…
Представляю, как эти бабочки облетают мир и ненадолго садятся у меня в цветнике, прежде чем отправиться дальше. Грежу, как однажды я, может, отращу крылья и полечу за ними, трепеща следом, вдаль над полем, за воды.
Стараюсь не думать о том, чем бы занималась, если б не была привязана к ферме. Энн и Мэри Коннор продолжают учиться, говорят. Энн хочет стать медсестрой, а Мэри – учительницей. Болтают, что она займет место миссис Краули. Когда я оказываюсь по делам в Кушинге и вижу кого-то из них издали – в скобяной лавке или на почте, – перехожу на другую сторону улицы.
* * *
Пока я была ребенком, Маммея нашептывала мне: “Ты – как я, Кристина. Однажды отправишься в далекие края”. Но теперь она уж больше такого не говорит. Теперь она всего лишь хочет, чтобы я выбиралась из дома. В отличие от моих родителей, которые об этом не заикаются, Маммея вечно уговаривает меня “общаться”, как она это называет.
– Батюшки светы, тебе надо быть с людьми твоего возраста! – причитает она. – Нет ли какого собранья или пикника, куда тебе можно сходить?
Танцы, что проводятся пятничными вечерами в Экорн-Грейндж-холле в Кушинге, Алу не интересны, и я собираюсь туда с подругой – с Сэди Шниц. Мы идем по изъезженной тропе в полутьме, держась за руки еще с несколькими девчонками. Сэди то и дело отрывается от цепочки, когда я отстаю – а отстаю я часто, спотыкаясь на колдобинах. Сэди делает вид, что хочет посплетничать, а на самом деле помогает мне не терять равновесие.
Сэди носит платья с кружевными рукавами и перламутровыми пуговицами, обноски сестер, говорит она, но все они моднее любых моих нарядов. Я хожу в темно-синих юбках и белых муслиновых рубашках с пуговицами спереди. Длинные темные юбки милосердны: под складками не так очевидны мои увечные ноги. По пути на танцы Сэди поет нелепые песенки и вообще дурачится, ходит колесом прямо в платье. На ней розовая губная помада и пудра, которые ее сестры таскают из аптеки домой в маленьких коробочках. Я завидую ее свободному легкому смеху, как она скачет вокруг, не боясь споткнуться. Хотела б я осмелеть и заговорить с мальчишками в Грейндж-холле, выйти на танцпол, а не раскачиваться под музыку у стеночки.
Позднее, уже дома, в постели, я выдумываю целые беседы, какие могли бы состояться у меня с мальчиком по имени Роберт Аллан, чьи карие глаза и волнистые волосы так мне нравятся, что я едва в силах смотреть на него впрямую, даже через всю залу.
А затем в моем воображении начинается музыка.
“Можно пригласить тебя на танец, Кристина?” – спрашивает Роберт.
“Пожалуй”, – говорю я.
Он протягивает руку, и когда я вкладываю в нее свою, он притягивает меня к себе, его теплая грудь прижимается к моей. Сквозь блузку я чувствую его другую руку у себя на пояснице, он ведет меня бережно, уверенно, шагает с левой ноги, я отступаю правой: два медленных шага, три быстрых, остановка. Вперед, вперед, из стороны в сторону…
Я засыпаю, слыша музыку у себя в голове, в такт двигаясь на цыпочках. Два медленных шага, три быстрых, остановка. Два медленных шага, три быстрых, остановка.
* * *
В свои восемьдесят Маммея, кажется, больше прежнего плавает в аквамариновых океанах былого, где песок светел и тонок, как сахар, а в воздухе висят ароматы тропических цветов. Она погружается в грезы и выныривает вновь, веки ее трепещут, она все глубже в себе. Никак не может согреться, сколькими бы пуховыми одеялами и покрывалами я ее ни укутывала. Грею на плите камень – ее же старинная уловка, – подкладываю его под покрывала в изножье ее кровати.
Однажды приношу ей из Ракушечной рапан, внутри у него все розовое и блестящее, как внутренняя сторона губ. Держась за костяную ракушку, Маммея рассказывает мне, как нашла ее на пустынном пляже в одной поездке с Капитаном Сэмом на мыс Горн. Песок у нее под пальцами, развесистые пальмовые листья над головой, защищающие от солнца. Сиеста на веранде, к ужину – жареная на углях рыба и овощи.
– В следующий раз возьму тебя с собой, – тихонько говорит она.
– Было б здорово, – говорю я.
* * *
Волосы у Маммеи жидкие и пожелтевшие, кожа усыпана веснушками и прозрачна, как яйцо жаворонка, взгляд блуждает, рассеян. Кости хрупкие, как у птицы. Мама каждый день заходит к ней в спальню и с полчаса хлопочет – возится с одеялами, меняет грязное белье.
– Больно смотреть на нее, – говорит она мне. Присев на краешек кровати, глядя в потолок, мама поет Маммее одну из своих любимых песен – старый гимн, какой она выучила в церкви еще ребенком:
Загорится ль звезда хоть одна мне в венце,
Когда солнце погаснет в конце,
Как открою глаза
Средь святых в небесах,
Загорится ль звезда мне в венце?[10]10
“Stars In My Crown” (1897) – гимн американской школьной учительницы и христианского поэта Элизы Эдмундз Хьюитт (1851–1920); как и Кристина Олсон, Хьюитт много лет преодолевала физическую немощь (связанную с болезнью спины).
[Закрыть]
Интересно, что эта звезда означает. Должно быть, подтверждает, что ты оказался по-особенному достойным, что светил чуть ярче всех остальных. Но если просыпаешься среди святых в раю, разве одного этого недостаточно? Разве этим не достигаешь всего, на что мог надеяться? Слова песни противоречат маминой сути, ее незаметным устремлениям, ее безразличию к чему бы то ни было, кроме домашних дел. Может, она верит, что такой способ жить – вершина праведности. Или, может, как она говорила раньше, ей просто нравится мелодия.
Мой отец поднимается к Маммее время от времени, болтается на пороге. Братья заглядывают и ретируются, не находя слов в виду столь ошеломительного распада. Не могу их винить. Маммея вечно звала моих братьев “эти мальчишки” и держалась от них подальше, а меня приближала к себе.
– Маммея, я тут, – бормочу я, гладя ее по руке, прикладывая ее ладонь к своей щеке. Она дышит мне в лицо, и дыхание Маммеи пахнет, как ряска на мелком пруду.
Перед смертью она несколько дней не ест, пьет самую малость, кожа на впалых щеках натягивается, дышит она хрипло, с трудом. Я вспоминаю стихотворение: “Все – досуха – Глаза кругом…”
День похорон уныл: бесцветное небо, серые костлявые деревья, старый прокопченный снег. Зима, кажется, устала сама от себя. В поминальной речи над могилой Маммеи на нашем семейном кладбище преподобный Коэн из баптистской церкви Кушинга рассуждает о том, как Маммея воссоединится с теми, кого любила и кто давно ушел. Но пока смотрю, как ее сосновый гроб медленно опускается в землю, я пытаюсь вообразить воссоединение хрупкой восьмидесятилетней женщины с ее мужем на несколько десятилетий моложе нее и с тремя их сыновьями, и меня не покидает чувство, что места, куда мы отправляемся в мыслях, ища утешения, имеют мало общего с тем, куда отправляются тела.
Внимание! Это не конец книги.
Если начало книги вам понравилось, то полную версию можно приобрести у нашего партнёра - распространителя легального контента. Поддержите автора!Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?