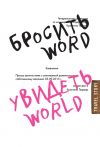Текст книги "Картина мира"

Автор книги: Кристина Клайн
Жанр: Современная зарубежная литература, Современная проза
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 9 (всего у книги 14 страниц) [доступный отрывок для чтения: 4 страниц]
Если даю слово
1946
– Э-эй? Кристина? – В дом сквозь сетчатую дверь проникает натужно-громкий женский голос.
– Я здесь, – говорю. – Кто там?
Женщина открывает дверь, шагает в кухню так, будто это палуба тонущего корабля. Неопределенных средних лет, в гарусном шерстяном костюме, в чулках и на каблуках, при ней судок.
– Меня зовут Вайолет Эванс. Из кушингской баптистской церкви. У нас клуб гостеприимства, и, ну, мы вас внесли в список посещений, раз в неделю.
Спина у меня напрягается.
– Не знаю ни о каких списках.
Она улыбается, измученно и терпеливо.
– Ну вот есть такой.
– Что за список?
– В основном лежачие.
– Я не лежачая.
– Угу, – говорит она, оглядываясь по сторонам. Протягивает мне судок. – Так. Я принесла вам рубленую баранину с лапшой. – Щурится сквозь мглу. День на исходе, а я еще не зажгла лампу. Пока она не пришла, я и не обращала внимания, как уже стемнело. – Может, включим свет?
– Электричества нет. Найду лампу, если подождете немножко.
– Ой, не хлопочите из-за меня. Я ненадолго. – Осторожно ступает по кухне, ставит лоток на плиту. – Немного пролила на юбку. Не покажете мне, где у вас мойка?
Неохотно показываю ей на кладовку. Знаю, что меня ждет.
– Ой, тут же… насос! – говорит она с чуть изумленным хохотком, в точности как я и ожидала. – Небеси, у вас, что ли, и канализации нет?
Очевидно же.
– Мы всегда обходились и так.
– Что ж, – говорит она вновь. Стоит посреди кладовки, словно олень, готовый к прыжку. – Надеюсь, вы с братом любите рубленую баранину.
– Уверена, он все съест.
Понятно, что она ждет от меня большей благодарности. Но я не просила приносить мне судок, и мне не очень-то нравится рубленая баранина. Мне неприятны высокомерные замашки этой женщины, будто она боится подцепить какую-нибудь заразу, присев в кресло. К тому же что-то в моей натуре топорщится от ожидания благодарности за милость, о которой я не просила. Вероятно оттого, что милость обычно сопровождается неким снисходительным осуждением, ощущением, что дающий считает, будто я навлекла свой недуг – недуг, на который я не жалуюсь, между прочим, – на себя сама.
Даже Бетси, которая меня понимает, вечно жаждет облегчить мою долю. Моет посуду своими нежными ручками, раскладывает утварь не на свои места. Метлу я нахожу за дверью, а посудную ветошь – выложенной сушиться на заднем крыльце. Однажды она заявилась со стопкой одеял и белья и плюхнула все это на стол в гостиной.
– Позвольте, я заменю эти старые тряпки, на которых вы спите, – сказала она. – Кажется, пора уже завести свежее белье, а? – (Все знают, что я гордячка. Подобные разговоры терплю только от Бетси.) Она собрала покрывала – они, что правда, то правда, видали лучшие дни, особенно обтерханное синее одеяло, связанное папой, – и выволокла их на улицу, бросила в багажник фургона, чтобы потом выкинуть на помойку.
– За “пирекс” не беспокойтесь, – успокаивает меня женщина из баптистской церкви. – Я заберу на той неделе.
– Вам незачем это делать. Правда. Мы вполне справляемся.
Она склоняется, оглаживает меня по руке.
– Мы рады помочь, Кристина. Это часть нашей миссии.
Я знаю, что эта женщина из баптистской церкви желает мне добра, – знаю и то, что нынче ночью спать она будет крепко, чувствуя, что выполнила свой христианский долг. Но ее рубленая баранина с макаронами оставит у меня во рту горький привкус.
* * *
Почти в любой летний день, посреди утра, когда жар густеет над полями, как желатин, в дверях появляется Энди. В его повадках – новый неведомый пыл; их сыну Ники почти три года, Бетси вновь беременна, родит через месяц. Энди нужно, по его словам, что-то производить, чтобы поддерживать растущую семью.
Блокнот для зарисовок, пальцы в краске, по карманам – яйца. Сбрасывает сапоги, бродит по дому и по полям босиком. Забирается на второй этаж, ходит из спальни в спальню, преодолевает еще один лестничный пролет – в давно закрытую комнату. Я слышу, как он отворяет окна на третьем этаже, их не открывали много лет, кряхтит от натуги.
Думаю о его присутствии там, наверху, как о пресс-папье, что прижимает к земле этот призрачный старый дом, пришпиливает его к полям, чтобы не унесло ветром.
Энди обычно ничего с собой не приносит, не предлагает помощь. Не выказывает никакой тревоги из-за того, как мы живем. Не рассматривает нас как нечто, нуждающееся в починке. Не присаживается на край кресла, не болтается на пороге с видом человека, желающего уйти, – того, кто уже на полпути к двери. Он усаживается как следует и наблюдает.
Все, о чем прочие люди тревожатся, Энди нравится. Царапины, оставленные псом на синей двери сарая. Трещины в белом чайнике. Потрепанные кружевные занавески и затянутые паутиной окна. Он понимает, почему меня устраивает проводить дни сидя в кресле на кухне, положив ноги на выкрашенный в синий табурет, глядя на море, вставать, чтобы помешать суп время от времени или полить цветы, и пусть эта старая постройка уходит себе в землю. В отбеленных костях битого бурями дома величия больше, заявляет он, чем в унылой опрятности.
Энди делает наброски с Ала, занятого будничными делами: тот собирает овощи, окучивает голубику, ухаживает за лошадью и коровой, кормит свинью. С меня, сидящей на кухне под геранями. Благодаря его взгляду я заново осознаю все составляющие этого места, зримые и нет: вечерние тени в кухне, опять цветущие поля, плоские гвозди, что держат бывалую обшивку, капе́ль воды из ржавой цистерны, холодный голубой свет сквозь треснувшее оконное стекло.
Кружевные занавески, вывязанные Маммеей, теперь уж рваные и ветхие, колышутся на вечном ветру. Она здесь, нет сомнений, наблюдает, как преображается ее жизнь, ее истории, как это бывает с историями, во что-то иное – на картинах Энди.
* * *
Однажды сумрачным днем Энди влетает в двери с угрюмым лицом и топает наверх, не задерживаясь на болтовню, как это обычно бывает. Слышу, как он громыхает, хлопает дверями, чертыхается.
Через час с чем-то он вваливается обратно в кухню и плюхается в кресло. Трет руками глаза и говорит:
– Бетси меня погубит.
Энди бывает театрален, но я никогда не слышала, чтоб он жаловался на Бетси. Не знаю, что и сказать.
– Она решила восстановить старый дом на Бредфорд-Пойнте, чтоб мы туда переехали. Не посоветовавшись со мной, хотелось бы добавить. Черт бы все это подрал.
Мне это не кажется совсем уж неразумным. Бетси говорила, что они живут в конюшне в имении ее родителей.
– Тебе тот дом нравится?
– Хороший.
– Потянешь ремонт?
Он жмет плечами. Да.
– Она хочет, чтобы ты помогал?
– Да не то чтобы.
– Ну и?..
Он свирепо трясет косматой головой.
– Я не хочу привязки к дому. То, как мы живем сейчас, – совершенно годится.
– Вы живете в конюшне, Энди. В двух конских стойлах, по словам Бетси.
– Они приспособлены. Мы не спим на сене.
– С одним ребенком, второй на подходе.
– Ники нравится! – восклицает Энди.
– Хм-м. Ну… думаю, могу понять, почему Бетси не склонна жить в конюшне.
Отколупывая засохшую краску с ладони, Энди бурчит:
– То же случилось с моим отцом. Дома, яхты, машины, причал – все надо вечно чинить… Влезаешь в это слишком глубоко, деньги из тебя вытекают, а дальше все решения упираются в то, что лучше продастся, чего желает рынок, – и тебе конец. Конец, черт бы драл. Вот как все начинается.
– Обустроить домик – не то же самое.
Энди щурится, улыбается мне с любопытством. За исключением моего портрета я ни разу ему, в общем, не перечила. Вижу, что его это изумляет.
– Я знаю Бетси с ее детства, – говорю. – Ей плевать на материальные блага.
– Совсем не плевать. Не так, может, как другим женщинам. Но я никогда бы на такой и не женился. Уж точно не плевать. Хочет красивенький дом, новую машину… – Тяжко вздыхает.
– Не такая она.
– Вы не знаете, Кристина.
– Я знаю ее гораздо дольше, чем ты.
– Ну, это правда, – соглашается он.
– Она рассказывала тебе, как мы познакомились?
– Конечно. Как-то раз летом ей стало скучно, и она повадилась ходить в гости.
– Не просто в гости. Однажды она постучала в дверь – ей было то ли девять, то ли десять, – вошла, огляделась и принялась мыть посуду. А потом начала появляться чуть ли не ежедневно – помогать по дому. Ничего не хотела взамен. Просто была… собой. Заплетала мне волосы… – Вспоминаю, как Бетси вытягивала заколки у меня из волос, прочесывала их редким гребнем, терпеливо распутывала колтуны. Веки у меня сомкнуты, голова откинута назад, под веками – оранжевое небо. Пряди волос, застрявшие в гребне, пронизаны серебром. Ее маленькие, но сильные и уверенные руки делят мои волосы на три пряди, переплетают их.
Энди вздыхает.
– Слушайте, я ж не говорю, что она нехороший человек. Конечно же, хороший. Но девочки вырастают в женщин, а женщины хотят того и сего. А я не желаю об этом думать. Желаю только писать.
– Так ты и пишешь, – возражаю я с растущим раздражением. – Постоянно.
– Я про давление. Трудно не поддаться… влиянию.
– Ты и не поддаешься. И не поддашься. Сплошная работа же, ты сам это говоришь все время. И Бетси все время это говорит.
Он сидит с минуту, барабанит пальцами по коленке. Я вижу, что сказать ему есть что, но он не понимает, как это сформулировать.
– Мой отец обожал это все, понимаете. Капканы славы. И меня это злит.
– Что тебя злит? Что он ценил все это?
– Ага. Нет. Не знаю. – Он резко встает и идет к окну. – Меня чуть не сбил тот поезд, который угробил его, я рассказывал? На том же переезде, несколько лет назад. Я ехал себе, думал о чем-то, глянул и дал по тормозам в последнюю секунду – поезд пронесся мимо. Знаю, каково это было для него, – увидеть, как прет на него поезд. Ужас этот. Тщету осознания, что ничего не поделать. – Энди медлит, а затем добавляет: – И меня переполняет ярость. От… потери. От такой безвременной потери.
А, понятно, думаю я.
– Я злюсь, что потерял его, но злюсь я и на растрату, – говорит он. – Времени, сил, разбазаренных на бессмысленное обладание, на компромиссы… Не хочу совершить те же ошибки.
Думаю об ошибках, наделанных моим отцом ближе к концу жизни. Знаю, как потеря родителя может быть и освобождением, и предупреждением.
– Не совершишь.
– Того и гляди совершу.
– Давай я тебе чаю налью, – говорю я.
Он качает головой.
– Нет. Пойду опять наверх. Ярость для работы хороша. Изолью ее. И печаль, и любовь, все смешаю. – Стоя у двери, вцепившись в косяк, продолжает: – Бедняжка Бетси, она не виновата. Хотела нормальной жизни, а получила меня.
– Думаю, она понимала, на что идет.
– Ну, если не понимала тогда, теперь-то уж точно знает, – говорит он.
1917–1922
В первые за годы в летних днях часов чересчур много, я не в силах придумать, на что их потратить. Заказываю по каталогу Фэйлза обои, привлекаю маму помочь мне преобразить комнаты в первом этаже. (Если здесь быть моему дому, пусть хоть стоит обклеенный мелкими розовыми цветочками на белом поле.) Мама уговаривает меня вступить в кружки, которые я доселе презирала, – в “Клуб друзей”, в “Клуб отзывчивых женщин”, в кружок шитья баптистской церкви южного Кушинга, примкнуть к их посиделкам с мороженым, распродажам фартуков и еженедельным встречам. Беру в библиотеке книги, о которых Уолтон отзывался скверно. (“Итан Фром”[28]28
“Ethan Frome” (1911) – роман Эдит Уортон.
[Закрыть] – с его унылыми новоанглийскими зимами, сокрушительными компромиссами и трагическими ошибками – в особенности не дает мне спать ночи напролет.) Принимаю от городских дам заказы на пошив платьев, ночных сорочек и комбинаций. Однажды пятничным вечером соглашаюсь даже сходить в Грейндж-холл с Рамоной, Элоиз и моими братьями, хотя, заслышав бодрую фортепьянную и скрипичную музыку, плывущую меж деревьями, когда мы подходим ближе, – “Рэг тигра” и “Госпожу озера”,[29]29
“Tiger Rag” (1917) – один из самых распространенных джазовых стандартов, впервые записан американским коллективом “Original Dixieland Jass Band”. “Lady of the Lake” – народный гэльский танец (рил), популярный в Новой Англии.
[Закрыть] – желаю исчезнуть в зарослях.
Не успеваем войти в зал, как вся наша компания – врассыпную.
– Ах ты бедняжечка! – вопит через весь зал Гертруд Гиббонз, завидев меня. Подбегает, хватает за руку. – Мы все так расстроены.
– У меня все хорошо, Гертруд, – отзываюсь я, пытаясь избавиться от нее.
– Ой, я понимаю, ты вынуждена это говорить, – театрально шепчет она. – Ты такая стойкая, Кристина.
– Нет, не стойкая.
Она стискивает мне ладонь.
– Стойкая, стойкая! После всего пережитого. Я бы забилась в норку.
– Ничего не забилась бы.
– Забилась бы! Рухнула бы просто. А ты такая… – Она оттопыривает губу, изображает суровость. – Ты вечно находишь солнечную сторону. Я так этим восхищаюсь.
И далее в том же духе – с меня хватит. Закрываю глаза, вдыхаю, открываю.
– Ну а я, понимаешь, восхищаюсь тобой.
Она складывает руки на груди.
– Правда?
– Да. До чего тяжело, должно быть, при такой-то стройной сестрице – тебе все время приходится следить за весом. Жуткая несправедливость, по-моему.
Она выпрямляется. Втягивает живот. Закусывает губу.
– Ну вряд ли…
– Должно быть очень трудно. – Похлопываю ее по плечу. – Все так считают.
Понимаю, что повела себя не по-доброму, но никуда не деться. И не жалею, углядев у нее на лице обиду. Сердце мое разбито, остались лишь иззубренные осколки.
* * *
Мама теперь проводит весь день в спальне с задернутыми шторами. Доктор Хилд появляется и удаляется, пытается понять, что не так. Я таюсь в тенях, не путаюсь у него под ногами.
– Похоже, у нее развивается болезнь почек и, вероятно, сердца, – сообщает он наконец. – Ей нужен покой. Когда будут у нее силы – может выбираться на солнышко.
У мамы бывают хорошие и плохие дни. В плохие она не покидает комнаты. (Когда просит чаю, я медленно взбираюсь по лестнице, чашка звякает о блюдце, горячая жидкость плещет мне на руки.) В хорошие дни выходит, когда я уже перемыла посуду после завтрака, садится со мной в кухне. Иногда, если ей особенно хорошо, мы выбираемся на пикник к острову Малый, приноравливаемся к отливу. Мы та еще парочка: хворая задышливая женщина и увечная девушка, ковыляющая рядом.
Мама держит черную Библию Маммеи, потрепанную и бывалую от многих лет странствий, на прикроватном столике и частенько листает тонкие, как паутинка, страницы. Время от времени бормочет вслух слова, которые знает наизусть: “Хвалимся и скорбями, зная, что от скорби происходит терпение, от терпения опытность, от опытности надежда…[30]30
Римл., 5:3, 4.
[Закрыть] Ибо кратковременное легкое страдание наше производит в безмерном преизбытке вечную славу…”[31]31
2-е Кор., 4:17.
[Закрыть]
Однажды утром прихожу в хлев к папе, несу ему кружку воды, и вижу, что он осел рядом с мулом в стойле, на лице – странная гримаса. Оторопев, я роняю кружку и ковыляю к нему.
– Помоги мне, Кристина, – выдыхает он, хватая ртом воздух, тянет ко мне руку. – Не могу встать. Мышцы свело, ногам так больно, – говорит он, – что и не двинешь. – Когда я в конце концов привожу его в дом, он ложится в кухне на пол, разминает икры, старается притупить боль.
Ал уезжает за доктором Хилдом. Осмотрев отца, тот объявляет, что, вероятно, артрит и толком ничего тут не поделаешь.
Мама почти лежачая, папа все более хвор – дела по дому оказываются на нас с братьями, еще большее бремя. Выбирать не из чего, иначе вся ферма сползет в хаос: скотина не кормлена, коров доить надо, задач на завтра вдвое больше. Чтобы разобраться со всеми делами, приходится пригашивать ум, увертывать его понемножку, как ручку на газовой лампе, и остается лишь малый язычок пламени.
* * *
Лето обращается в осень, и тут на почту вновь начинают прибывать конверты с двухцентовыми марками, с бостонским штемпелем. “Маленькая семейная свадьба” Рамоны, докладывает она, переросла – ожидаемо – в более роскошную. Платье невесты будет фасонистое, вопреки материным возражениям, – из белого атласа, с клиновидным вырезом, с юбкой чуть ниже колен, с широким атласным поясом и фатой (а не, прости господи, бабушкино, с обтерханными желтыми кружевами). “Если суфражисткам можно пикетировать Белый дом, мне можно показывать свою эмансипацию от длинных юбок и старой фаты”, – заявляет Рамона. У нее будет букет ирисов – как у невесты с обложки какого-нибудь “Хёрста”.[32]32
“Hearst Communications” (с 1887 г.) – американская медиакорпорация, выпускающая множество газет и журналов. С 1925 по 1952 г. журнал “Космополитен”, приобретенный Уильямом Рэндолфом Хёрстом в 1905 г., официально назывался “Hearst's International Combined with Cosmopolitan”.
[Закрыть]
Приглашение – на толстом кремовом картоне, расписанном вручную пастельными цветочками, – прибывает в громадном не по размеру кремовом конверте. Стою на дороге, читаю слова, замысловато начертанные черным:
Мистер и миссис Херберт Карл
с почтением просят посетить
свадебную церемонию их дочери
Рамоны Джейн
и Харленда Вудбери…
С тем же почтением, на листке из блокнота, я отклоняю приглашение. Братья по уши заняты сбором урожая, а мне надо готовиться к праздникам, но все мы шлем счастливой паре наилучшие пожелания. (А следом – посеребренный чайный сервиз, выставленный на распродаже в лавке товаров для дома в Томастоне.)
После свадьбы, состоявшейся в начале ноября, я получаю открытку из свадебного путешествия, со штемпелем Ньюпорта: “До чего величественные дома! Все дамы – в мехах…” – а через несколько недель приходит записка с рассказом о солнечной квартире в новом кирпичном здании, которую молодожены снимают в Бостоне. “Непременно приезжай в начале весны в гости. Я знаю, Ал будет занят посадками, тащи поэтому дорогушу Сэма, – пишет Рамона. – Ему нужны приключения – тебе тоже. Не сенокос, не отпускной сезон, а потому – никаких отговорок. Всего на несколько недель! Ничего не обрушится”.
Мысль съездить в Бостон в обстоятельствах настолько иных, нежели я себе представляла, укладывает меня в постель на весь остаток дня.
– Ты же понимаешь, что мы никак не можем поехать, – заявляю я Сэму, когда он вызывает меня на разговор о письме, которое я по дурости оставила на обеденном столе.
– Почему?
– Далеко… Я калека…
– Чепуха, – говорит Сэм. – Я никогда нигде не был. Да и ты. Едем.
Глядя на высокого красавца Сэма, с его упрямыми скулами, орлиным носом и пронзительными серыми глазами, я думаю о череде Сэмюэлов-мореходов, в честь которых его назвали, об их покорении мира. Сэму двадцать. Рамона права: ему нужны приключения.
– Езжай, – убеждаю его я.
– Без тебя – нет.
– Но… Ал не справится с фермой в одиночку.
– Он не один. Есть Фред. Папа тоже поможет.
Гляжу на него недоверчиво. Помощник из папы с некоторых пор уже не очень-то.
– Ал справится. Не приму никаких отказов.
И вот так ранним мартовским утром 1918-го, вопреки моим колебаниям, Ал везет нас сквозь туман в Томастон, где нам с Сэмом предстоит сесть в поезд на Северный союзный вокзал в Бостоне. Лестницы и очереди за билетами, узкие коридоры и железнодорожные платформы – ошарашивающая полоса препятствий для нас обоих, а в моих тугих новых туфлях – и того хуже. Сэм несет оба чемодана и плащ и при этом ухитряется крепко держать меня под руку, в равновесии, пока мы медленно пробираемся ко входу на перрон. Когда наконец усаживаемся в вагон, падаем на сиденья, обитые красной кожей.
Через несколько минут после того, как мы отъезжаем от станции, Сэм спрашивает:
– Поесть взяла?
Я положила несколько галет в сумку, но, когда их достаю, они рассыпаются у меня в руке. Не успеваю подумать, что придется потерпеть до Бостона, как появляется кондуктор – краснолицый мужчина с щетинистыми усами, бредет по проходу, проверяет билеты. Сэм возится в кармане пиджака – ищет.
– Так-так, – говорит кондуктор. – Первый раз на поезде?
Киваю.
– Так и думал. – Склоняется к нам. – Уборные – в следующем вагоне… – Показывает мясистым пальцем направо. – Обеденная – четырьмя вагонами дальше. Там можно добыть горячую еду или чашку чаю. Или виски, если желаете, – говорит он, хихикнув. Дыханье у него соленое, как омар.
– Спасибо, – отвечаю я. Но после того как он уходит дальше, говорю Сэму: – Думаю, не стоит. Нам надо экономить. – На всю поездку у нас восемьдесят долларов, билеты туда и обратно уже отъели пять пятьдесят восемь. Еще и позориться не хочется – носиться туда-сюда.
– Поесть надо – во́т что нам стоит, – говорит Сэм.
– Иди один – принеси мне что-нибудь, немножко.
Сэм знает, что у меня на уме. Четыре длинных вагона. Он изящно встает и протягивает мне руку. Я глубоко вдыхаю и поднимаюсь на ноги. Но есть и другой вопрос: забирать нам вещи с собой, чтобы их не украли, или оставить? Пожилая женщина с лицом, как яблоко из погреба, склоняется к нам через проход между сиденьями.
– Не волнуйтесь, дорогие, я пригляжу за вашими сумками.
Качка поезда, оказывается, скрывает мою немощь. Я уже давно привыкла стараться держать равновесие и осваиваюсь быстрее Сэма, которого мотает из стороны в сторону, как пьянчугу. В обеденном вагоне мы едим сэндвичи с ветчиной, пьем чай с молоком и сахаром, смотрим в мчащуюся тьму за окном. Годы напролет я мечтала об этом миге – вернее, о таких вот мгновеньях. До чего оно все отличается от моих грез! Щиколотки мерзнут, ступни стиснуты в новых туфлях, в воздухе кисло от табачного дыма и телесной вони, хлеб черств, чай жидок и горек.
И все же – я куда-то еду. До чего потрясающе легко это – сорваться и поехать, купить билет, сесть в поезд и ринуться в неведомое.
Портленд, Портсмут, Ньюберипорт. Проезжаем станцию за станцией – ни одна не значила для меня ничего, кроме слов на карте. Прибываем в Сэлем, и я думаю о наших предках, живших здесь. Представляю Бриджет Бишоп на эшафоте – как она отчаянно пытается использовать приговор в своих интересах. “Если вы и впрямь верите, что я ведьма, – должно быть, думала она, – тогда придется поверить, что у меня есть силы вам навредить”. Я всегда считала, что Джон Хэторн состряпал те обвинения против бунтарей и отщепенцев, чтобы укрепить общественный порядок. А теперь вот думаю: а ну как он и впрямь верил, что те женщины способны поработить его душу?
Подъезжаем к вокзалу, темно и холодно, а до Карлов нам добираться тремя поездами, один из них ходит по эстакаде, а значит, нужно таскать сумки вверх-вниз по лестницам. Сэм держит меня под руку, я сосредоточиваюсь на шагах: поднимаю одну ногу, опускаю другую. Грезя о жизни с Уолтоном, я не задумывалась, каково это – справляться с городской жизнью. Все упирается в это тело, в этот ущербный панцирь. Как же хочется расколоть его и сбросить.
* * *
Вопреки моим опасениям о жизни в Бостоне, быть в новом месте меня будоражит, и довольно легко делать вид, что все в порядке, – добродушно болтать с Рамоной, пока она жарит яичницу к завтраку, охать ее свадебным подаркам и чарующему виду из окна квартиры на мощеную улицу, играть в карты с ней, Харлендом и Сэмом. (Хотя сама я поневоле морщусь, когда Харленд предлагает перекинуться в “старую деву”.)
Но под поверхностью сердце мое ранено, болезненно к прикосновениям. Под улыбками, кивками и восклицаниями я плыву изо дня в день, словно призрак, молча страдая по тому, как оно все могло быть. Здесь, в Гарвард-Ярде, мы с Уолтоном могли бы отдыхать на парковой скамейке. В универмаге “Джордан Марш” могли бы выбирать мебель и посуду. На берегах Чарлза расстилали бы плед для пикника, я бы покоилась у Уолтона на груди, глядя, как скользят мимо гребцы. По ночам я падаю на постель изнуренная, переполненная тоской столь непомерной, что едва могу дышать.
Вопреки всем моим усилиям, Рамону не проведешь. Однажды утром она говорит, совершенно ни к селу ни к городу:
– Какая же в тебе стойкость – все-таки приехать.
Мы сидим в столовом уголке, едим яйца всмятку из фарфоровых подставок и тосты из серебряной держалки. Сэм с Харлендом ушли прогуляться.
– Я довольна, что приехала.
Рамона отпивает кофе.
– Я рада. Решиться на эту поездку было непросто.
– Да, непросто, – признаюсь. – Но Сэм настоял.
– Знаю. Он мне сказал. Но… ты же хорошо проводишь время, правда?
Киваю, намазывая тост маслом.
– Конечно. Прекрасно.
– Хочу сказать тебе, Кристина… – Откладывает ложку. – Ты наверняка думаешь об этом. Уолтон живет в Молдене. В город последнее время наезжает редко.
Смотрю ей в глаза.
– Я думаю об этом.
– Надеюсь, тебе от этого легче.
– Он знает, что я здесь?
– Я ему говорила. Чувствовала, что должна. В случае…
– Логично. Вы же друзья. – Слышу у себя в голосе горечь.
Рамона закусывает губу.
– Семьями дружим. С детства. Трудно просто взять и отрезать человека… пусть он и… – Качая головой, договаривает: – Не знаю, как объяснить. Чувствую себя предателем. Знаю, до чего тебе было больно. Он повел себя безобразно.
Рамона, кажется, так искренне расстроена, что я чую в себе струйку сочувствия.
– Не надо объяснять. Я понимаю.
– Правда? – говорит она с надеждой.
– Что было, то прошло.
Знаю, что это она и хочет услышать. Улыбается с явным облегчением.
– Как же я рада, что ты так считаешь. Я тоже! И, кстати, помню, ты говорила, что тебе это не интересно, однако в Бостоне полно приличным холостяков.
– Рамона…
Она всплескивает руками.
– Да, да, знаю, ты отставила удочку. Но как было не попробовать.
* * *
Через несколько дней Рамона говорит:
– Тебе уж точно непросто, Кристина, дорогая, – с этими походами по окрестностям.
Так и есть. Каждый дюйм Бостона коварен для меня, от мощеных улиц до людных тротуаров. И она, и Сэм, и даже неуклюжий Харленд помогают мне в лифтах и на спусках с лестниц, предлагают уверенную руку в наших вечерних прогулках. Но я все равно спотыкаюсь и падаю.
– Я очень ценю твою помощь, – говорю я ей.
– Ой, да ну не за что. Но мне и впрямь кажется, что состояние у тебя сложнее, чем прежде. Вижу, как ты иногда морщишься. Тебе больно?
Пожимаю плечами. Боль стала частью меня, я с нею живу, как с собственными блеклыми ресницами и молочно-белой кожей. Но теперь, когда просыпаюсь поутру, приходится несколько минут потягиваться и осваиваться, прежде чем удается пошевелить руками. Часто кажется, что и ступни у меня увязли в клею: не могу пройти и четырех-пяти шагов самостоятельно и не потерять равновесия.
– Кристина, Уолтон говорил мне, что вы с ним беседовали как-то раз. Он сказал, что звал тебя в Бостон – разобраться, можно ли что-то сделать.
Чувствую, как вспыхивает у меня лицо.
– Это совершенно не его дело…
Рамона вскидывает палец.
– Речь не об Уолтоне. Я потолковала с одним врачом – очень хорошим врачом – в Бостонской городской больнице, и он считает, что может помочь. Не сейчас же. Не в эту поездку. Надо назначить прием. Прошу тебя об одном: подумай. Слушай… – Вздыхает. – …Ты разве не хочешь нормальной жизни, с нормальными возможностями? Ты раньше отказывалась, а…
Невысказанные слова повисают в воздухе. Я знаю, о чем она: что мое нежелание лечиться, вероятно, стоило мне отношений. На меня накатывает гнев. Да – этого-то я и боялась все время. Что чувства Уолтона ко мне – небезусловные. Что он велел мне лечиться, а не то…
Но гнев стихает, не успев разгореться. Было б мило жить нормальной жизнью. Я устала корчить из себя сильную, устала скрывать, что малейшие дела по дому изнуряют меня. Устала от ушибов и царапин, от жалостливых взглядов людей на улице. Может, этот врач и впрямь мне поможет. Кто знает? Вероятно, он даже сделает меня здоровой.
– Ладно, – говорю я Рамоне. – Я подумаю.
Улыбается.
– Здорово! Может, все же удастся залатать эту твою худую лодку.
* * *
В газетах сплошь вести с фронта. “Бостон Глоуб” сообщает, что Соединенные Штаты ежедневно отправляют во Францию почти десять тысяч солдат. В Кушинге до нас долетают байки о записавшихся в армию ребятах, а после Закона о воинской повинности – о призывниках. (Для моих братьев-фермеров, как и для многих им подобных в наших краях, сделали исключение.) Мы слушаем новости по радио. Но здесь новости – не умозрительны, не что-то, происходящее невесть где. Гуляя по Гарвард-Ярду, мы с Сэмом натыкаемся на несколько сотен молодых людей в синих морских форменках – это новобранцы из Радиошколы. Парк Бостон-Коммон уставлен палатками Красного Креста, тамошние добровольцы собирают и пакуют припасы – для отсылки за рубеж.
Когда суфражисток, пикетировавших Белый дом больше двух лет, осуждают в редакционных колонках, Рамона с Элоиз возмущены и пространно это обсуждают. Они знают некоторых дам по именам, у них уйма доводов, почему женщин нужно наделить правом голоса. Разговаривают обо всем этом так, словно заинтересованы в исходе. Словно у них есть право – или даже обязанность – иметь мнение.
– Но к нам это никакого отношения не имеет, – возражаю я.
– Имеет – самое прямое, – негодующе откликается Рамона.
Никакие задачи, которыми я занята в Кушинге, в мире Рамоны не имеют значения. Она словно играет в семью в своей четырехкомнатной квартире с окнами на улицу, на четвертом этаже, заботиться ей не о ком – если не считать ее слегка неуклюжего муженька и кучи денег, посредством которых эту заботу осуществлять. До чего иная была б у меня жизнь при электричестве, с уборной в доме, с горячей водой, льющейся из крана в кухне и в ванной, при газовых горелках в плите, загорающихся от поднесенной спички, при чугунных батареях, обогревающих каждую комнату. Не трать я все свое время на разведение огня, я бы, может, и знала, что творится в большом мире. Рамона посещает оперу, свежие постановки, ходит по шляпным и дамским лавкам. Есть девушка (Рамона зовет ее так, хотя “девушка” старше нас), которая заявляется два раза в неделю – стирать, оттирать полы, менять постельное белье, стряхивать пыль с горки и мыть посуду, пока Рамона сидит за столом в пеньюаре и читает “Бостон Хералд”.[33]33
“The Boston Globe” (с 1872 г.) и “The Boston Herald” (с 1846 г.) – американские ежедневные газеты, преимущественно распространяемые в Массачусетсе.
[Закрыть]
Рамона отказывается выходить на улицу без шляпки и не в платье по последней моде, свеженакрахмаленном и отутюженном. Я, хозяйка двух простеньких платьев, двух юбок, двух блузок и двух слегка помятых шляпок, провожу много времени, ожидая, пока Рамона подготовится к выходу.
– Ох, Кристина, ты, должно быть, уже отчаялась, – говорит она со вздохом, поспешая из своей спальни, цепляя одну из множества шляпок перед зеркалом в прихожей, пока я прохлаждаюсь под дверью. – Вся эта кутерьма, наряды, кудри и шляпные булавки – сколько же я трачу сил на суету со своим внешним видом! А ты такая, какая есть. Завидую.
Я ей не верю. Жизнь у нее такая, какую она себе хочет. Но я и не завидую ей. Даже не будь у меня немощи, мне было бы трудно приспособиться к этим узким улицам, забитым зданиями и пешеходами, терпеть эти неумолчно громыхающие трамваи, оглушительные гудки, визг тормозов, музыку из домов, болтовню людей. Бостонское небо, разбавленное светом фонарей, никогда не темнеет полностью. Мне не хватает густой, усыпанной звездами черноты Хэторн-Пойнта по ночам, мягкого свечения керосинок, мгновений совершенной тишины, вида наших желтых полей, бухты и моря вдали – и горизонта.
* * *
Рамона и даже Харленд, благослови его бог, более чем щедры, но, когда приходит время уезжать, я готова. День отбытия – сияюще-солнечный. Снег на улицах тает в лужи. За ночь в парке сквозь ледяную кашу пробились желтые и пурпурные крокусы. Я сижу у себя в крошечной спальне, укладываю немногие пожитки в чемодан, и тут раздается стук в дверь.
– Это Сэм. Можно войти?
– Конечно.
Он открывает дверь, я взглядываю на него. Глаза у него сияют, улыбка через все лицо.
Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?