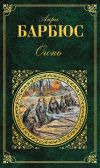Текст книги "Капут"

Автор книги: Курцио Малапарте
Жанр: Зарубежная классика, Зарубежная литература
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 6 (всего у книги 31 страниц) [доступный отрывок для чтения: 8 страниц]
Время от времени я отрывался от созерцания королевы и поводил взглядом по лицам сотрапезников, останавливая его то на смеющемся личике фрау Вехтер, то на белых руках фрау Гасснер, то на красном потном лбу начальника канцелярии генерал-губернаторства Кейта, повествующего об охоте на кабанов в люблинских лесах, о сворах свирепых собак из Волыни, об отстрелах в лесах Радзивиллов. Или смотрел на двух Staatssekretäre, государственных секретарей, Беппле и Бюхлера, затянутых в мундиры серого сукна с красной повязкой со свастикой на рукаве, с потными красными висками и блестящими глазами, на каждое «nicht wahr?» короля они спешили воскликнуть «ja! ja!». Или вперял взгляд в барона Фользеггера, тирольского седовласого дворянина с задорной белой остроконечной бородкой мушкетера и ясными глазами на оживленном лице, и пытался вспомнить, где я видел это гордое любезное лицо, а пройдя в памяти долгий путь назад, перебрав год за годом, край за краем, я дошел до Донауэшингена, что в Вюртемберге, где в парке при дворце князей Фюрстенбергских из мраморной чаши, окруженной статуями нимф и Диан, бьет источник, дающий начало реке Дунай. Я склонился над колыбелью молодой реки, долго наблюдал за трепещущей струей, поднимавшейся со дна; потом постучал в дверь замка, пересек большой внутренний двор, поднялся по мраморной лестнице, вошел в огромный зал, где на стенах висели алтарные полотна «Серых страстей» Гольбейна, и там, против светлой стены, я увидел портрет кондотьера Валленштейна. Я улыбнулся далекому воспоминанию, затем улыбнулся барону Фользеггеру. Вдруг мой взгляд остановился на человеке Гиммлера.
Мне показалось, что в тот момент я увидел этого человека в первый раз, я вздрогнул. Он тоже смотрел на меня, наши взгляды встретились. Этот человек с запретным, непроизносимым всуе именем был средних лет, темноволосый, уже с сединой на висках, с остроконечным носом, с тонкими, бледными губами и необыкновенно светлыми глазами. Глаза серые, может, голубые, а может статься, белые, как у рыбы. Длинный шрам пересекал его левую щеку. Что-то сразу смутило меня в нем: это были уши, маленькие и бескровные, с мочками восковыми и такими же прозрачными, как воск или молоко. Мне пришел на ум Амброджо из сказки Апулея, которому колдуньи отрезали уши, когда тот сторожил покойника, а вместо них приделали восковые. У человека Гиммлера было несколько дряблое голое лицо, и, хотя череп был смоделирован грубо и сильно, а лобные кости казались жесткими в сочленениях и очень крепкими, выглядел он так, что, казалось, мог вогнуться от прикосновения пальца, как черепная коробка только родившегося младенца, – он был похож на череп ягненка. Узкие, как у ягненка, скулы, продолговатое лицо – что-то от младенца и от животного одновременно было в нем. Белесый и влажный, как у больного, лоб и даже пот, выступавший на дряблой восковой коже, заставлял думать о лихорадочной бессоннице, которая обильно увлажняет лоб легочного больного, когда он лежит на спине в ожидании рассвета.
Человек Гиммлера молча смотрел на меня. Я не сразу заметил странную, робкую и приторную улыбку, увлажнявшую его тонкие бледные губы. Он с улыбкой смотрел на меня, я подумал вначале, что он улыбается мне, что он вправду смотрит на меня, улыбаясь, но вдруг меня осенило, что его глаза – пусты, что он не слушает слов собеседников, не слышит шума голосов и смеха, звона приборов и бокалов, что он отрешен и витает в чистой и высокой сфере жестокости (той «мучительной жестокости», которая и является подлинной немецкой жестокостью), страха и одиночества. Но даже и тени жестокости не было на его лице – только робость, замешательство и чудесное, трогательное одиночество. Его левая бровь изгибалась под углом к виску. Ледяное презрение, непреклонная горделивость падали отвесно с его высокой брови. И вместе с тем мучительная жестокость и удивительно горькое одиночество управляли мимикой и меняли выражение лица этого человека.
В какой-то момент мне показалось, что на его лице проступило что-то живое и человечное: свет, краска, может, взгляд – взгляд ребенка зародился в глубине пустых глаз. Казалось, он медленно, как ангел, спускался со своих высоких, очень далеких и чистых небес: спускался как паук, как неторопливый ангел-паук с высокой белой стены. Подобно узнику, он спускался с вершины отвесной стены своей неволи.
Чувство глубокого смирения проявлялось понемногу на его бледном лице. Он выплывал из своего одиночества как рыба из грота. Он плыл ко мне, глядя на меня в упор. И неосознанное чувство симпатии появлялось у меня к нему, примешиваясь к чувству страха, которое внушало его голое лицо и белесый взгляд, я с удивлением вдруг осознал, что отношусь к нему с жалостью, испытываю какое-то болезненное удовлетворение от самого страха и симпатии, которые это жалкое чудовище вызывало во мне.
Внезапно человек Гиммлера перегнулся через стол и тихо, с робкой улыбкой сказал:
– Я тоже друг поляков, je les aime beaucoup[75]75
Я их очень люблю (фр.).
[Закрыть].
Взволнованный этими словами и странно мягким, опечаленным голосом человека Гиммлера, я не заметил, что король, королева и все приглашенные встали и смотрят на меня. Я тоже поднялся, мы все направились вслед за королевой. Стоя, она казалась еще более грузной, как бы принявшей на себя роль доброй немецкой бюргерши, даже зеленый цвет ее бархатного колокола померк. Она медленно, с добродушным достоинством шла впереди всех, на мгновение останавливаясь на пороге каждой залы, будто оценивая взглядом холодный, настойчиво-навязчивый блеск обстановки, вдохновленный стилем drittes Reich, Третьего рейха, самый чистый образец которого представляет собой рейхсканцелярия в Берлине. Переступив порог и пройдя несколько шагов, она останавливалась, поднимала руку и, указывая на мебель, картины, ковры, люстры, статуи героев работы Брекера, бюсты фюрера, гобелены, украшенные готическими орлами и свастикой, говорила с этикетной улыбкой: «Schön, nicht wahr?»[76]76
Прекрасно, не правда ли? (нем.)
[Закрыть]
Весь исполинский Вавельский замок, который лет двадцать назад я видел истинно по-королевски свободным, теперь от подвалов до чердачных помещений самой высокой башни был битком набит мебелью, экспроприированной во дворцах польской знати или доставленной из Франции, Бельгии или Голландии после реквизиций, проведенных со знанием дела и по заказу экспертов и антикваров из Мюнхена, Берлина и Вены, следовавших за немецкими войсками через всю Европу. Мощный поток света от висящих под потолком больших люстр отражался от обитых сверкающей кожей стен, от портретов Гитлера, Геринга, Геббельса, Гиммлера и других нацистских вождей, от мраморных и бронзовых бюстов (расставленных в коридорах, на лестничных площадках, в углах комнат, на мебели, на мраморных постаментах или в стенных нишах), изображающих немецкого короля Польши в разных ипостасях, навеянных декадентской эстетикой Буркхардта, Ницше, Штефана Георге, героической эстетикой Третьей Симфонии Бетховена и «Horst-Wessel-Lied»[77]77
«Песня Хорста Весселя» – гимн Национал-социалистической немецкой рабочей партии (1930–1945).
[Закрыть] и декоративной эстетикой антикваров-гуманистов Флоренции и Мюнхена. Запах новой кожи и свежего лака стоял в спертом воздухе.
Наконец мы вошли в большой зал, обитый кожей и щедро украшенный мебелью drittes Reich и французскими коврами. Это был кабинет Франка. Пространство между двумя застекленными высокими дверьми, выходящими на наружную лоджию Вавеля (внутренняя выходит на прекрасный внутренний дворик, спроектированный итальянскими архитекторами Возрождения), занимал необъятных размеров стол красного дерева, в котором отражалось пламя свечей двух тяжелых канделябров из золоченой бронзы. Огромный стол был пуст.
– Здесь я размышляю о будущем Польши, – сказал Франк, разведя руками; я улыбнулся, подумав о будущем Германии.
По знаку Франка обе застекленные двери распахнулись, и мы вышли в лоджию.
– Это – немецкий Бург, – сказал Франк, показывая рукой на внушительную громаду Вавеля, четко очерченную в снежном обрамлении. Вокруг древнего замка королей Польши лежал закутанный в снежный саван, покоренный город, освещенный робкими лучами лунного серпика на светлом небе. Голубой туман вставал над Вислой. Виднелись заброшенные за горизонт вершины Татр, прозрачные и легкие. Изредка лай эсэсовских собак на посту у памятника Пилсудскому разрывал тишину ночи. Холодно было так, что заслезились глаза, пришлось закрыть их на минуту.
– Похоже на сон, не правда ли? – сказал Франк.
Когда мы вернулись в кабинет, фрау Бригитта Франк подошла, доверительно тронула мою руку и тихо сказала:
– Пойдемте со мной, хочу открыть вам его секрет.
Сквозь маленькую дверь в стене кабинета мы вошли в комнатку с совершенно голыми, выбеленными мелом стенами. Ни мебели, ни картин, ни ковров, ни книг, ни цветов – ничего, кроме великолепного рояля «Плейель» и деревянного табурета. Фрау Бригитта Франк открыла крышку рояля и, упершись в табурет коленом, коснулась клавиш толстыми пальцами.
– Прежде чем принять важное решение или когда он бывает очень усталым и опустошенным, а иногда даже и во время важного совещания, – сказала Бригитта Франк, – он запирается в этой келье, садится к роялю и ищет покоя и вдохновения у Шумана, Брамса, Шопена и Бетховена. Хотите знать, как я зову эту келью? Орлиное гнездо.
Я молча поклонился.
– Он – необыкновенный человек, – добавила она, устремив на меня гордый взгляд, – он артист, великий артист, чистая тонкая душа. Только такой художник, как он, может править Польшей.
– Да, он большой артист, – сказал я, – и только за этим роялем он может управлять польским народом.
– Oh! Vous comprenez si bien le choses![78]78
О, вы это хорошо понимаете! (фр.)
[Закрыть] – сказала фрау Бригитта Франк растроганным тоном.
Мы молча оставили «орлиное гнездо»; сам не знаю почему, меня еще долго не покидало чувство волнения и огорчения. Тем временем все собрались в жилых апартаментах Франка и, утонув в глубоких венских диванах и просторных креслах, покрытых мягкими шкурами лани, обратились к беседе и табаку. Два лакея в синих ливреях с жесткой и короткой на прусский манер стрижкой подавали кофе, ликеры и сладости, их шаги неслышно тонули в мягком французском ковре, покрывавшем весь пол. На лакированных столиках венецианской работы стоял старый французский коньяк лучшей марки, лежали гаванские сигары, серебряные подносы с засахаренными фруктами и знаменитым польским шоколадом Веделя.
Располагала ли к этому по-семейному теплая обстановка или уютное потрескивание пламени в камине, но скоро беседа стала сердечной, почти интимной. И как часто случается в Польше, где собираются немцы, там всегда говорят о поляках. Говорили, как обычно, со злым презрением, но странным образом к нему примешивалось почти болезненное, женское чувство – чувство раздражения, сожаления, обманутой любви, неосознанной зависти и ревности. Мне опять вспомнилась старая, милая Бикетта Радзивилл, стоящая под дождем на варшавском вокзале, и ее манера говорить: «Ces pauvres gens».
– Польские рабочие, – вещал Франк, – не из лучших в Европе, но и не из худших. Когда хотят, они могут очень хорошо работать. Полагаю, мы можем на них рассчитывать, особенно на их дисциплину.
– Все же есть у них один очень серьезный недостаток, – сказал Вехтер, – они смешивают патриотизм с техническими вопросами труда и производства.
– Не только с техническими, но и с моральными, – сказал барон Фользеггер.
– Современная техника, – вставил Вехтер, – не допускает вмешательства посторонних элементов в дела труда и производства. А патриотизм рабочих среди всех чуждых производству вопросов – самая опасная проблема.
– Несомненно, – сказал Франк, – но патриотизм рабочих сильно отличается от патриотизма дворян и буржуа.
– Родина рабочего – заводы и машины, – негромко произнес человек Гиммлера.
– Это мысль коммунистов, – сказал Франк, – думаю, ее сформулировал Ленин. Хотя, в сущности, она выражает реальность. Польский рабочий – добрый патриот, он любит свою родину, но знает, что лучший способ спасти страну – это работать на нас, – добавил Франк, глядя на человека Гиммлера, – а если он будет противиться…
– Мы в курсе многих вещей, – сказал человек Гиммлера, – о которых польский рабочий не знает или не желает знать. Лично я предпочел бы не знать, – добавил он с застенчивой улыбкой.
– Если хотите выиграть войну, – сказал я, – вы не можете уничтожить родину рабочего. Не можете уничтожить машины, цеха, промышленность. Это проблема не только польская, а всеевропейская. Как и в остальных завоеванных вами странах, вы можете уничтожить родину знати, родину буржуазии, но не родину рабочих. Полагаю, смысл этой войны весь в этом, или в основном в этом.
– Крестьянство, – сказал человек Гиммлера.
– Если нужно, – сказал Франк, – мы раздавим рабочих под крестьянским прессом.
– И проиграете войну, – сказал я.
– Герр Малапарте прав, – сказал человек Гиммлера, – мы проиграем войну. Нужно, чтобы польские рабочие нас полюбили. Мы должны заставить польский народ полюбить нас.
Он улыбался, пока говорил, а замолчав, отвернулся к камину.
– Все кончится тем, что поляки полюбят нас, – сказал Франк, – это народ романтиков, и новым видом завтрашнего польского романтизма будет любовь к немцам.
– А пока, – сказал барон Фользеггер, – польский романтизм… Есть венская поговорка, она как нельзя лучше рисует наше положение по отношению к полякам: «Ich liebe dich, und du schläfst», «Я люблю тебя, а ты спишь».
– Oh! Оui, je t’aime et tu dors. Très amusant, n’est-ce-pas?[79]79
О да, я люблю тебя, а ты спишь. Очень забавно, не правда ли? (фр.)
[Закрыть] – сказала фрау Вехтер.
– Ja, so amüsant! – сказала фрау Бригитта Франк.
– В итоге поляки, конечно же, полюбят нас, но пока они спят, – сказал Вехтер.
– Я полагаю, они притворяются спящими, – изрек Франк. – Они и не мечтают о большем, чем дать себя любить. О каждым народе судят по его женщинам.
– Польские женщины, – сказала фрау Бригитта Франк, – известны своим изяществом и красотой. Est-ce que vous les trouvez tellement jolies?[80]80
Это правда, что вы находите их очень хорошенькими? (фр.)
[Закрыть]
– Я нахожу их достойными восхищения, – сказал я, – и не только из-за красоты и элегантности.
– А по мне они не такие уж и красавицы, как их рисуют, – сказала фрау Бригитта Франк. – Красота немецкой женщины строже, она более классическая и подлинная.
– Il y en a pourtant qui sont très jolies et très élégantes[81]81
И все-таки среди них есть очень миленькие и изящные (фр.).
[Закрыть], – сказала фрау Вехтер.
– В старые добрые времена в Вене, – сказал барон Фользеггер, – их считали элегантнее самих парижанок.
– Ah! Les Parisiennes![82]82
Ах, парижанки! (фр.)
[Закрыть] – воскликнул Франк.
– Est-ce qu’il y a encore des Parisiennes?[83]83
А разве есть еще парижанки? (фр.)
[Закрыть] – спросила фрау Вехтер, грациозно откинув назад голову.
– А я нахожу элегантность полек ужасно провинциальной и démodée, – сказала фрау Бригитта Франк. – И, конечно же, не война тому виной. Германия тоже воюет уже больше двух с половиной лет, а все же германские женщины сегодня – самые элегантные в Европе.
– Il paraît, – сказала фрау Гасснер, – que les femmes polonaises ne se lavent pas souvent[84]84
Кажется, польки моются недостаточно часто (фр.).
[Закрыть].
– Oh! Оui, elles sont terriblement sales[85]85
О да! Они ужасные грязнули (фр.).
[Закрыть], – сказала фрау Бригитта Франк, встряхнув своим бархатным колоколом, издавшим долгий зеленый звук.
– Не их вина, – сказал барон Фользеггер, – что у них нет мыла.
– Скоро, – сказал Франк, – у них не будет повода жаловаться. В Германии найден способ варить мыло из материала ничтожной стоимости, которого везде в изобилии. Я уже заказал большие партии такого мыла для раздачи польским паннам, чтоб они могли мыться. Это мыло, сваренное из дерьма.
– Из дерьма? – воскликнул я.
– Да, из человеческого дерьма, – ответил Франк.
– И хорошее мыло?
– Прекрасное, – сказал Франк. – Я испытал его в деле и остался очень доволен.
– Дает хорошую пену?
– Пена великолепная. Можно прекрасно бриться. Мыло, достойное короля.
– God shave the King! – воскликнул я.
– Только… – добавил немецкий король Польши.
– Только… – затаил я дыхание.
– Только один недостаток: вонь и цвет никуда не уходят.
Взрыв смеха встретил его слова.
– Ach so! Ach so! Wunderbar! – кричали все.
Прочувствованная слеза скатилась по щеке фрау Бригитты Франк, немецкой королевы Польши.
V
Запретные города
Я выехал из Радома, пересек в машине бескрайнюю, погребенную под снегом польскую равнину и приехал в Варшаву. Сметенные бомбардировками строения пригородов, улица Маршалковская – остовы сожженных пожарами дворцов, руины железнодорожного вокзала, черные дома без стекол – все имело жалкий вид под вечерним освещением, но было желанным отдохновением моим глазам, ослепленным постоянным сверканием снега.
Пустынные улицы, редкие прохожие вдоль стен, немецкие патрули с автоматами наперевес на перекрестках. Саксонская площадь выглядела призрачно огромной. Я поднял взгляд на второй этаж гостиницы «Европейская», нашел окно номера, где прожил 1919-й и 1920-й годы, будучи молодым сотрудником Королевской дипломатической миссии Италии. Окно освещено. Я вошел во двор дворца Брюль, пересек атриум и ступил на первую ступень парадной лестницы.
Немецкий губернатор Варшавы Фишер пригласил меня в тот вечер на обед в честь генерал-губернатора Франка и его супруги фрау Бригитты Франк, куда были приглашены также его ближайшие сотрудники. Дворец Брюль, раньше резиденция Министерства иностранных дел Республики Польша, теперь – немецкого Губернаторства Польши, высится невредимым в двух шагах от развалин старой гостиницы «Англетер», в которой останавливался Наполеон. Только одна бомба поразила дворец, разрушив потолок над парадной лестницей и над внутренней лоджией, ведущей в великолепные апартаменты Фишера, когда-то их занимал лично министр иностранных дел Польской Республики полковник Бек. Я ступил на первую ступень и, начиная восхождение, посмотрел вверх. В конце лестницы, по обеим сторонам которой высились тонкие белые, навязчивого и ущербного современного классицизма колонны без оснований и капителей, будто освещенные снизу вверх безжалостными театральными прожекторами, стояли две импозантные статуи из плоти, они угрожающе нависали надо мной, пока я медленно поднимался по ступеням розового мрамора. Убранная в золотую lamé, парчу, в жестких и глубоких, напоминавших каннелюры, складках, величественно возвышалась фрау Фишер, ее лоб венчало высокое причудливое сооружение из светлых с медным отливом прядей, выглядевшее богатой коринфской капителью, причудливо посаженной на дорическую колонну. Из-под нижнего края юбки выглядывала пара огромных ступней, выше – две округлые голени с мясистыми икрами, которым серые шелковые чулки придавали стальной оттенок. Ее напряженные руки висели вдоль тела, словно нагруженные тяжелой ношей. Рядом с ней импозантно возвышалась громада губернатора Фишера – упитанная, геркулесовская фигура, затянутая в черный, берлинского кроя фрак с коротковатыми рукавами. Маленькая круглая голова, розовое, оплывшее лицо, глаза навыкате под красными веками. Пытаясь скрыть неуверенность, он изредка облизывал губы медленным заученным движением. Он стоял, широко расставив ноги и держа напряженно, чуть отведя в стороны, полусогнутые, сжатые в кулак руки, как статуя кулачного бойца. По закону перспективы обе тяжелые фигуры казались мне, поднимавшемуся снизу медленным шагом, наклоненными назад, как статуи, которых фотографируют снизу: ступни, ноги и руки выглядели непропорционально большими и деформированными. С каждым шагом во мне росло смутное опасение, подобное тому, которое испытывает сидящий в первом ряду партера зритель, когда певец приближается к краю рампы и угрожающе нависает над ним, воздев руки и распахнув рот. Обе тяжелые статуи из плоти разом вскинули правые руки и гаркнули: «Heil Hitler!»
(И здесь на моих глазах супруги Фишер растворились в холодном голубом свете ламп, их место заняли две высокие, зыбкие тени супругов Бек. Мадам Бек сияла улыбкой; слегка наклонившись вперед, она подавала мне руку, как бы помогая преодолеть последние ступени, а полковник Бек, высокий и худой, с маленькой птичьей головой человек, кланялся с суховатой английской элегантностью, едва заметно расшаркиваясь левой ногой. Это были два бледных образа ушедшего времени и давних воспоминаний, они двигались с призрачным изяществом на фоне варшавских развалин, где истощенные, посиневшие от горя и тревоги, воздев руки горе, стенали тьмы людей. Мадам Бек, похоже, не замечала шествия за своей спиной, она улыбалась и протягивала мне руку. А полковник Бек с побелевшим, испуганным лицом вертел птичьей головой на тонкой шее (голубой свет ламп отражался от его блестящего черепа и выдающегося носа), делал движение повернуться, выдвигал плечо, как бы стараясь закрыть декорации разрушенной Варшавы: ее улицы и закутанный в облезшие меха и изорванные плащи истощенный люд под нахлобученными на голову, выцветшими от непогоды шляпами. Шел снег, и время от времени из медленно двигавшейся по тротуару толпы один живой взгляд среди тысяч потухших взглядов вспыхивал ненавистью и отчаянием в сторону переходящего улицу немецкого солдата в кованых сапогах. Перед гостиницами «Бристоль» и «Европейская», перед кинотеатром на улице Новы Свят и костелом Святого Андрея, где покоится урна с сердцем Шопена, перед развалинами улиц Маршалковской и Краковского предместья, перед разбитыми витринами магазинов Веделя и Фукса женщины оборачивались, обмениваясь разочарованными взглядами и усталыми кивками; стайки мальчишек бегали, катались на льду, останавливались поглазеть на снующих взад и вперед немцев во дворе дворца Потоцких, где располагалась Kommandatur. Вокруг разожженных на площади больших костров молчаливые, припорошенные снегом мужчины и женщины тянули руки к огню. Все оборачивались, устремив взгляд на две призрачные грациозные тени на вершине мраморной лестницы дворца Брюль, иногда кто-нибудь взмахивал руками и издавал крик. Под конвоем эсэсовцев проходили закованные люди, все обращали взгляд к мадам Бек, с улыбкой протягивавшей мне руку, к полковнику Беку, обеспокоенно двигавшему маленькой головой на тонкой шее, выставлявшему плечо, стараясь затолкать назад убогие декорации развалин Варшавы: грязный, серый пейзаж, похожий на штукатурку в кровавых пятнах, изрытую пулями карательного отряда.)
За столом губернатора Фишера в апартаментах полковника Бека кроме генерал-губернатора Франка и фрау Бригитты Франк я нашел весь вавельский двор: фрау Вехтер, Кейта, Эмиля Гасснера, барона Фользеггера и человека Гиммлера; придворные были разбавлены едва замеченными мной тремя-четырьмя сотрудниками Фишера с бесцветными отсутствующими лицами.
– Вот мы и снова собрались, – сказал Франк, обращая ко мне сердечную улыбку. И добавил, цитируя знаменитое изречение Лютера: – Hier stehe ich, kann nicht anders…[86]86
На том стою и не могу иначе… (нем.)
[Закрыть]
– Aber ich kann stets anders, Gott helfe mir![87]87
Пока я жив, да поможет мне Бог! (нем.)
[Закрыть] – подхватил я.
Дружный смех встретил мои слова, а фрау Фишер, обеспокоенная такой неожиданной для нее «увертюрой к застольной беседе» (не преминул вставить Франк свойственным ему напыщенным слогом), улыбнулась, открыла рот, как бы собираясь что-то сказать, покраснела и, обратив свой взгляд к сотрапезникам, произнесла:
– Guten Appetit.
Фрау Фишер – молодая, цветущая женщина с удивленным и ласковым взглядом. Судя по вниманию мужчин, это была красивая женщина, и, оставив в стороне некоторую ее вульгарность, заметную только внимательному, отнюдь не немецкому глазу, можно с уверенностью сказать, что это была женщина утонченная. Гладкие, золотистые, отсвечивающие медью волосы выдавали их частый контакт с горячим железом; закрученные длинными прядями, они свисали со лба торчащими гибкими змейками горгоны Медузы, в которые парикмахер вплел человеческий волос несколько темнее ее собственного. Она неспокойно улыбалась, по-детски опершись о край стола полными белыми руками, и молчала, отвечая только нежным «ja» на всякий обращенный к ней вопрос. Фрау Бригитта Франк и фрау Вехтер в начале обеда разглядывали ее с неприкрытой иронией недоброжелательности, но кончили тем, что отвели взгляд и обратили все внимание на яства и беседу, которую генерал-губернатор Франк вел с обычным тщеславным красноречием. Фрау Фишер молча слушала и, очарованная, смотрела на Франка своими большими кукольными глазами, очнувшись от наваждения не раньше, чем на столе появилось жаркое из лани. Губернатор Фишер поведал, как он собственноручно уложил ее одной пулей между глаз, а фрау Фишер сказала со вздохом:
– So ist das Lieben, такова жизнь.
Обед был посвящен, по словам Франка, Диане-охотнице. Произнеся имя богини, он улыбнулся фрау Фишер и галантно кивнул головой. Сначала на стол подали фазанов, затем зайцев, после чего пришла очередь лани и беседы, вначале о Диане и ее лесной любви, об охоте, воспетой Гомером и Вергилием, отображенной в картинах немецких художников Средневековья и в стихах итальянских поэтов Возрождения, затем разговор перешел на охоту в Польше, на обилие дичи в польских имениях, на своры волынских собак и выяснение вопроса, какие лучше для охоты: немецкие, польские или венгерские. Далее обычным манером беседа незаметно перекинулась на Польшу и поляков, от которых, как всегда, перешла к евреям.
Нигде в Европе немцы не проявили себя так явно и неприкрыто, как в Польше. Во время моих военных похождений я все более убеждался, что немец совершенно не боится человека сильного и вооруженного, противостоящего ему гордо и мужественно. Его страшат безоружные, ущербные и больные. И тема «страха», немецкой жестокости под действием страха, стала главной темой моего изучения. Современному христианину этот страх внушает жалость и ужас, но никогда прежде он не внушал мне такой жалости и ужаса, как теперь в Польше, где явился болезненным женским элементом его сложной природы. Что подвигает немца на жестокость, на действия самые рассудочно и методично жестокие, так это страх. Страх перед ущербными и беззащитными, калеками и больными; страх перед стариками, женщинами, детьми, страх перед евреями. И хотя немец силится припрятать этот свой мистический «страх», он неизбежно заводит о нем разговор и всегда в моменты самые неподходящие, особенно за столом, где, то ли разогретый вином и едой, то ли вновь обретший веру в себя, которая возвращается к нему, когда он не чувствует себя одиноким, то ли от бессознательной потребности доказать себе, что страха у него нет, немец выдает себя: пускается в разговоры о голодающих, расстрелянных и убиенных, и делает это с болезненным удовольствием, раскрывающим не только злобу, ревность, обманутую любовь, ненависть, но и жалкую, удивительную низость. Чудесное благородство униженных и искалеченных, сирых и обездоленных, стариков, детей и женщин немец предвидит, предчувствует, завидует ему и боится его, наверное, больше любого другого народа в Европе. И – мстит. В высокомерии и жестокости немца присутствует своего рода жажда унижения, глубокая потребность самоочернения кроется в его безжалостном зверстве, воинствующая низость скрыта в его таинственном «страхе». Я слушал слова сотрапезников с жалостью и горечью и напрасно пытался это скрыть: когда Франк, заметив мое замешательство, а может, чтобы заставить меня присоединиться к его ущербному чувству униженности, повернулся ко мне с ироничной улыбкой и спросил:
– Вы уже побывали в гетто, mein lieber[88]88
Мой дорогой (нем.).
[Закрыть] Малапарте?
Я побывал в варшавском гетто несколько дней назад. Я переступил границу «запретного города», огороженного красной кирпичной стеной, построенной немцами, чтобы закрыть евреев в гетто, как зверей в клетке. На охраняемых эсэсовскими автоматчиками воротах висел подписанный губернатором Фишером приказ, обещавший смертную казнь каждому еврею за попытку покинуть гетто. И с самых первых шагов по гетто, как и по «запретным городам» Кракова, Люблина, Ченстохова, меня охватил ужас от леденящей тишины, царящей на улицах, населенных оборванным и запуганным людом. Я хотел пойти в гетто один, без гестаповского эскорта, но приказы губернатора Фишера обязательны к исполнению, пришлось и в тот раз смириться с присутствием Черной Стражи в виде молодого высокого блондина с худощавым красивым лицом, ясным холодным взглядом и чистым лбом, на который стальная каска бросала таинственную тень. Он шагал среди евреев, как ангел Израиля.
Невесомая прозрачная тишина висела в воздухе, в тишине слышался легкий, похожий на зубовный скрежет, скрип тысяч ног по снегу. Заинтересовавшись моей итальянской формой, люди поднимали бородатые лица, буравили меня взглядом мохнатых глаз, красных от стужи, от лихорадки, от голода. Слезинки сверкали на ресницах и пропадали в грязных бородах. Случалось в давке толкнуть кого-то, я просил прощения, говорил «Prosze Pana», человек поднимал лицо и смотрел недоверчивым, удивленным взглядом. Я улыбался, повторял «Prosze Pana», зная что моя любезность была чудом для них, что после двух с половиной лет мучений и скотского рабства вражеский офицер (офицер итальянский, но мало не быть немцем, нет, наверное, этого мало) впервые говорил «Prosze Pana» бедному еврею из варшавского гетто.
Иногда приходилось переступать через мертвого, в толпе было плохо видно и случалось споткнуться о лежащий на тротуаре труп, рядом с которым стояли ритуальные семисвечники. Мертвые лежали на снегу в ожидании, когда телега монатто[89]89
Городской служащий, во времена эпидемий чумы увозивший больных и мертвых.
[Закрыть] увезет их прочь, но мор был большой, а телег – мало, всех не успевали отвезти вовремя, и мертвые долго лежали на снегу среди потухших свечей. Многие оставались на полу в коридорах, на лестничных площадках или на кроватях в комнатах, набитых бледными молчаливыми людьми. Бороды у покойников были залеплены намерзшей грязью. Они провожали нас белесым взглядом, распахнутыми остекленевшими глазами смотрели на проходящих людей. Твердые, задубевшие, они казались деревянными статуями, походили на мертвых евреев Шагала. Синие бороды на истощенных выбеленных морозом и смертью ликах были того чистого синего цвета, какой бывает у морских водорослей. Такого чудесного синего, напоминающего море, таинственный синий цвет моря в самое загадочное время дня.
Тишина на улицах «запретного города», молчаливое ледяное шествие, озноб, тихий зубовный скрежет давили на меня так, что я стал разговаривать сам с собой, громко. Люди удивленно оборачивались, в их глазах был страх. Я стал вглядываться в эти лица. Почти все бородаты, пугающе истощены голодом и лишениями; лица подростков покрыты вьющимся пушком, черным или красноватым, кожа – воск; лица детей и женщин – бумага. На всех лицах – голубая печать смерти. На лицах из серой бумаги или белого гипса – глаза, странные насекомые, собравшиеся пошарить в орбитах мохнатыми лапками и высосать неяркий свет, еще сиявший в глазницах. При моем приближении насекомые беспокойно шевелились, оставляли добычу, выползали из орбит, как из норы, испуганно смотрели на меня. Были глаза очень живые, иссушенные лихорадкой; были глаза полные влаги и меланхолии. У кого-то они светились зеленым блеском скарабеев. Были красные, были черные и белые, были потухшие и мутные, как затянутые туманом катаракты. В глазах женщин – дерзкая отвага, они презрительно выдерживали мой взгляд, потом переводили взор на Черного Стражника, глаза сразу темнели от ужаса и омерзения. Глаза детей были страшны, я не мог в них смотреть. Над темным скопищем людей в длинных черных пальто и черных ермолках висело грязное ватное небо, небо из хлопковых прядей.
Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?