Текст книги "Золотая симфония"
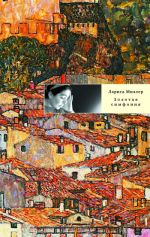
Автор книги: Лариса Миллер
Жанр: Современная русская литература, Современная проза
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 18 (всего у книги 19 страниц) [доступный отрывок для чтения: 5 страниц]
Ещё была Волга, где вечерами так приятно наблюдать с высокого берега за разноцветными огнями проплывающих мимо катеров и так неприятно беседовать с подвыпившими парнями, которые, завидев костёр, непременно подходили и принимались весьма нагло разглядывать двух москвичей, и особенно молодую москвичку, не то евреечку, не то армяночку.
А может, махнуть на Алтай? Но почему на Алтай? Ведь я боюсь высоты и не люблю горы. Решено: Алтай. Когда вся наша компания вышла из поезда Москва – Барнаул, лил дождь, не прекращавшийся целых две недели. Это было настоящее стихийное бедствие. Обезумевшие реки с диким грохотом несли свои мутные воды. Штампы, сплошные штампы. Ну как ещё описать бешеный Чулышман, над которым мы шли по склону холма. То есть шли все, кроме меня. Я ползла на полусогнутых. Кто-то нёс мой рюкзак, кто– то крепко держал за руку. Кто-то проводил со мной на ходу психотерапевтический сеанс. Спасибо всем, не давшим мне пропасть в трудную минуту. Однако алтайское путешествие почти целиком состояло из подобных минут. Разверзлись хляби земные и небесные. Вода была всюду – сверху и снизу. Горы походили на тучи, тучи на горы. Реку мы узнавали по грохоту. Однажды, подойдя к притоку Чулышмана, через который нам надлежало переправиться, мы увидели жуткую сцену: пастухи и присланный им в помощь милиционер пытались перегнать на другой берег стадо яков. Бедных животных, не желающих лезть в ревущие, клокочущие воды, загоняли туда силой. На них орали, их били кнутом, в них швыряли камни. Они пытались убежать, но их ловили и гнали в реку. До сих пор не могу забыть огромные полные тоски и ужаса глаза беспомощных яков, стремительно уносимых рекой. Только у самых крепких хватало сил бороться со стихией. Остальные были обречены. Милиционер объяснил нам, что начальство, учтя обстоятельства, спустило им некую процентную норму. Так что потери запланированы.
Переправившись на другой берег, мы, конечно же, снова оказались под дождём и по щиколотку в воде. Хлюпая давно промокшими сапогами, добрели до одинокой избы и попросились погреться. Лучше бы мы этого не делали. Нет ничего хуже, чем после тепла и уюта, тарелки манной каши с малиновым вареньем и двух стаканов горячего чая, снова влезать в мокрые сапоги и пускаться в путь, не сулящий радости. «А не рвануть ли нам во Фрунзе? – предложил кто-то из нашей команды, – там, говорят, жара сорок градусов». Прекрасная идея. Пожалуй, так мы и поступим. Хорошенького помаленечку. Но нам не удалось осуществить свой дерзкий план. Выйдя утром из палатки, мы чуть не упали от неожиданности: в чистом небе светило солнце. Это было 16 августа, в твой день рождения. Мы развели гигантский костёр, сварили огромную кастрюлю киселя из брикетов и подарили тебе букет полевых цветов. Нет ничего глупее, чем дарить цветы в чистом поле. Но что поделаешь, если ничего, кроме бутылки вина, у нас для подарка не было.
Именинное настроение, возникшее по причине хорошей погоды и твоего дня рождения, не покидало нас ни на следующий день, ни через день. Оно не покинуло бы нас и дальше, если бы не случайно подслушанный на почте междугородний разговор с Москвой. Почта находилась в живописном, окружённом горами посёлке, куда мы зашли, чтобы пополнить свои запасы и отправить весточки в Москву. Выглядела почта совсем по-домашнему – светёлка с чисто вымытыми полами и тюлевыми занавесками на окнах. Переступив порог, мы увидели румяную девушку, которая выполняла все функции сразу: продавала почтовые принадлежности, принимала телеграммы и работала телефонисткой. Мы попытались купить у неё открытки, но поняли, что она нас в упор не видит, прислушиваясь к хриплому мужскому голосу, доносившемуся из телефонной будки. Оглянувшись, увидели молодых ребят. Три недели назад мы вместе с ними садились в поезд Москва – Барнаул. Тогда их было пятеро. Сейчас трое. Двое, как мы поняли из телефонного разговора, утонули, когда перевернулся плот, на котором они пытались сплавиться по бешеному Чулышману. Об этом сбивчиво, с дрожью в голосе, говорил кому-то (родителям погибших? своим близким? друзьям?) приземистый паренёк – тот, что тогда на платформе поразил меня своей причудливой тирольского вида шляпой с пером. Серые, осунувшиеся, заросшие густой щетиной лица ребят, их воспалённо-красные глаза и страшная новость, которую выкрикивал по телефону один из них, абсолютно не вязались с безмятежно ясным днём, тишиной посёлка и тюлевыми занавесками на окнах. Прислушиваясь к разговору, я снова вспомнила ревущую реку и полные тоски глаза гибнущих яков.
Снова туман. Но уже не мещёрский, а соловецкий. Он настиг нас на реке на полпути к Анзерам – заповедному острову, куда «диких» туристов старались не пускать. В обход всех правил нам удалось договориться с местными рыбаками, чтоб они ночью перевезли нас – человек пятнадцать «дикарей» – на остров в своей моторке. Мужики были в сильном подпитии, но трезвых не нашлось. К тому же, путь предстоял недолгий и хорошо им знакомый. Однако на середине пути случилось непредвиденное: на море спустился туман и заглох мотор. «Всё. Приехали», – сообщил один из наших проводников в наступившей тишине. «А бензин?» – поинтересовался кто-то. «Нет бензина. Не взяли». – «Что же делать?» – «Что делать? Грести. Но теперь дольше будет». Рыбаки налегли на вёсла. «Давай, молодёжь, запевай, а то больно тихо стало». Кто-то из пассажиров затянул «Дубинушку». Но набиравшая силу песня была прервана лаконичным и уже знакомым: «Всё. Приехали». «А теперь что?» «Как что? Туман. Суши вёсла. Всё равно ни хера не видно». Мужики завели между собой тихую ленивую беседу: «Вот так Фёдора прошлый год унесло, помнишь?» – «Ага». – «Тоже туман накрыл, и всё. Вроде близко, а ни х… не видать». – «А ракетница?» – спросил один. «Что – ракетница? Может, забыл, а может, отсырела», – отозвался другой. «А мы взяли?» – «Я не брал. А ты?» – «Да на кой она мне. Я её отродясь не беру». Мы напряжённо прислушивались к беседе. «Что теперь будет?» – робко спросил кто-то из пассажиров. «Что будет? Унесёт в открытое море – и с концами». – «Как это – с концами?» – переспросила я, вцепившись в скамейку. «Ну, может, о валуны разобьёт. Здесь же валуны кругом – не подберёшься. Есть только одно место, где подплыть можно. Да поди найди его в тумане. Вот прошлый год Федька.» Меня била мелкая дрожь. И куда нас дураков занесло? Дома сын маленький. Разве мы имеем право пропасть в открытом море или разбиться о валуны? «Есть у кого-нибудь поблизости карта?» – спросил ты. Нашли карту и компас. Ты сел за руль, кто-то взялся за весла, и лодка поплыла в неизвестность. «Господи, наставь на путь истинный, помоги нам выбраться. Я больше никогда.» – мысленно молилась я, не зная, что пообещать. И вдруг резкий толчок. У меня упало сердце. Но, увидев просветлённые лица проводников, мгновенно поняла – остров. Вот когда до меня дошёл истинный смысл ликующего вопля мореплавателей, о которых я так любила читать в детстве: «ЗЕМЛЯ-Я-Я!..» «Земля, земля», – твердила я, ступая на скользкие мшистые камни. Сам остров, прогулки по нему, скит, путь обратно – всё сегодня покрыто туманом. Зато я с редкой ясностью помню туман, закрывший от нас Анзеры, бессрочное пребывание в лодке с заглохшим мотором, пугающую тишину, эсхатологическую беседу пьяненьких мужичков, свой ужас, надежду, молитву и наконец внезапный толчок и береговые камни, которые хотелось целовать и поливать счастливыми слезами.
Куда теперь? Пожалуй, в Закарпатье. Ведь именно там я испытала особенно острое чувство восторга от пребывания в новых, доселе неведомых краях, казавшихся нам почти заграницей: шикарный, хоть и не очень ухоженный Львов, напоминающий старого, обнищавшего, но всё ещё гордого аристократа; тесные средневековые, весьма живописные, игрушечные города Мукачево, Ужгород, Хуст; окружённая зелёными горами турбаза в Ясенях, где весёлый инструктор каждое утро будил постояльцев одной и той же песней: «Ой, Маричка, чичери, чичери, чичери, расчеши мя кучери, кучери, кучери.». Но главное – горы, которые, в отличие от суровых и сумрачных алтайских, ласкали взгляд зелёными склонами, ублажали слух звуками пастушьей длиннющей трубы марицы и перезвоном овечьих колокольчиков, угощали белым и нежным овечьим сыром, звали остаться, рухнуть в траву и всё забыть. Правда, не всегда они были столь уж гостеприимны. Однажды мы долго не могли выбраться из зарослей колючего, исколовшего нам ноги можжевельника, встречи с которым я, тем не менее, была очень рада, поскольку незадолго перед этим впервые прочла строки Заболоцкого:
Можжевеловый куст, можжевеловый куст,
Остывающий лепет изменчивых уст,
Лёгкий лепет, едва отдающий смолой,
Проколовший меня смертоносной иглой!
Цитируя эту строфу, я тотчас же вспомнила строки другого поэта:
Пой о том, как ты земную
Боль, и соль, и желчь пила,
Как входила в плоть живую
Смертоносная игла.
Почему – игла, да ещё смертоносная? Потому, наверное, что поэт жаждет остроты чувств, предельного, даже запредельного их проявления. А запредельное всегда за пределами жизни. Ведь недаром говорят: «умереть от счастья, умирать со смеху, устать смертельно». Не смертоносная игла страшит поэта, а её отсутствие. Нечувствительность, тупое безразличие — вот где таится погибель его. «Ты не холоден, не горяч; о, если бы ты был холоден или горяч! Но как ты тёпл, а не горяч и не холоден, то извергну тебя из уст Моих», – сказано в Библии.
Перемещаясь в пространстве, мы неизбежно перемещаемся во времени. И со временем теряем охоту перемещаться в пространстве, поскольку внешние перемены сулят новизну лишь до тех пор, пока её сулит странствие по внутренней территории, пока внутри тебя остаётся неисследованное пространство, некая целина, которую тебе ещё предстоит возделать. Едва ты теряешь это чувство, никакой ветер дальних странствий тебе не поможет и покажется, что
Всё туман. Бреду в тумане я
Скуки и непонимания.
(Г. Иванов)
Это уже не мещёрский туман и не соловецкий, обещающий просвет и ясность, а совсем другой – тяжкий и бессрочный. И ветер не столько поёт, сколько воет по всем тем, кого он же и унёс невесть куда. Скорее всего туда, где протекает Лета с вечно стелющимся над ней туманом.
«Мрачно, мрачно», – как говорил один мой знакомый. Неужели всё это писалось ради столь безутешного вывода? Да нет. (Замечательный ответ, который, наверное, возможен только в русском языке; во всяком случае, в английском существует либо «yes», либо «no».) Писалось это, во– первых, по причине, сформулированной Маяковским:
Я в долгу перед бродвейской лампионией,
Перед вами – багдадские небеса,
Перед Красной Армией, перед вишнями Японии,
Перед всем, про что не успел написать.
А во-вторых, потому что, пока пишу, внутри меня звучит «надежды маленький оркестрик», исполняющий некую еле слышную мелодию под условным названием «Ещё не вечер». Вот так топчешься-топчешься на давно опостылевшем пятачке, в который превратилось твоё внутреннее пространство, и вдруг. резкий толчок и ликующий крик (чей? мой, наверное, а то чей же?): «Земля!» И не просто земля, а «Supernova. Terra incognita». Господи, прости мне эту корысть и помоги, если можешь.
Человек играющий
Как ни сложен мир, в котором мы живём, всё же самое сложное поддерживать порядок на вверенной тебе территории – в собственной душе – и устранять конфликты, постоянно возникающие на незримой границе между внутренним пространством и внешним. Казалось бы, чего проще: мотайся туда-обратно сколько хочешь. Ан нет. На границе бдят. И этот бдящий – ты сам. То, перекрыв себе ходы внутрь, с маниакальной жадностью заглатываешь внешние впечатления. То, отрезав пути наружу, полностью погружаешься в себя. То легко впускаешь в душу нечто недоброкачественное, то разбазариваешь драгоценное. Ни покоя, ни строя, ни лада. Они, конечно же, были, но давно, в детстве, когда всё прозрачно, любые границы.
На внутренней территории идёт своя загадочная, невесть кем и чем управляемая жизнь. Здесь своя эпоха, свой отсчёт времени, редко совпадающий с тем, что снаружи. Здесь – тишина, а снаружи – грохот; здесь – расцвет, а там – распад. И наоборот: там – ренессанс, а здесь – глухое средневековье; на дворе – распутица, а внутри – заморозки; на дворе – сплошные кануны, а твои часы еле ходят. Ты полагал, что они будут идти бесконечно долго, а оказалось, это – одно из заблуждений, на которые так щедра жизнь. Иллюзия – замена счастью и основная жизненная веха. Продвигаясь от рубежа к рубежу, вернее от миража к миражу, приходишь… к миражу новому. Да и не к новому, а к старому, миллион раз возникавшему и исчезавшему прежде в других душах. Приходишь туда, где до тебя уже были, оставив многочисленные тому доказательства, которые и радуют (ура, не я один!), и огорчают (увы, не я один!). И всё же твоя внутренняя территория – тер– ра инкогнита, и ты на ней – Адам, которому Господь с удовольствием подыгрывает, даря свежие краски и яркие ощущения. «Первый снег, – заворожённо твердишь ты. – Первая ласточка. Первая любовь».
Ты полагал, что твоё внутреннее пространство – безгранично, и вдруг обнаруживаешь, что истоптал его вдоль и поперёк, исчерпал все источники, заглянул во все закрома. Нет там больше ничего и не предвидится. И даже товарообмен между двумя мирами – внешним и внутренним – невозможен: душа молчит, не принимает. Сколько ни колеси по белу свету, сколько ни открывай дверей с надписью «к себе», «от себя», твоя граница – на замке. Увы тебе. Ты протрезвел раньше, чем кончился пир, выбыл из игры прежде, чем она завершилась. Господь сотворил тебя человеком играющим, заронил в тебя Божью искру, способную любую банальность превратить в откровение, как обыкновенный куст в неопалимую купину. Подарил тебе вдохновение, а ты… Впрочем, Господь дал, Господь и взял. Кто знает, зачем и почему? Сколько ни строй предположений, все будут напоминать детский стишок, который звучит примерно так: «На свете жил слонёнок, а может, поросенок, а может, крокодильчик, а может, и не жил…»
Сил осталось – ноль,
всё ушло в песок,
И кочует боль
из виска в висок…
Всё ушло в песок
золотой, речной
Или стало в срок
лишь золой печной.
Но не всё ль равно
что куда ушло,
Коль не жжёт давно
то, что прежде жгло.
Путь закрыт назад,
и потерян ключ,
И горит закат,
я иду на луч,
И другого нет
у меня пути,
Кроме как на свет
до конца идти.
Глава VII
Что у нас время?
А наутро
«Через не могу, – говорила бабушка, – надо уметь действовать через не могу». Такова была жизненная установка, которой руководствовалась бабушка в воспитании детей. Когда мама, будучи ребёнком, отказывалась есть гороховый суп, жалуясь на сильные боли в животе, бабушка принялась кормить её одним гороховым супом. «Через не могу», – твердила она плачущей маме, которую вскоре с сильнейшим приступом аппендицита увезли в больницу. Аппендицит оказался гнойным. Маму чудом спасли, а бабушке объяснили, что при аппендиците горох противопоказан.
Но бабушкин метод воспитания не изменился. Не растить же в самом деле белоручек и неженок. «Не можешь – научим, не хочешь – заставим». Бабушка была страстным адептом этого армейского девиза. Если бы не моя легкомысленная мама, я, наверное, все десять лет оставалась бы круглой отличницей. А так мне это удалось лишь в пятом классе, в 1951-м, когда мама, выйдя замуж, уехала на год к отчиму в Лефортово, оставив меня на попечение бабушки. Вот когда бабушка наконец-то взялась за меня. Вот когда она смогла без помех проверить свою методу в действии. Несколько раз в неделю она поднимала меня в шесть утра и заставляла повторять устные уроки. Ей удалось добиться невозможного – того, что я, вечно плавающая в географии и биологии, могла безошибочно назвать и показать на карте все полезные ископаемые, металлургические центры, любую равнину и возвышенность, рассказать, что чем омывается и как в природе происходит опыление и зачатье. Бабушка приучила меня слушать «Пионерскую зорьку», складывать портфель с вечера, гулять только тогда, когда сделаны уроки. «Кончил дело, гуляй смело», – повторяла она и: «Делу время, потехе час». И никакой беготни с мамой по театрам и киношкам, никаких поздних гостей и прочей вредной для ребёнка ерунды. Жизнь потеряла прежние краски, но приобрела новые. У меня появился азарт. Я вдруг поняла, что могу быть не хуже других. И даже лучше. Из унылых троечниц я выбилась в хорошистки, а потом – о чудо! – в отличницы. Как описать, что я чувствовала, когда всю дорогу из школы домой несла на вытянутых руках первую и последнюю в своей жизни похвальную грамоту!
«Не знаю, как решать. Не понимаю», – говорила я, томясь над очередной задачкой. «Быть того не может!» – восклицала бабушка и, усевшись рядом со мной, принималась звонким голосом читать условие задачи. Это была самая драматичная часть моей тогдашней жизни, потому что, обладая кипучей энергией, бабушка не обладала и малой толикой терпенья. Когда моя тупость достигала апогея, а бабушкин голос – самых высоких нот, добрый мой дед с криком «утоплюсь!» выбегал из комнаты. Я тихо плакала, тупо глядя в учебник, и в слезах ложилась спать. А наутро. Нет. Об этом надо с красной строки.
Наутро я обнаруживала на столе возле дивана, на котором спала, раскрытую на первой странице чистую тетрадь с подробнейшим изложением решения задачи, в которую мне со страху не удавалось вникнуть накануне. Вначале шло условие, красивым и чётким почерком переписанное бабушкой из учебника, а потом поэтапно три разных варианта решения. Бабушки уже не было дома. А рядом с тетрадкой стояла закутанная в платок каша. Всё это напоминало сказку не то про царевну-лягушку, которая за ночь успевала наткать ковры, не то про каких-то добрых гномов, тайком помогавших сапожнику тачать сапоги.
Этот отнюдь непедагогичный бабушкин поступок, состоявший в том, что она решала за меня задачу, которую мне оставалось лишь переписать в свою тетрадь, был высшим достижением педагогики. Решённая задачка являлась чудесным знаком, доказательством того, что в жизни нет безвыходных ситуаций и всё разрешимо, как в сказке: ложись, мол, спать. Утро вечера мудренее.
«Утро вечера мудренее», – говорила бабушка, когда усталая возвращалась с работы. «Завалюсь-ка я на часок». Иногда она так и спала до утра, не раздеваясь, а когда я открывала глаза, её уже не было. Зато на спинке стула висел мой отглаженный белый фартук и к форме был пришит чистый кружевной воротничок. Значит, бабушка помнила про мой школьный сбор и всё успела приготовить.
Нет, это не породило во мне никаких, как тогда выражались, иждивенческих настроений. Зато поселило веру в то, что всё в конечном счёте будет хорошо. И сколько бы жизнь ни старалась это опровергнуть, детская вера оказывалась сильней.
Хоть и давно это было, я до сих пор слышу энергичное бабушкино: «Быть того не может!» И когда говорю себе: «Всё. Устала. Не могу больше», – в ответ слышу десятки лет назад отзвучавшее: «А ты через не могу».
Если мне когда-нибудь и приходит в голову светлая мысль, то случается это в самый ранний час утра на границе между сном и бодрствованием. Потому что утро – это чистая тетрадь с решённой задачкой, над которой я накануне лила горькие слёзы.
Рай под подушкой
В детстве у меня была открытка, которой я очень дорожила. Фу, какая скучная фраза. Разве можно с помощью такого правильного сложноподчинённого предложения хоть как-то объяснить? почему я постоянно держала эту открытку возле себя, а, ложась спать, прятала под подушку. Белые игривые козлики и светлокудрые ангелоподобные дети резвились на зелёном лугу. Дети, видимо, жили в пряничном домике, что стоял чуть поодаль, а козлики в сарае, который был ничуть не хуже детской обители. Как ко мне попала эта открытка и что на ней было написано, не помню. Помню только золотые нерусские (скорей всего, немецкие) буквы на безмятежно голубом небесном фоне. Видимо, я не очень стремилась выяснить, про что надпись, интуитивно чувствуя, что любая определённость помешает. Чему? Ну хотя бы моему общению с ангелочками, с которыми я иногда бегала босиком по неправдоподобно мягкой, ярко зелёной траве. Мне даже временами удавалось погладить козлят, но никак не удавалось войти в пряничный домик. Сколько раз пыталась я, взявшись за фигурную ручку, толкнуть дверь и ступить внутрь, но дверь не поддавалась. Часто слыша от мамы выражение «предел мечтаний», я понимала его вполне конкретно: красочный весёлый уютный открыточный мир – вот предел мечтаний. Наверное, если бы меня тогда спросили, что такое рай, я бы показала эту открытку. Хотя нет. Открытка была моей тайной. Я прятала её, едва кто-нибудь оказывался рядом.
Всё-таки до чего приятно, когда такое абстрактное понятие, как рай, имеет вполне определённый адрес: четырёхэтажный дом в Замоскворечье, квартира на первом этаже, комната, что напротив входной двери, где на чёрном клеёнчатом диване спит девочка лет семи. Если осторожно просунуть руку под её подушку, можно извлечь оттуда немного помятую открытку. Взгляните – это рай. Что-о-о-о? Этот пошлый сусальный мещанский мирок – рай? Пухлые дети, размалёванный лужок, кондитерский домик – рай? Как, однако, хорошо, что у меня хватило ума никого не посвящать в свою тайну. Благодаря этому мне удалось хоть немного пожить в раю. Плохая отметка, обида, ссора – всё не страшно, когда знаешь, где укрыться. Если достать из укромного места открытку и долго на неё смотреть, то постепенно исчезнут доносящиеся с кухни крики соседей, тошнотворный запах жареного сала, громкое хлопанье дверей, шарканье и кашель туберкулёзного Ионова, плачущий голос его жены, нечленораздельные выкрики их взрослой полупарализованной дочери. Останется только пёстрый луг, лучезарное небо, козлики и дети. Господи, благослови детей и зверей. Не всегда Тебе удаётся устроить им такую райскую жизнь. Спасибо, что Ты подбросил мне эту открытку, подарив хоть на время ясное представление об идеальном мире. Вся последующая жизнь – это лишь томление по нему. Даже само слово рай намекает на его недостижимость и непостижимость. Во всяком случае, при жизни. Недаром рай живёт в слове край. Рай – за краем, за пределами сущего. Умирай и обретёшь мир и рай. Да и то вряд ли. Измени форму на «умри» – и вот уже ни мира, ни рая, ни малейшего намёка на них. Доверься слову: в нём ключ и разгадка.
Что же касается открытки, то она пропала. И, наверное, вовремя. То есть тогда, когда я ещё не успела взглянуть на неё другими глазами. Бог дал, Бог и взял, отнял у меня мой открыточный рай, оставив мне Слово. Вернее, оставив меня наедине со Словом, с которым я так всю жизнь и вожусь, пытаясь с его помощью достичь того, что мне легко и просто давалось в детстве. Умри, умирай, край, рай… Господи, неужели Слово – это и есть Ты?
Однако разговор становится чересчур глубокомысленным. Не пора ли закруглиться, выразив робкую надежду, что, если, дожив до глубокой старости, я забуду все слова и впаду в детство, Ты снова подбросишь мне мою открытку. Я буду гладить её дрожащей рукой, вглядываться в неё подслеповатыми слезящимися глазами, а однажды возьмусь за фигурную ручку, толкну цукатную дверь и исчезну в пряничном домике. Для такого конца прекрасно бы подошла надпись, которую, говорят, видели когда-то на одном из надгробий: «Всё хорошо, что хорошо кончается».
Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?

































