Текст книги "Рыба, кровь, кости"
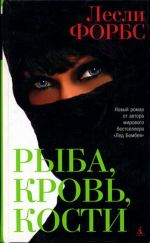
Автор книги: Лесли Форбс
Жанр: Современная проза
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 1 (всего у книги 31 страниц) [доступный отрывок для чтения: 8 страниц]
Лесли Форбс
Рыба, кровь, кости
Бог создал рай
И искупил грехи человека.
И каждому человеку даровал Он
Возможность трудом поддерживать
Свое бренное существование.
Одни созданы причинять вред,
Иные же – добрые христиане.
Другие, с картой в руке,
Игрой зарабатывают себе на жизнь.
И я могу быть благодарен,
Что сотворяю святых.
Флоренсио Кáбан Эрнандес,
♦♦♦
Гэвину Джонсу, Салли Камерон и садовникам с Девонс-роуд, в Боу, в чьем чудесном общественном саду дала росток эта книга, а также участникам программы «Проект наука и искусство-1997» фонда «Вешкам траст», в частности Хизер Экройд, Дэну Харви и Хауэрду Томасу, чье недолговечное «зеленое» искусство и науку я пересадила в почву своего произведения.
ОТ АВТОРА
Я выражаю глубокую признательность своему редактору Ребекке Уилсон; Терри Трикетту и Лоуренсу Смейджи, придумавшим фантастически перспективную программу «Проект наука и искусство» в фонде «Веллкам траст», благодаря которой я познакомилась со многими идеями, воплощенными в этой книге; Роузи Эткинс – за то, что первым делом отправила меня в общественный сад Камерон; Одри Эллисон, чья неопубликованная работа о поисках новых полезных растений оказалась огромным подспорьем; Лену Фишеру, Гарольду Макджи и Тони Блейку – за их замечания по поводу рака, хлорофилла и химии ароматов, высказанные на конференции по молекулярной гастрономии в Эриче; а также Эндрю Томасу – слушателю и первооткрывателю.
Это вымышленная история, основанная на фактах. Насколько мне известно, зеленый мак, подобный тому, что описан в книге, в природе не встречается, хотя его целебные и наркотические свойства не так уж невероятны. В XIX веке был знаменитый «двухголовый бенгальский мальчик»; его череп ныне хранится в Хантеровском музее Королевского медицинского колледжа в Лондоне. Эта история не о нем. Все, что касается Джека Потрошителя, впрочем, имеет достоверные источники, а индийский пандит Кинтуп существовал на самом деле: многие из его походов, куда более удивительных, чем те, о которых здесь повествуется, легли в основу путешествий Аруна и его отца. Кроме того, я посвоевольничала в эпизоде с открытием водопада на реке Цангпо. Детали заимствованы из подлинных рассказов того времени и сочетают результаты настоящих экспедиций, описанных в книге Дерека Уоллера «Пандиты», в захватывающей «Загадке ущелья реки Цангпо» Фрэнка Кингдона-Варда и в отчетах команды Национального географического общества, которая исследовала ущелье в 1998 году и обнаружила некий «Затерянный водопад» (хотя и не мой).
Огромным источником вдохновения послужил классический труд Оливера Рэкхема «История сельской местности» (1997), а также «Флора Британии» Ричарда Мейби, «Опиум: история» Мартина Бута (1997), «Смятение в крови: жизнь, смерть и иммунная система» Стивена С. Холла (1998), «Расщепленное "я"» Р. Д.Лейнга (1959), «Мертвые не молчат» Уильяма Р. Мейплза и Майкла Браунинга (1996), «Похититель орхидей» Сьюзан Орлин (1999), дневники Марианны Норт, «Живые и мертвые: художники и анатомия» Динны Петербридж, «Составляя карту империи» Мэтью Эдни, «Калькутта» Джеффри Мурхауза, «Воспоминания бенгальского подданного» Джона Бимса, «Охотники за растениями» Чарльза Лайта, «Язык генов» Стива Джонса и очерки Оливера Сакса.
I. Кости
(Сад Джека)
1
В этот вечерний час заходящее солнце, кажется, восходит вновь, пронизывая каждый цвет прощальных потоком своих лучей. Я лежу на траве, вытянув руки, словно человек, приготовившийся к прыжку в воду, – или как каменный ангел, упавший с надгробия. Башни высотных домов смутно маячат над садом, похожим на кладбище, – гигантские могильные камни всех оттенков серого. Но с земли мне видна лишь мозаика зеленых листьев и кобальтово-синее небо. Их краски так напоены последним благословением света, что невозможно различить, которая из них близко, которая – далеко. А потом древесная листва устремляется на меня. Я падаю сквозь нее, погружаюсь внутрь и в то же время прижимаюсь к земле, придавленная ее весом. Схоронена, погребена под Листьями, которым нет числа, я закручиваю мертвую петлю, несусь по двойной спирали, будто на ярмарочной карусели, после которой всегда мутит. Можно назвать это Большим Витком – длинным, изгибающимся мостом или туннелем, связывающим воедино две истории, разделенные сотней лет.
Это началось в саду, в саду и закончится: Джек мертв. Я убила его.
Мысленно возвращаясь к вечеру перед убийством Салли, я вспоминаю, как пыталась слушать деревья. Это была одна из самых безумных ее идей: нужно только хорошенько сосредоточиться, и тогда в шепоте деревьев станут различимы слова. Еще одна идея касалась удобрения, изобретенного Рудольфом Штайнером.[2]2
Штайнер Рудольф (1861–1925) – немецкий философ-мистик, основатель антропософии.
[Закрыть]
– Он говорил… Погоди… Не смейся! Он сказал, что этот компост «способен соединить землю с ее отторгнутой душой». – Она ухмыльнулась, зная, что мистическая фраза весьма забавно сочетается с ее гудронным акцентом. – Клево, да?
– Единственный Рудольф Штайнер, о котором я слышала, – философ, создавший что-то вроде альтернативной системы образования. Он?
– Понятия не имею. Но этого парня заботило, что планета больна «и душой, и почвой», – смотри, я даже в садовую книгу выписала. Ее можно вылечить, если сделать удобрение из оленьего мочевого пузыря, начиненного цветами тысячелистника, свиных кишок, набитых одуванчиками, козьего черепа, наполненного корой дуба, охапки крапивы, обернутой мхом, и куска коровьего кишечника, нашпигованного ромашкой.
Ее язык всегда изобиловал словечками сочными, как силос, но этот средневековый рецепт заставил меня расхохотаться.
– А потом что, Сэл, добавить глаз тритона и прокипятить при полной луне? Дороговато выйдет – тритоны ведь нынче недешевы! Кажется, они относятся к исчезающим видам?
Когда я принялась смеяться над кровожадной почвой Салли, ярой защитницы природы и вегетарианки, она рассказала мне, что раньше у каждого лондонского мясника был свой сад, где он закапывал вонючие потроха, дабы те не оскорбляли нюх горожан, и, если эти потроха смешать с известью, получится хорошее удобрение.
– Земля полна крови и костей, – сказала она. – Ты про; сто не видишь их сейчас. Они все одного цвета.
– Будете ли вы настаивать на сохранении анонимности, если вас вызовут в качестве свидетеля? – спросил детектив, бравший у меня показания на следующее утро после убийства Салли.
Этот большой человек неловко присел на самый краешек моего дивана, словно боялся, что собачья шерсть попадет на его модные джинсы.
– Что, если так?
– Тогда Королевская прокурорская служба может отклонить ваши показания.
– В таком случае нет, не буду.
Хотя если кто и мог претендовать на анонимность как на право по рождению, так это я. Неизвестный – вот имя, которым подписано бесконечное множество стихов, картин, рождественских гимнов – и преступлений. Неизвестный, неведомый, безымянный…
– Вы уверены? – не унималась его напарница. – Вам придется публично выступить в суде… – И после некоторой паузы она произнесла то, что ни один из допросивших меня сыщиков не решился облечь в слова: – Нет никакой гарантии, что люди, которые это сделали, не выпутаются. И тогда они будут знать ваше имя. Ваш адрес у них уже есть.
– Уверена.
Мне странна сама мысль, что моя личность – я, Клер Флитвуд, – может быть важна и даже опасна. Я совершенно обычная женщина. Не храбрая. И совсем не уверенная в том, что хочу встретить этих людей в суде лицом к лицу. Но публичные показания, похоже, единственный способ вновь стать хозяйкой собственной жизни. Иначе те, кто оставил Салли умирать на улице, победят. И оценка, данная мне той ночью: «ничтожество, девчонка, угрозы не представляет», окажется верной. И меня спишут в огромную кучу компоста, где покоятся Незначительные Люди. Неизвестные.
С самого убийства мои мысли бегут по замкнутому кругу, в котором меня постоянно отбрасывает к тому моменту, когда я подошла к стене и увидела… Что? Я рассказывала это стольким людям… Их лица старались выразить сочувствие, уместную скорбь, все, что, по общему мнению, следует выражать при встрече с насильственной смертью. Для официальных свидетельских показаний вначале требовалось дать общий краткий отчет, а затем разъяснить пункт за пунктом. Все подробности:
могло ли случиться так, что я помешала ограблению пыталась ли она защитить себя
как долго они медлили после того, как я позвала на помощь
форма кровавого пятна, расплывавшегося под ее телом
Потом полицейские зачитывали мне мои собственные слова, и я должна была ставить подпись под каждым исправлением. История повторялась столько раз, что сам рассказ превратился в происшествие. Может быть, полиция потому и заставляет вас рассказывать снова и снова – чтобы зафиксировать все происшедшее, как я закрепляю свои судебные фотографии реактивами. Иначе они потемнеют и станут менее ясными.
«Как это случилось?» – спрашивают они все.
«Могла ли я остановить их?» – спрашиваю я себя.
– Было темно – половина одиннадцатого, теплый апрельский вечер.
– Двадцатое число, да? – спросил детектив, записывавший мои показания.
– Да. Я фотографировала Helleborus orientalis.
– Геллеб?… – Полицейский запнулся на незнакомом названии, как будто так могли звать подозреваемого.
– Цветок, – объяснила я. – С Востока.
С сумрачными, мясистыми соцветиями цвета неспелой сливы или синяка.
О чем я думала? Скорее всего, просто получала чистое чувственное удовольствие от теплого ночного воздуха, ласкавшего кожу, словно шелковый шарф, аромата жизни, исходившего от влажной земли, рыбного запаха моих пальцев; я ощутила его, поднеся руки к лицу, – остатки удобрения «Рыба, кровь, кости», которым я опрыскала сад, мой сад. Это чувство – чувство привязанности к месту – мне в новинку. Впервые за двадцать восемь лет своей жизни я пустила корни, и что заставило меня понять это? Именно работа на земле, физическое действие, когда буквально ощущаешь грязь под ногтями. Мое новое увлечение отражают несколько недавних фотографий, сделанных дома, – перерыв в повседневной работе судебным фотографом.
Далее одна часть моего сознания, словно камера, скользит назад и пытается проскочить пару футов, минуя более уродливые кадры. Другая же часть приближается, берет крупный план и наводит фокус. Эту часть занимает совсем иное: она напоминает тех зевак, что сбавляют скорость при виде аварий.
Я снова чувствую, как ее рука холодеет в моей. А кожа становится восковой, как цветы Helleborus'а.
Весенняя ночь. Обдавая теплом мою кожу, эта ночь пахла ракитником и влажными листьями папоротника. Совсем как мой брат Робин, вернувшийся домой с трехдневной рыбалки. Совсем как Салли и мистер Банерджи, когда они вошли в дом после работы в саду и принесли с собой запах стираного белья, вывешенного наружу сушиться. Все это не вошло в мои показания. С точки зрения аккуратных каталогизаторов из департамента уголовного розыска, это не относится к делу. Ни к чему знать, как пахла Салли при жизни. А последний запах, исходивший от нее, был липок и сладок. Кровь и моча.
Следователь поднял глаза от своих записей:
– Где вы находились, когда услышали крики о помощи?
– Я была в саду, фотографировала. Фотоаппарат я сняла со штатива, чтобы крупные планы лучше получились, обмотала его вокруг шеи для надежности. От приютов меня отделяет стена сада, футов семь высотой.
А дальше полоска земли, усеянная сорняками, цветами, разбитыми бутылками, использованными презервативами и шприцами, – она проходит между улицей и стеной. То, что Салли называет – называла, – Линией Фронта. Я прокашлялась, как будто так могла очиститься от воспоминаний и непролитых слез.
– Постепенно я поняла, что кто-то плачет, зовет на помощь уже несколько минут.
– Вам, кажется, понадобилось много времени, чтобы это заметить.
Я уставилась на полицейского: почему он так сказал?
– Вы ходили по этой улице? Моя подруга – Салли – называла ее Линией Фронта, и неспроста. Этот участок должен быть продолжением центрального сада за моим домом. На самом деле это вовсе не сад, а настоящее поле битвы, где мы ведем войну с хулиганами, проститутками, наркоманами и людьми, которые считают, что дерьмо их собак пахнет лучше, чем мои цветы.
Лично я готова была сдаться в первый же раз, когда они оборвали висячие лозы и потоптали грядки с рассадой. Но Салли не дала саду погибнуть. Нашла синевато-стальной чертополох с жесткими стеблями, сломать которые было далеко не просто, и розу под названием Blanc double de Coubert, таким же паутинчатым, как и обещанные Салли цветы с гвоздичным запахом, а ветви ее были защищены частоколом шипов. В прошлом году она ездила на велосипеде к церковному кладбищу и взяла семена росшего там старого крепкого розового алтея, так что летом целая фаланга этих растений должна была сражаться у нас плечом к плечу против полчищ мародеров. Как семена, Салли хранила в своей памяти все садовые изречения, когда-либо слышанные ею:
– Мистер Банерджи говорит, что садоводство есть искусство, наиболее близкое к деторождению. Но не стоит ставить это в заслугу весне, ибо каждый сад начинается с маленькой смерти. Мистер Банерджи верит в цикл перевоплощений. Я, наверно, тоже.
Разумеется, не об этом хотел знать полицейский.
– Салли – это Салли Риверс, убитая? – спросил он.
– Да. – (Каждый сад начинается с маленькой смерти.) – Я думала, это очередной автомобильный вор. Не знаю, когда я узнала ее голос, может быть, когда начала лаять моя собака.
Тогда я побежала, прижимая к груди прыгающий фотоаппарат. Добралась до ворот и услышала звук падения, потом глухой стук и тут поняла, что не захватила с собой ключи. Тогда мы только начали запирать ворота. Я услышала голос Салли и бросилась бежать вдоль стены к шпалерам, стала взбираться на них, на эти дурацкие мещанские шпалеры, которые Салли упросила меня купить в дурацком магазине «Все для сада», по-прежнему прижимая к себе фотоаппарат. (Почему я не бросила его? Может, тогда я бежала бы быстрее, может, урони я его, все сложилось бы иначе?) Я подтянулась и увидела их: три фигуры, одна падает, ее удерживают, вот она упала, вытянула руку, чтобы защитить лицо, один мужчина держит ее, а второй бьет. Он использовал что-то вроде биты, не нож. «Может быть, дубинка?» – вмешался полицейский, и я кивнула. Я забыла, что говорю вслух. Дубинка, точно. В слове слышен тупой удар.
– Я закричала. Тот, что был крупнее, посмотрел на меня. На мгновение он остановился. Наши взгляды встретились. А потом он снова начал бить. – (Никакой злобы в глазах. Просто выполнял свою работу. То, чем кормится.) – Я сползла вниз по стене… а потом – не помню. Они пробежали мимо меня под уличным фонарем – их было двое, довольно высокие…
– А у вас какой рост? Пять футов и два дюйма?
– Пять футов и один. Хорошо одеты, крепкие. В дорогих кроссовках. – (Рядом с такими мужчинами можно спокойно стоять в баре. Таких создали, чтобы защищать нас, слабый иол.) – Потом я, кажется, услышала сирены. Кто-то вызвал полицию и «скорую помощь». Я держала ее за руку, говорила, что все будет в порядке.
Дыши, Салли, не останавливайся. Сюда уже идут, Салли, с тобой все будет хорошо. А в это время огромный лепесток крови расплывается вокруг нее, словно тень. Ее глаза закатываются. Она судорожно глотает воздух. Рука отпускает мою, остывает, а кровь становится липкой. И «скорая помощь» все не едет, хотя я уже вижу полицию, я ору на них, кричу, где «скорая», а они натягивают латексные перчатки. Я помню эти перчатки, как долго они их надевают, какие они тонкие и прозрачные.
– «Скорая» приехала. Через двадцать пять минут, если не ошибаюсь.
К этому времени я уже не могла сказать, я ли держала Салли за руку или она меня. Мы обе были липкими от крови, стекавшей из-под рукава ее пластиковой накидки, – этой рукой она пыталась защитить лицо.
Все это время мой пес Рассел лаял не переставая. Я слышала, как он скребется в ворота сада, бросается на них всем весом своего маленького тельца. Ведь Салли была и его другом тоже. Она оставляла ему косточки и хлебные корочки.
Ее увезли. Я взяла с самого любезного полицейского обещание сказать мне, что с Салли. Но он этого не сделал. Я ведь была всего лишь другом, а не членом семьи. А он был занят другими делами. Я так и не узнала, что произошло, вплоть до шести часов утра, когда вышла из дому и увидела, что через улицу натянута желтая лента. К тому времени это было уже убийство.
Она умерла рано утром двадцать первого апреля, спустя несколько часов после того, как ее доставили в неотложку. Маленькая девочка. Восемнадцати лет от роду, примерно моего роста, тщедушная: этот цветок совсем не баловали еженедельными подкармливаниями и удобрениями. Салли получила множественные ножевые ранения в бок, рука, в том месте, куда попали удары дубинки, метившей в лицо, была сломана, также было сломано несколько ребер. Еще ей проломили череп, а ладонь левой руки, той, что не пыталась защитить лицо, была пронзена насквозь. Сказали, что она держалась за розу. Как жаль, что Салли умерла прежде, чем та расцвела. Моя подруга обещала, что цветы будут пахнуть гвоздикой.
– Я должна была остановить их, – сказала я следователю. Он покачал головой:
– Ее ударили ножом раньше, чем она добралась до ворот. Мы обнаружили следы крови, начинающиеся за углом и размазанные по машинам, на которые она натыкалась. Ножевых ранений уже хватило бы, чтобы ее убить, не говоря уже о тех ударах, которыми ее прикончили.
– Я должна была поехать с ней.
– Да нет, вообще удивительно, что она прожила так долго.
Меня это совсем не удивляло. Салли была тоненькой, но крепкой, как сорные травы.
Когда судмедэксперты закончили в тот день свою работу, место преступления окатили водой из шланга. Кровь едва ли служила хорошей рекламой нашему району: улицу, по утверждению муниципалитета, привели в порядок, хотя это вранье. Полицейская уборка тоже никуда не годилась. Осталось бледно-красное пятно, как опавший лепесток, нарисованный акварелью. Рядом валялась скомканная латексная перчатка, забытая полицейскими, – большой палец торчал из-под пустой пачки сигарет, так что сперва я приняла его за использованный презерватив. У нас их здесь множество разбросано по кустам. До сих пор не выходит из головы этот коллаж – пятно крови и латекс. Семнадцать ударов ножом рядом с иной формой проникновения.
Когда следователь спросил, может ли нападение на Салли оказаться ограблением, вышедшим из-под контроля, я тут же поняла, куда он клонит. Они полагали, что этих мужчин могли «привести к насилию», будто насилие – это место, куда быстрее добираться на машине. Но я-то знала, как преподнести умышленное убийство правильными словами, с которыми можно выступить в суде. По правде сказать, я не во всем уверена. Они услышали мой крик, заколебались, а потом продолжили бить девушку? Не важно. Сейчас я не хочу правосудия или покаяния в грехах, я хочу мести. Мне нужен человек, которого можно обвинить в том, что с нами случилось.
– Судя по вашему рассказу, на случайное убийство это не похоже, – сказала женщина-следователь перед уходом, пытаясь утешить меня.
Случайность – вот чего мы хотим избежать любой ценой. Случайное убийство может произойти с каждым.
2
В ночь убийства Салли один из копов взломал для меня ворота; он воспользовался каким-то приспособлением и открыл замок легким движением руки. Рассел тут же бросился к моим ногам и принялся гоняться за своим несуществующим хвостом, свирепо рыча и исподтишка наблюдая, смеемся ли мы.
– Это его обычный номер, – сказала я.
– Замечательные собаки, джек-рассел-терьеры. Ну, вы уверены, что с вами все будет в порядке? Я знаю, вы привыкли видеть трупы, но друг – совсем другое дело.
– Я справлюсь.
Полицейский, не обращая больше внимания на шаманский танец пса, смотрел на сад, протянувшийся вдаль, как обещание.
– Все это ваше? – спросил он, и в его голосе прозвучала нотка завистливого восхищения.
В лунном свете и дом, и сад наполнились неким магическим обаянием, скрывшим гнилую труху, сырость на стенах и признаки упадка.
– Не то чтобы мое, – ответила я. – Доверительная собственность.
Мой верный дом.
– Все равно неплохо, – отозвался он, окинув взглядом гигантский тис и старую скамейку под перголой, а затем меня: соответствует ли моя маленькая фигурка этому величию. – Ладно, кто-нибудь из уголовного розыска придет завтра и снимет у вас показания.
Помощи он больше не предложил. Женщина моего возраста, живущая в таком месте, уже получила все, чего заслуживала.
Я заперла ворота и отнесла в дом фотографическое оборудование. Теперь мое тело словно налилось свинцом, я едва нашла в себе силы снять одежду, прежде чем забраться в спальный мешок на полосатом шелковом диване. Рассел проворно запрыгнул ко мне, повернулся кругом ровно три раза и свернулся в похожий на пятнистую камберлендскую колбаску аккуратный клубочек, крепко прижав нос к яичкам, чтобы защитить их от нападений невидимых, но всегда ожидаемых врагов. Я взяла его из собачьего приюта в Баттерси в 1984 году. Это был мой первый год в Лондоне, вскоре после смерти брата. Все остальные брошенные собаки жалобно скулили и тыкались влажными тоскливыми носами в решетку, отчаянно желая очаровать, а Рассел просто сел на лапы, и взгляд его умных темных глаз говорил: «Мы одинаковы: маленькие, смуглые и жилистые. Я могу жить где угодно, есть что угодно – или вообще ничего. Мы созданы друг для друга». Я ничего не знала о собаках, и когда заведующий приютом пробормотал «джек-рассел», я решила, что так и зовут моего нового питомца. Имя Джек вызывало у меня дурные ассоциации, поэтому я позвала его просто «Рассел», и он проворно засеменил ко мне, словно все время знал, что у нас с ним назначена важная встреча. Он всегда производил впечатление маленького пса с большими амбициями.
В последнее время я ловлю себя на том, что использую убийство Салли как точку отсчета – ночь накануне, две недели спустя… Помнится, на следующее утро после смерти Салли я снова разбила лагерь в большой гостиной, и вся моя готовка свелась к тосту, слегка намазанному пастой «Мармит»[3]3
«Мармит» – дрожжевая паста, побочный продукт пивоварения.
[Закрыть]из старинной бабушкиной банки; подозреваю, она датировалась юрским периодом: «Мармит», по моему убеждению, относится к тем субстанциям, что не имеют срока годности и скорее сродни лишайникам, чем еде. Именно такую цыганскую жизнь всегда вела моя семья. Флитвуды никогда не пускали корни. Мы не растили садов и не возделывали полей. Ни одну спортивную команду мы не могли назвать своей, «домашней». Когда я была ребенком, мы постоянно находились в движении, всегда куда-то направлялись – куда-то в другое место. Возможно, это объясняет, почему своим первым дешевеньким фотоаппаратом я снимала неподвижные или медленно растущие предметы: скалы, деревья, растения, неспособные оторваться от своих корней, а также насекомых, аккуратно сделанных моим младшим братом Робином из нити и проволоки, чтобы удить на муху. Мы оба любили точность и аккуратность (правда, в случае Робина это не касалось секса).
Наш папа-англичанин, напротив, этими качествами не отличался и ни к чему не был привязан. Актер на полставки, таскавший нас с мамой в трейлере по всей Америке в ожидании своего звездного часа, он заявлял, что не имеет родословной.
– Я сирота, – говорил он нам, – и мы со Штатами, страной без истории, замечательно подходим друг другу.
Он рассуждал о Северной Америке так, будто она началась с автомобилей «форд» или, самое раннее, с Декларации независимости, подразумевая, что сицилийцы, английские квакеры, русские евреи – все, кто появлялся на континенте раньше и приезжает поныне, – отказались от своей личной истории, оставили ее позади, в порту Старого Света, как лишний багаж. Если верить отцу, историю нельзя перевезти – в ней заключена всякая тяжелая средневековая ерунда: фамильные доспехи, родовые замки, тысяча лет классовой борьбы. Истребление коренных жителей Америки даже и в сравнение не идет. Словно по иронии, история должна была начаться и кончиться по другую сторону Атлантики. Когда я наконец приехала в Англию, на Эту Сторону, то обнаружила, что большинство европейцев разделяют взгляд моего отца на историю как нечто незыблемое. Мне только недавно пришло в голову, что он, возможно, специально избрал для себя такую точку зрения или же опасался чего-то, запрятанного далеко в семейных корнях.
В 1958 году он бросил лондонскую школу актерского мастерства и последовал за моей матерью-американкой в Штаты; оба они были среди первых последователей Джека Керуака, этого Билли Грэма[4]4
Грэм Билли (р. 1918) – известный американский проповедник-евангелист.
[Закрыть] с большой дороги. Думаю, отец всегда мечтал сделать меня такой же дикой и прекрасной, какими были женщины Керуака. Увидев однажды альбом с моими фотографиями (я называла их «стоп-кадры»), он спросил, знаю ли я, что означает по-французски «натюрморт». «Nature morte – мертвая природа, Клер. Не композиция, а декомпозиция, распад». Memento mori: напоминание о смерти, вот как назвал он мою работу в тот день, когда препарировал мой натюрморт, мою безжизненность.
Он так и не простил мне того, что я уродилась дурнушкой, а не великолепной Клер. Мое лицо вы не заметите в толпе: светло-каштановые волосы, длинный нос; слегка похожа на гувернантку, с ясными карими глазами и смуглой кожей. Этакая Жанна д'Арк, метр с кепкой ростом, которой еще не придали романтичности ангельские голоса. Совсем другого хотели мои обкуренные родители-битники, когда зачинали меня одной лунной ночью 1959 года в мотеле неподалеку от Сан-Франциско. Вот Робин,[5]5
От англ. robin – малиновка.
[Закрыть] родившийся всего на десять месяцев позже, он-то соответствовал своему имени. Яркий во всех отношениях ребенок, обаятельный несостоявшийся актер, как и отец; не пропускал ни одних брюк и умер от СПИДа в 1984 году – несчастный рыболов, брошенный на произвол жестокой судьбы.
Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?






































