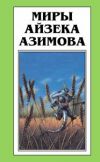Текст книги "Potestas clavium (Власть ключей)"
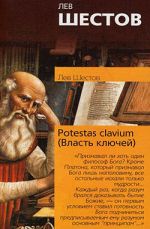
Автор книги: Лев Шестов
Жанр: Философия, Наука и Образование
Возрастные ограничения: +12
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 1 (всего у книги 24 страниц)
Лев Шестов
Potestas Clavium
(Власть ключей)
Тысяча и одна ночь
(Вместо предисловия)
Добро не есть Бог. Нужно искать того, что выше добра. Нужно искать Бога.
А. Шестов (Философия и проповедь)
I
Признавал ли хоть один философ Бога? Кроме Платона, который признавал Бога лишь наполовину, все остальные искали только мудрости. И это так странно! Расцвет эллинской философии совпадает с эпохой упадка Афин. Казалось бы, что упадочное состояние научает человека спрашивать, т. е. направляет его мысль к Богу. Конечно, из того, что человек погибает, или даже из того, что гибнут государства, народы, даже высокие идеалы, – никак не «следует», что есть всеблагое, всемогущее, всеведущее Существо, к которому можно обратиться с мольбой и надеждой. Но если бы следовало, то и в вере не было бы никакой надобности; можно было бы ограничиться одной наукой, в ведение которой входят все «следует» и «следовало».
«Логика» религиозного человека, однако, совсем иная, чем логика ученого. Псалмопевец говорит: de profundis ad te, Domine, clamavi.[2]2
Из глубины я воззвал к Тебе, Господи (лат.).
[Закрыть] Какая связь между de profundis и Dominus? Если предложить такой вопрос ученому, он не «поймет» его, скажет, что тут нет и не может быть какой бы то ни было связи, как нет связи между воем ночного ветра в трубе и движением моего пера по бумаге. В лучшем случае сошлется на классические рассуждения Аристотеля о необходимом и случайном. «Причины, по которым возникает случайное, неопределенны; поэтому случайное скрыто от человеческого разума и определяет собой (явления) не по существу, а как нечто сопровождающее. Случай называется удачей или неудачей смотря по тому, приносит ли он с собой хорошее или дурное: если хорошее или дурное, принесенное случаем, значительно, говорят о счастье или несчастье. Но т. к. ничто случайное не бывает раньше того, что само по себе, то то же нужно сказать и о причинах. И если случай и слепая сила причина неба, то раньше еще причиной были разум и природа» (Мет. XI, 8 конец). Связь между de profundis и Dominus безусловно случайна: разум, который знает основные причины, устанавливает это без всякого колебания. И природа, конечно, заодно с разумом. Для нее и Dominus, и сlаmare, и de profundis – три понятия, внутренно между собой ничем не связанные. В пояснение слов Аристотеля могу привести Гегеля, который, по-видимому, в большей степени, чем сам Аристотель, проникся духом философии Стагирита. «Движение Солнечной системы происходит по неизменным законам: и законы эти суть ее разум». Чего еще? Совсем по Аристотелю! В конце концов последнее начало – «разум» и «природа» – оказываются не чем другим, как законами движения. Спиноза с его геометрическим методом был еще смелее и выдержаннее, чем Гегель с Аристотелем. Он не побоялся прямо заявить: «de natura rationis non est res, ut contingentes, sed ut necessarias contemplari»[3]3
Природе разума свойственно рассматривать вещи не как случайные, но как необходимые (лат.).
[Закрыть] и этим самым превратить все случайное в необходимое. В нашем примере и de profundis, и clamare, и Dominus должны, по Спинозе, превратиться из случайного в необходимое, т. е. потерять все оттенки добра и зла (άγαθὴ καὶ κακὴ τύχη), которые Аристотель еще нашел возможным сохранить. И еще в меньшей мере может быть для него философской проблемой счастье и несчастье (εὐτυχία καὶ διστυχία). Я, конечно, не хочу отстаивать здесь эвдаймонистические или хотя бы утилитарные теории – хотя должен признаться, что сравнительно с механистическим мировоззрением даже вульгарный гедонизм представляется проникновенным. Притом ведь εὐτυχία и διστυχία у самого Аристотеля понимается не в смысле обыкновенной удачи или неудачи. У него идет речь о том, что случай (τύχη καὶ αὐτόματον) был причиной появления мира. Такая «удача», как возникновение мира, относится на счет случая!..
А ведь это правильно: с точки зрения разума, возникновение мира есть дело чистого случая. Иначе говоря, разум принужден допустить, что мир мог возникнуть и мог не возникнуть. Если хотите всю правду знать, то разум, собственно, совсем не допускает возможности ни возникновения, ни существования мира – так что мир возник и существует вопреки разуму и всяким возможностям. И когда Аристотель утверждает, что случайное скрыто от человеческого разума, – он выражается неточно, вернее не все рассказывает. Мало того, что случайное скрыто от человеческого разума, – случайное для разума совершенно не существует и, само собою разумеется, уже никак не может быть предметом научного знания. «Случайное есть то, что, правда, бывает, но не по необходимости, не всегда и не по большей части; этим мы сказали, что такое случайное, и отсюда ясно, отчего о нем не бывает науки; ибо всякая наука имеет своим предметом то, что бывает всегда или по большей части; случайное же не относится ни к первому, ни ко второму» (ib. XI, 1065а). Действительно, случайное не бывает ни всегда, ни по большей части. Оно буйно и, как иные думают, незаконно врывается в устроенное и организованное единство. Но вправе ли наука, раз она ставит себе задачей, как это было у древних, отыскать πρω̃ται ἀρχαί – основные начала, добиться ῤιζώματα πάντων, корней всего, – исключать случайное из предметов своего исследования? Оно не бывает всегда, оно бывает редко, но разве это значит, что оно менее важно и существенно? Аристотель, правда, не колеблясь утверждает, что нужно отдать предпочтение тому, что происходит всегда и часто, пред тем, что происходит редко и иногда. Но ведь это совершенно произвольное, ровно ни на чем не основанное утверждение, которое как аргумент не имеет никакого значения. Если Аристотель ничего другого не мог придумать в защиту своих взглядов, значит, ему и в самом деле нечего было сказать.
Ибо совершенно очевидно, что важность, значительность или даже существенность чего-либо нисколько не зависит от того, часто или редко оно повторяется. Гений встречается редко, а посредственных людей – сколько угодно. И тем не менее гений привлекает наше внимание. Откровения же бывают раз в столетия и даже в тысячелетия. Но если бы откровение случилось за все бесконечное время существования мира только один раз – оно было бы для нас несравненно ценнее всех ежедневно, ежечасно, даже ежеминутно повторяющихся явлений. Скажут – повторяющиеся явления допускают проверку, даже искусственную проверку (эксперимент), а случайные не могут быть проверены. Что камень тонет в воде, мы видим каждый день, а что Бог открылся человеку, это было один раз, на Синае, да и то без свидетелей. Как знать наверное, было ли это или не было?
По-видимому, самое существенное, решающее возражение против случайного – это не то, что оно не имеет значения, а то, что его нельзя уловить и зарегистрировать. Все случайное по своей природе чрезвычайно капризно и показывается лишь на мгновение. Поэтому уже Платон (Tim. 27d), формулируя основную мысль эллинской философии, различал: τὶ τò ό̓ν ἀεὶ, γένεσιν δὲ ού̓κ έ̓χον, καὶ τὶ τò γιγνόμενον μὲν ἀεὶ, ό̓ν δὲ ούδέποτε, т. е. всегда существующее, но не имеющее происхождения, и всегда происходящее, но не существующее. Всегда существующее – постигается разумом, мышлением, как всегда себе равное, тождественное. А то, что всегда возникает и исчезает, – как его уловить? Уловить разумом абсолютно невозможно. В нашем примере: de profundis ad te, Domine, clamavi, человек взывает к Богу из бездонной пропасти ужаса и отчаяния. Тут все ведь «случайно». Когда не было ни пропасти, ни ужаса, ни отчаяния – он Бога не видел и не взывал к нему. Но иной раз есть и ужас, и пропасть, и отчаяние, а взывать не к кому, Бога – нет. Бога нет постоянно. Он тоже является и исчезает. Нельзя даже про Бога сказать, что он часто бывает. Наоборот, обыкновенно, по большей части его не бывает. Так что он, само собою разумеется, не может быть предметом научного знания. И primum movens immobile[4]4
Неподвижный первичный двигатель (лат.).
[Закрыть] Аристотеля, тот primum movens, который он называет Богом, никоим образом не заслуживает названия Бога – точнее, primum movens есть прямая противуположность Богу, так что если он πρώτη ἀρχή – первое начало, – то нужно прямо сказать, что Бога – нет. Ибо, в какие пропасти ни проваливался бы человек, в какой бы ужас и отчаяние он ни впадал, он не обратится с молитвой к неподвижному двигателю, хотя бы для него очевидно было, что этот двигатель всегда был, есть и будет. И Псалмопевец никогда таким Богом не вдохновился бы и, если бы не было другого Бога, то и псалмов у нас не было бы, ни пророков, ни апостолов. И в сущности – кроме Платона, который, как я говорил, никак не мог решиться, чему отдать предпочтение – разуму, постигающему всегда тождественное и себе равное, или неразумному, но и непреодолимому влечению, которое притягивало его к древним мифам, все остальные философы были твердо убеждены, что Бог – только для народа, для толпы.
II
Платон признавал ἀνάμνησις,[5]5
Припоминание (греч.).
[Закрыть] верил в идеи – хотя, конечно, умом и не мог дойти до этого и всецело, стало быть, заслужил те резкие упреки, которыми по его адресу переполнены сочинения Аристотеля. Однако наивно было бы думать, что у самого Аристотеля дело обстоит лучше, что ему удалось прочно обосновать свою философию. Как раз в основном вопросе философии – о том, что является предметом знания, он запутывается не менее безнадежно, чем его учитель. Он не признает идеи существующими, для него существуют только единичные вещи, но предметом знания у него оказывается не единичное, а общее, т. е., вопреки поставленному заданию, не существующее, а несуществующее. Это признают даже самые горячие поклонники и приверженцы Аристотеля, вроде Целлера и Швеглера.
К сожалению, ни тот, ни другой не задается вопросом: как могло случиться, что столь всеобъемлющий и гениальный ученый, как Аристотель, мог просмотреть в своей системе столь вопиющее противоречие? И почему, проявляя такую проницательность и прозорливость, когда нужно было разыскивать противоречия у Платона, Аристотель столь слеп и беспечен по отношению к себе? Казалось бы, он, для которого истина дороже дружбы Платона, дороже всего на свете, должен был быть к себе гораздо требовательней, чем к учителю?! И еще: почему столь основные противоречия, которые, по-видимому, должны были бы совершенно обесценить значение философского делания этих гениальных эллинов, нисколько не помешали и не мешают сейчас им быть властителями дум всего ищущего истины человечества? Ведь и в настоящее время в этом кардинальном философском вопросе мы не достигли большего благополучия. И теперь – кто с Аристотелем, у того будет наука о несуществующем «общем», кто с Платоном, тот осужден на мифологию, для современного ума совершенно неприемлемую. Все же хотят, чтобы философия имела своим предметом существующее и была «строгой наукой»…
Послушайте современного Аристотеля, Гегеля, как уверенно говорит он о философии. «Das Wahre gelangt aber nicht nur zur Vorstellung und zum Gefühle, wie in der Religion, und zur Anschauung, wie in der Kunst, sondern auch zum denkenden Geist; dadurch erhalten wir die dritte Gestalt der Vereinigung (des Objectiven und Subjectiven) – die Philosophie. Diese ist insofern die höchste, freieste und weiseste Gestaltung».[6]6
Истинное выражается не только в форме представления и чувства, как в религии, и в форме созерцания, как в искусстве, но и в мыслящем духе; благодаря этому мы получаем третью форму соединения – философию. Поэтому философия является высшею, свободнейшею и мудрейшею формою (нем.).
[Закрыть] Правда, такова уже философская традиция: все философы старались превозносить как можно выше свое дело. И сам Аристотель в этом отношении не уступит Гегелю. Но Аристотель жил больше чем две тысячи лет тому назад. Тогда философия только начинала свое дело. Тогда культурный мир еще не знал двух единичных, неповторявшихся «случаев» откровения – ни Ветхого, ни Нового Завета. Но Гегель же знал; много и часто об этих «случаях» говорил и гордился тем, что германский народ, из недр которого он сам вышел, глубже, чем все другие народы, постигал откровение!..
Или это были только слова? Конечно, слова! Гегель был слишком по своему духу близок к Аристотелю, чтоб серьезно принимать мифологию – гомеровскую ли или библейскую. Для него denkender Geist было все. И что в мыслящий дух не входило, все отбрасывалось как преходящее, ненужное, незначащее. Он, как и Аристотель, прежде всего стремился к тому, чтоб философия была наукой – а под наукой он прежде всего понимал такое знание, которое может быть сообщено и передано другим. Учитель сказал: οημει̃ον του εἰδότος τò δύνασθαι διδάσκειν εστίν.[7]7
Признак знания – это то, что оно может быть передано другим (ему можно научить).
[Закрыть] И от этих учительских слов никто уже не может отказаться. Основной признак науки в том, что она может обучать всех и всегда. Соответственно этому и философы, поскольку им приходилось и приходится считаться с откровением, всегда стремились, вопреки ясному смыслу библейского повествования, превратить откровение в ἀεὶ ό̓ν, в нечто постоянно и неизменно существующее – то, что было только историческим фактом, т. е. случилось однажды и, как всякий исторический факт, навсегда поглощено временем. Даже отцы церкви, целиком воспринявшие эллинскую философию, истолковывали Св. Писание в таком смысле, чтоб его можно было согласовать с открытыми разумом (lumen naturale)[8]8
Естественный свет (лат.).
[Закрыть] первыми началами (πρω̃ται ὰρχαί). Рождение сына, воплощение, крестная смерть Христа изображались тоже не как нечто однажды происшедшее, а как постоянно происходящее. В связи с этим выросло и развилось подсказанное эллинизировавшимся Филоном Иудейским учение о λόγος’е, хотя во всем Священном Писании о λόγος’е говорится только в 1-м стихе четвертого Евангелия. Понятие λόγος’а было разработано в эллинской философии, и философски, т. е. атеистически настроенные умы, умы, доверявшие себе и только себе, с радостью ухватились за возможность связать откровение с разумом, т. е. lumen naturale с lumen supernaturale.[9]9
Сверхъестественный свет (лат.).
[Закрыть] Нечего и говорить, что все выгоды и преимущества от такого союза целиком достались и продолжают доставаться на долю lumen naturale. Католицизм это превосходно понимает, и на Ватиканском соборе было постановлено: Dei existendam naturali ratione posse probari.[10]10
Бытие Бога можно удостоверить естественным разумом (лат.).
[Закрыть]
Но, повторяю: нечего себя обманывать. Можно, конечно, доказывать бытие Божие разумными доводами, и таких доказательств у нас хоть отбавляй. Но от них, как от известного рода похвал, не поздоровится. Каждый раз, когда разум брался доказывать бытие Божие, – он первым условием ставил готовность Бога подчиниться предписываемым ему разумом основным «принципам». Бог доказанный, какими бы предикатами – и всемогущества, и всеведения, и всеблагости – ни наделял его разум, уже был Богом по милости разума. И потому, естественно, оказывался лишенным «предиката» жизни, ибо разум, если бы и хотел, никак бы не мог создать ничего живого – это ведь не его дело. Да кроме того, разум по самой своей природе больше всего в мире ненавидит жизнь, инстинктивно чуя в ней своего непримиримейшего врага. С тех пор как разум выступил на историческую арену, его главной задачей было бороться с жизнью. И, может быть, никогда это не обнаруживалось с такой очевидностью, как в новейшее время, когда, при оглушительных аплодисментах всего цивилизованного мира, провозгласил свое право на господство панлогизм или даже – sit venia verbo[11]11
С позволения сказать (лат.).
[Закрыть] – панэпистемизм. Этим и завершилась тысячелетняя борьба иудейского и эллинского гениев, как принято выражаться. В философии одолел Гегель, в теологии – Ватиканский собор, который, как я сейчас упомянул, провозгласил: Dei existentia naturali ratione posse probari.
Между прочим, это положение Ватиканского собора, провозглашенное в 1870 году, пробивало себе путь в течение многих столетий исторической жизни католичества и фактически было догматом уже в средние века: союз эллинства с иудейством предполагал его. Да иначе и не могло быть. Христианство зародилось в Галилее. Кажется, Ренан писал, что в начале нашей эры Иудея была самой невежественной страной известного тогда мира, Галилея – самой невежественной страной в Иудее, а в самой Галилее те плотники и рыбаки, среди которых появился свет нового учения, принадлежали к самой невежественной части населения. Как же могло случиться, что lumen naturale, который в течение веков культивировался в странах эллинского образования, вдруг оказался в ведении и распоряжении невежественных галилейских плотников и рыбаков? Греки были убеждены, что разум не только может им доказать существование Бога, не только объяснить что угодно, но и дать все лучшее, о чем может мечтать человечество. И чтоб они согласились признать, что ratio naturalis, который был им присущ в высшей степени, должен склониться пред иудейским ratio supernaturalis,[12]12
Сверхъестественный разум (лат.).
[Закрыть] что λόγος ἐν ἀρχη̃[13]13
В начале слово (греч.).
[Закрыть] был не у греков, а у евреев! И что когда невежественный иудей взывал из пропасти (clamabat ex profundis). Бог отвечал ему, а когда образованный грек размышлял, его размышления ни к чему не приводили!
Ясно, что ни греки и римляне, современники Иисуса, ни европейцы, наши современники, никогда серьезно не допускали, что clamare de profundis может, в смысле приближения к истине, иметь какие бы то ни было преимущества пред диалектическим мышлением. Т. е. я, конечно, выразился слабо. Культурные люди всех времен отлично знали, что взывать – из пропасти ли, с горы ли – бесцельно и бессмысленно, что взывания и вопли к истине ровно никакого отношения не имеют. В этом и смысл приведенных выше соображений Гегеля об отношении «религии» к «философии». Он говорит, что истина в религии доступна представлению и чувству, в искусстве – воззрению, но только в философии она является мыслящему духу. И только в философии она получает высшее, свободнейшее и мудрейшее выражение.
С первого взгляда может показаться, что Гегель только старается быть справедливым, воздать каждому свое. И религия, и искусство, и философия – каждая по-своему воспринимает истину. Но на самом деле тут ни о какой справедливости не может быть и разговора. Гегель открыто заявляет, что мыслящий дух имеет все преимущества пред остальными способами восприятия истины: другим положительная степень, а превосходная степень – мыслящему духу. Почему такое? Почему мыслящий дух выше, свободнее, да еще притом мудрее, чем всякий иной дух? Конечно, Гегель не мог бы привести никаких иных оснований, кроме того, что такова уже философская традиция. Но этими преимуществами Гегель не ограничивается. Притязания мыслящего духа гораздо серьезнее и значительнее. Он хочет быть единственной и последней инстанцией, он хочет оставить за собой право окончательного решения всех, и первых и последних, вопросов бытия. Когда человек clamat de profundis – мыслящий дух знает, что взывай не взывай – никакого толку не выйдет. Ты можешь – если очень станешь надрываться – обмануть свои чувства, так что, пожалуй, тебе приснится, что ты видел Бога и что Бог тебя услышал. Но это будет только религиозная истина, которая пред судом мыслящего духа окажется не самой высокой, не самой свободной и не самой мудрой. Dei existentia naturali posse probari ratione.
III
Иными словами, нужно снова обратиться к онтологическому доказательству бытия Божия, которое в новое время так блестяще развивал Декарт и которое, несмотря на кантовские «опровержения», счел возможным восстановить Гегель. Нужно обратить внимание на то обстоятельство, что уже Декарт, как это видно из предисловия к его «Meditationes»,[14]14
Descartes R. Meditationes de prima philosophia in qua Dei existentia et animæ immortalitas demostratur (Р. Декарт. Размышления о первой философии, в которых доказывается бытие Бога и бессмертие души. 1641) – одно из основных сочинений Декарта.
[Закрыть] не только полагал, что при посредстве lumen naturale можно доказать бытие Божие, но, совсем как Гегель, был убежден, что только то, что подтверждается естественным разумом, истинно, а все остальное – ложь, не заслуживающая никакого доверия. И так странно именно у Декарта, проникнутого до мозга костей верой в разум, читать такие строки: «все, что обыкновенно атеисты приводят как возражения против бытия Божия, держится либо на том, что Богу приписываются человеческие чувства, либо человеческий дух притязает на такую силу и мудрость, что берется понять и определить, что Бог может и должен делать; так что, как только мы вспомним, что дух наш должно рассматривать как конечный, а Бога считать непостижимым и бесконечным, все эти трудности сами собой исчезают (adeo, ut modo tanturn memores simus mentes nostras considerandas esse ut finitas, Deum autem ut incomprehensibilem et infinitum, nullam ista difficuhatem sint nobis paritura)». Я думаю, можно безошибочно утверждать, что каждый раз, когда рационалист ссылается на непостижимость божества, он под этим скрывает уверенность, что поставляемые вопросы не требуют или, лучше, не заслуживают ответа. Относительно Декарта такое предположение тем более допустимо, что он слишком хорошо еще помнил процесс Галилея. Отвечать «атеистам» на их обычные возражения о том, что Бог является попустителем зла на земле, что он равнодушен к гибели праведников и к торжеству нечестивых и т. п., – то, что Декарт думал на самом деле, он не мог. Даже Спиноза не мог говорить со всей откровенностью, хотя был смелей и решительней Декарта. Но все-таки Спиноза не побоялся написать: «хотя опыт повседневно доказывает нам… что полезное и вредное безразлично выпадает на долю и благочестивых и нечестивых, люди никак не могут отказаться от вкоренившегося в них предрассудка (о благости и справедливости Бога). Им легче такого рода явления отнести к другим явлениям того же рода, смысл которых им тоже непонятен, и таким образом остаться при своем невежестве, чем опрокинуть все здание (своего миропонимания) и поставить на его место новое. Поэтому они возвещают как несомненную истину, что решения богов далеко превышают способность человеческого понимания. Это одно способно было бы быть причиной, что истина навсегда осталась бы скрытой от человеческого рода (Unde pro certo statuerunt, Deorum judicia humanum captum longissime superare; quæ sane unica fuisset causa, ut verkas humanum genus in æternum lateret)». Ясно, Спиноза говорит то, что думал Декарт. Утверждать, что решения богов непостижимы для человеческого разумения, может лишь тот, кто хочет навсегда скрыть истину от людей. Но Декарт ли не добивался истины? И не по следам ли Декарта пошел Спиноза? Можно ли допустить, что для Декарта было менее очевидно, чем для Спинозы, что ссылка на несоизмеримость человеческого и божеского разумения есть только опасный и вредный способ сокрытия истины? Самый метод Декарта уже предполагал собой то, что говорил Спиноза. Или, общее говоря, научный метод не допускает ничего общего между Богом и человеком, просто вытесняет Бога с поля зрения человека. Ибо разум и воля Бога – совершенно отличаются от нашего разума и нашей воли: общи только названия; вроде того как созвездие Пса и пес, лающее животное. И тут, опять-таки, Спиноза является наиболее добросовестным и правдивым свидетелем. «Nam intellectus et volumas, qui Dei essendam constituerent, a nostro imellectu et voluntate toto coelo differre deberent, nec in ulla re, præterquam in nomine convenire possent; non aliter scilicet quam inter se conveniunt canis, signum coeleste, et canis animal latrans» (Eth. I. XVII. Scholium.).[15]15
Ибо разум и воля, которые составляли бы сущность Бога, должны были бы быть совершенно отличны от нашего разума и нашей воли и могли бы иметь сходство только в названии, подобно тому, например, как сходны между собой Пес – небесный знак и пес – лающее животное (лат.).
[Закрыть] В этих словах, с той великолепной выразительностью, которая свойственна простому и безыскусственному стилю Спинозы, сказалась последняя и тайная мысль всякого научного метода и задания. Декарт не сказал этого прямо – ибо, как я заметил уже, не хотел подвергать себя участи Галилея. Гегель тоже, по каким-то если не житейским, то во всяком случае посторонним науке соображениям, не договаривает до конца. Из новейших философов только Шопенгауэр и Фейербах открыто и громко заявили, что Бога нет. Ибо, конечно, если разум и воля Бога так же похожи на разум и волю человека, как созвездие Пса на пса – лающее животное, то тогда уже все что угодно может быть названо именем Бога. Тогда и материя материалистов есть Бог. Иначе: Бог сам по себе, человек сам по себе.
Правда, Спиноза полагает, что хотя Богу нет никакого дела до человека, но все же человек должен любить Бога. И еще – Спиноза полагает тоже, что тот Бог, которого он изображает, достоин всяческой любви и есть всесовершенное существо. Но это – уже не «объективное» суждение, а оценка, т. е. частное мнение частного, хотя и замечательного человека, и доказать его ни more geometrico, ни каким-нибудь другим способом невозможно. Тут, собственно говоря, кончается область «строгой науки», так что мы можем спокойно пройти мимо этических и религиозных идеалов Спинозы. Для нас важно только, что, по убеждению Спинозы, хотя Бога и нет, но в этом и беды нет никакой – напротив даже, в этом много хорошего. И еще важно, что так думали все без исключения философы от древнейших времен до наших дней. Собственно говоря, учение циников и стоиков имело своей главной задачей доказать людям, что они силой своего внутреннего творчества могут добиться всего, что только может быть нужно человеку. Добродетель, как последняя цель, как смысл и содержание жизни, и есть тот суррогат, который, согласно идеям этих школ, должен заменить Бога. И – если верить философам – суррогат вполне приемлемый. В этом смысле циники и стоики сыграли колоссальную роль в истории философии. Принято думать, что у них было мало «теоретических» интересов и что научная философия прошла мимо них. Это огромное заблуждение. Уже Сократ своими моральными поучениями предопределил судьбу дальнейших философских устремлений. Циники, особенно же стоики, хотя и «односторонне», как о них говорят в учебниках, но зато наиболее выпукло и отчетливо выявили те основные принципы, на которых суждено строиться и держаться зданию будущей философии. Философия возможна только при готовности человека к отречению от себя и к самоуничтожению. Иными словами, началом философии оказывается «моральное» совершенство человека. Тот, кто не может возвыситься над своей единственностью, единичностью, над своей «случайной» индивидуальностью, – тот не философ. Гегель совершенно откровенно говорит об этом в своей «Логике». Добродетель теоретика-мыслителя в том, что он отрекается от себя, перестает быть человеком, которому что-либо нужно, и становится только познающим субъектом, становится познанием вообще, denkender Geist. Это условие, может быть, не формулировалось так обнаженно и в тех словах, в каких я его формулирую. Но не в словах ведь суть. Сущность в том, что стоицизмом проникнуты все без исключения философские системы…
Пожалуй, теперь не покажется парадоксом, если я скажу, что стоицизм есть родной брат скептицизма. Стоицизм родился на почве отчаяния и полной безнадежности. Идея была поставлена на место реального, живого существа, так как люди совершенно потеряли надежду на возможность отстоять права живого человека. Все, что возникает, – а все живое, как показывает опыт, возникает, – все должно погибнуть. Гегель откровенно признается, что «естественная смерть есть только абсолютное право, которое осуществляется природой по отношению к человеку». И до того безнадежна уверенность в правах смерти у этого философа, что в его тоне не слышно даже напряжений. Совсем в духе Спинозы он о жизни и смерти, о природе и человеке говорит, точно это были бы перпендикуляры или треугольники. И подобно тому как его нисколько не радует и не огорчает мысль о том, что из точки к прямой можно на плоскости восставить только один перпендикуляр, так же равнодушно отдает он человека в абсолютную власть природы. Для него человек только момент духа, а дух – это то, в чем человек уже преодолен. Повторяю и настаиваю: все философы так думали и так думают. Они равно спокойно жертвуют и живым человеком и живым Богом в убеждении, что если есть наука, то больше ничего и не нужно, не подозревая, очевидно, что наука еще не овладела истиной.
Единственным исключением из общего правила был Ницше. Когда он убедился, что нет Бога, им овладело такое безумное отчаяние, что, в сущности, несмотря на его исключительное литературное дарование, ему до конца жизни так и не удалось адекватно рассказать, что сделали люди, убивши Бога. Но Ницше не услышали. По-прежнему все думают, что вовсе и не важно, есть ли Бог или нет Его. Достаточно, что Его до сих пор называют, но можно было бы без этого обойтись, можно было бы заменить Его такими словами, как natura, substantia и т. д…
Если хотите, может быть и неважно, признают ли люди Бога или не признают. От человеческого признания Богу ничего не прибавится, так же как от непризнания не убавится. Если даже согласиться, что из бесчисленных миллионов людей, исповедовавших Бога на словах, только очень немногие его чувствовали, то в том нет ничего страшного. Тут consensus omnium ровно ничего не значит. Пусть бы на земле никто никогда не слышал о Боге – только бы Бог был. И наоборот – если бы все до одного человека верили в Бога, которого нет, можно было бы предать проклятию эту веру, как бы сладка и утешительна она ни была.
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.