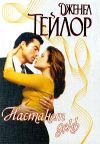Текст книги "Настанет день"

Автор книги: Лион Фейхтвангер
Жанр: Зарубежная классика, Зарубежная литература
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 4 (всего у книги 26 страниц) [доступный отрывок для чтения: 7 страниц]
Караульные звякнули копьями об пол, Домициан вошел. Увидел Луцию, ее обращенное к нему смелое, ясное, смеющееся лицо, веселое, слегка насмешливое. О нет, пребывание на пустынном острове не укротило ее, не изменило. Он был рад, что они не вдвоем.
Своим деревянным тяжелым шагом подошел он к ней и поцеловал, – как должен был, следуя церемониалу, поцеловать каждого из присутствующих. Поцелуй был коротким и формальным, его губы едва коснулись ее щеки. Однако она почувствовала, как под его парадной одеждой забилось сердце. А он отдал бы целую провинцию, только бы узнать, спала она с кем-нибудь там, на своем острове, или нет. Почему он не расспросил Норбана? Неужели он боится его ответа?
Его охватило неистовое, едва укротимое желание увидеть шрам под ее левой грудью, нежно провести по нему пальцем. Да, он поистине великий властитель, истинный римлянин, если может, испытывая столь яростное желание, все же обуздать себя и явить окружающим лик, полный спокойствия.
Итак, он обнимает своего двоюродного брата Сабина и целует его, как предписывает обычай. Препротивный мужчина этот Сабин, и глуп, и мнит о себе. Но на своего министра полиции Домициан может положиться. Настанет день, когда он уже не будет вынужден касаться своей щекой щеки Сабина.
Он повернулся к Юлии. Ее беременность еще не была заметна, но все присутствующие о ней уже знали. Наверное, слышала и Луция и тоже начнет теперь гадать, от кого ребенок: от Фузана или от дуралея Сабина? Когда император направился к Юлии, угловато отставив назад локти, слегка втянув живот, все лицо его пылало; но это еще ничего не доказывало, он краснел часто от всякого пустяка. Большие, широко раскрытые серо-голубые глаза Юлии были вопрошающе устремлены на него. За последние месяцы ей меньше пришлось страдать от его капризов, но ее ясный и трезвый ум подсказывал, что, как только он снова сойдется с Луцией, все будет по-прежнему. И вот Юлия стоит перед ним, эта истинная дочь Флавиев, крупная, земная. Но не кажется ли она несколько вульгарной рядом с Луцией? Домициан поцеловал ее, ее тонкая белая кожа, которая еще на днях так нравилась ему, потеряла для него всякую прелесть.
Затем он обнял и приветствовал поцелуем своего младшего двоюродного брата Клемента, ленивого тихоню, как он называл его, издеваясь. Ибо Клемент не интересовался политикой, в нем не было ни капли честолюбия, его сквозившая во всем ласковая небрежность раздражала императора, считавшего себя блюстителем истинно римских нравов. Большую часть времени Клемент проводил в деревне, с женой Домитиллой и близнецами. Там он изучал ханжеские догматы одной еврейской секты, а именно – нелепое учение минеев, или христиан, которые ожидали всяческого блаженства в загробной жизни, ибо считали, что жизнь земная не стоит трудов. Домициан находил эти догматы отвратительными, расслабляющими, бабьими, глупыми и совершенно недостойными римлянина. Нет, свидетель Геркулес, он и Клемента терпеть не может. Но кое в чем Клемент имеет перед ним преимущество, а в одном Домициан просто завидует ему: у него два сына-близнеца, четырехлетние принцы Констант и Петрон, львята, как Домициан любил называть этих послушных, ласковых и крепких мальчуганов. Династия должна быть продолжена, – он этого горячо желает, – ни Сабин, ни Клемент для престола не годятся, кого произведет на свет Юлия – еще неизвестно, поэтому близнецы пока все, на что Домициан может рассчитывать, и в душе он лелеет мысль усыновить их. Только из-за них мирится он с присутствием кузена Клемента. Впрочем, Клемент на неприязнь отвечал неприязнью и с явным усилием перенес объятие и поцелуй Домициана.
Особенно злила и забавляла императора жена кузена, Домитилла; она была последней, кого он приветствовал поцелуем. Домитилла была дочерью его покойной сестры и унаследовала некоторые характерные черты Флавиев – белокурые волосы, крутой подбородок. Но она была щуплая, во всех смыслах щуплая, и вдобавок скупая на слова. Правда, светлые глаза Домитиллы выдавали ее пылкие, даже фанатические чувства. К Домициану она относилась с презрением, называла его не иначе, как «этот», считая даже прозвище «Фузан» слишком для него лестным; он казался ей воплощенным принципом зла, и чтобы об этом догадаться, императору не нужен был его Норбан. Конечно, это она и поддерживала в своем слабовольном супруге пассивную враждебность и упорство его тихого и кроткого сопротивления. Конечно, это она вовлекла его в подозрительную еврейскую секту. Целуя сейчас Домитиллу, император обнял ее крепче, чем остальных. Она была ему совершенно не нужна, но именно для того, чтобы позлить ее, он не ограничился обычным официальным поцелуем, а долго и сердечно сжимал ее в объятиях.
За столом он был разговорчив и явно пребывал в отличном настроении. Правда, не отказал себе в удовольствии, как обычно, подразнить кузенов Сабина и Клемента, а также Домитиллу. Но не обиделся, когда Луция стала насмешливо хвалить его за умеренность и с одобрением признала, что живот у него вырос не намного. Юлии он с притворной озабоченностью посоветовал, чтобы она в своем положении соблюдала осторожность, – такое-то блюдо ела, а такое-то нет. Но больше всего шутил он с близнецами. Ласково гладил их по светлым мягким волосам, называл «мои львята». Принцы охотно принимали эти знаки внимания, видимо, они тоже любили дядю.
– Народ, солдаты и дети любят меня, – с удовольствием отметил император. – Все, у кого здоровые инстинкты, меня любят.
– Разве у меня нездоровые инстинкты? – спросила Луция.
А Юлия ласково и непринужденно осведомилась:
– Значит ли это, что вы нашего бога Домициана не любите, моя Луция, или любите, несмотря на нездоровые инстинкты?
Но вот ужин окончен, все разошлись; Домициан почувствовал себя лучше вооруженным для объяснения с Луцией. Однако, когда они остались одни, он никак не мог начать. Луция это поняла, и на лице ее появилась широкая улыбка. Она сама начала разговор и благодаря этому все время направляла его.
– Я, собственно, должна была бы поблагодарить вас за ссылку, – сказала Луция. – Когда я узнала, что местом изгнания вы предназначили мне даже не Сицилию, а пустынный остров Пандатарию, я, признаюсь, рассердилась и боялась, что там будет очень скучно. Но эта ссылка была таким переживанием, что жаль было бы не изведать его. Общаясь с десятком таких же ссыльных, как и я, и с местным пролетарским населением, я убедилась, что для внутренней жизни гораздо полезнее находиться на таком вот пустынном острове, чем в Альбанском поместье или на Палатине.
«А я все-таки спрошу Норбана, – злобно подумал Домициан, – спала ли она там с кем-нибудь и с кем именно».
– Когда вы соблаговолили вернуть меня, – продолжала Луция, – я почти жалела об этом. Но я вовсе не отрицаю, что теперь, когда я вернулась, мне после пустынной Пандатарии очень нравится здесь, в Альбанском имении.
– Мне следовало применить закон о прелюбодеянии во всей строгости, – заметил, побагровев, Домициан. – Я должен был бы уничтожить вас, Луция.
– Вы капризны, мой владыка и бог, – ответила Луция, все так же улыбаясь. – Сначала вы зовете меня обратно, а потом говорите грубости. А не считаете ли вы, что несколько примитивно в любом случае прибегать к таким кровавым решениям? – Луция подошла к нему вплотную – она была выше Домициана – и слегка погладила его редеющие волосы. – Это дурной вкус, Фузан, – сказала она, – и не свидетельствует о благородстве крови. Впрочем, я ведь смерти не боюсь. Полагаю, вам это известно. И если бы мне теперь пришлось умереть – смерть не слишком высокая плата за то, что я получила от жизни.
Да, от жизни она умела взять все, что можно, Домициан должен это признать. И смерти она действительно не боится, он в этом удостоверился. И в том, что она извлекла нечто ценное даже из своего изгнания, он тоже не сомневался. Нет, ее нельзя укротить, невозможно стать ее господином. Он возмущался все вновь и вновь той дерзостью, с какой она отстаивала свою правоту, и всякий раз эта дерзость сызнова покоряла его.
Он пытался найти в себе силы, чтобы устоять против нее. Ведь в отсутствие Луции он убедился, что ее можно заменить. Разве Юлия не стала ему больше чем наложницей? Разве он не ждет от Юлии ребенка? Разве и в его жизни не было всяких событий, пока Луция отсутствовала?
– Я тоже кое-чего достиг, когда тебя не было, Луция, – сказал он злобно. – Рим стал более римским, Рим стал более могущественным, сильным, и теперь в Риме больше дисциплины.
Но Луция просто рассмеялась в ответ.
– Не смейся, Луция! – остановил он ее, это были и просьба и приказ. – Это правда. – И добавил мягче, почти умоляюще: – Я ведь и ради тебя это делал, я для тебя старался, Луция.
Луция сидела молча и смотрела на него. Она замечала в нем все мелочное и смешное, но видела также его силу и способность властвовать. Одно она понимала: если у кого-нибудь в руках сосредоточена такая чудовищная полнота власти, как у ее Домициана, нужно быть очень большим человеком, чтобы не злоупотреблять ею. Будничной трезвости рассудка она от него не могла требовать, да и не требовала. Временами даже любила его за то, что он так одержим уверенностью, будто его рукою действует и его устами говорит бог. Ей казалось достойным презрения то, что он не может себя пересилить и убить ее, вместе с тем в изгнании Луция не раз тосковала по нем. Сейчас она смотрела на него задумчиво, затуманенным взглядом: она радовалась, что будет спать с ним. И все же Луция сознавала ясно: нужно не медля потребовать от него все, что она задумала, и заранее добиться согласия. Потом, после, будет уже поздно, и ей придется вести с ним борьбу целые годы. Она четко определила для себя то, что должна от него потребовать, и благоразумный Клавдий Регин ее одобрил.
– Вам следовало бы наконец передать мне монополию на производство кирпича, – сказала она вместо ответа.
Домициан был разочарован.
– Я говорю вам о Риме и о любви, а вы отвечаете мне словом «деньги», – жалобно отозвался он.
– А я в изгнании поняла, – продолжала она, – какая важная вещь деньги. Даже на моем пустынном острове я могла бы деньгами многое облегчить и себе и другим. Нехорошо было с вашей стороны накладывать арест на мои доходы. Ну как, Фузан, получу я монополию на кирпич? – спросила она.
А он думал о шраме под ее грудью и был полон гнева и желания.
– Молчи! – властно приказал он.
– И не подумаю! Я говорю о монополии на производство кирпича, – продолжала она настаивать. – И ты ничего не добьешься, пока не скажешь «да». И не воображай, что сломил меня своей Пандатарией. Ты, наверно, думал, что я буду все время вспоминать судьбу Октавии или Юлии, жены Августа…
Тут он покраснел, так как добивался именно этого.
– Но ты ошибся. И если ты меня опять туда сошлешь, я все равно другой не стану, и так же, как я с весельем вспоминала о той Юлии, так и другая изгнанница на этом острове будет вспоминать обо мне скорее с завистью, чем со страхом.
Слушая эти намеки, Домициан убедился вводной мере, как бессилен он перед этой женщиной. Он искал слов, желая возразить ей. Но не успел их найти, ибо она возобновила свой бурный натиск и опять стала требовать:
– Думаешь, тебе одному нужен блеск? Если уж ты хочешь строить больше, чем твои предшественники, то и я хочу что-то от этого получать. Ну как, отдашь ты мне монополию на кирпич?
Пришлось все-таки уступить, и в ту ночь он даже ни разу не пожалел об этом.
Решения, одобренные императорским кабинетом министров, чтобы стать законами, подлежали еще утверждению сената. А потому – все эти решения были изложены в виде четырех законопроектов, и всего через несколько дней после заседания кабинета был созван сенат, чтобы их обсудить.
И вот, не выспавшись, избранные отцы собрались в белом величественном, огромном зале храма Мира, где они должны были совещаться. Одни сидели, другие стояли; было еще очень рано, заседание полагалось открыть точно с восходом солнца, ибо сенат имел право заседать только между восходом и закатом, а для того, чтобы обсудить четыре законопроекта и принять решения, следовало не терять времени.
День был очень холодный, жаровни с углем не могли нагреть просторного зала. Сенаторы ждали, переминаясь с ноги на ногу, в своих пурпурных плащах и отороченных пурпуром туниках, озаренные мерцающим светом множества светильников и жаровен с углем, болтали, откашливались, поеживались, разминали ноги, обутые в неудобные парадные башмаки на высокой подошве, пытались отогреть руки грелками с горячей водой, которые они прятали в широких рукавах парадной одежды.
Большинство чувствовало себя дьявольски униженными тем, что им приходится теперь испытывать еще и все эти мелкие неудобства только ради того, чтобы на торжественном заседании утвердить законы, которые навсегда лишали их власти и подчиняли произволу этого Домициана, этого беспредельно наглого правнука мелкого конторского служащего. Но даже самые храбрые не решились уклониться.
То там, то здесь недовольные разговаривали вполголоса.
– Нет, все это стыд и позор, – вдруг не выдержал сенатор Гельвидий – тощий, долговязый, морщинистый старик, и хотел было покинуть зал.
Публию Корнелию[24]24
Публий Корнелий – великий писатель и историк Древнего Рима Публий Корнелий Тацит (ок. 55 – ок. 120 гг.).
[Закрыть] с трудом удалось удержать его.
– Я вполне понимаю, мой Гельвидий, – сказал он, все еще держа его за рукав, – что вы не хотите иметь никакого дела с подобным сенатом. При таком императоре нам всем хотелось бы сорвать с туники пурпурную кайму. Но чего вы достигнете, если сделаете красивый жест и уйдете отсюда? Император сочтет это за дерзкое упрямство, и рано или поздно вас ждет расплата. Та робкая, приниженная жизнь, которую мы вынуждены вести, это не жизнь, и сколь многие из нас предпочли бы ослепительную и величественную смерть. Но демонстративное мученичество бессмысленно. Сохраните благоразумие, мой Гельвидий. Важно, чтобы те, кто любит свободу, уцелели в такое время. Важно, чтобы они остались жить, даже если их жизнь и убога. – Корнелий был гораздо моложе Гельвидия, он был одним из самых молодых сенаторов, но, несмотря на молодость, на лице его залегли глубокие, угрюмые морщины. «Это он должен бы уговаривать меня, – думал Корнелий, мягко оттесняя Гельвидия на его место, – а не я его. Правда, мне легче, чем ему. Я живу для того, чтобы записывать все происходящее при нынешнем тиране. Если бы я постоянно не повторял себе этого, то, вероятно, тоже не имел бы сил выносить такую жизнь».
Наконец, за несколько минут до восхода солнца, прибыл Домициан. Двери здания распахнули настежь, чтобы заседание могло считаться публичным, и весь народ увидел императора, блистающего на своем возвышении. Облаченный в пурпур и золото, торжественно восседал он, готовый сохранять до конца ту же величественную позу. Он желал, чтобы те четыре закона, которые подлежали сегодня рассмотрению, его законы, были обсуждены и утверждены со всей возможной помпой.
Самый важный из этих законопроектов, дававший императору пожизненную цензуру и право исключать сенаторов из состава сената, стоял в повестке дня третьим. Необходимость такого закона была обоснована сенатором Юнием Маруллом, чье имя он и должен был носить. У этого элегантного старика выдался сегодня удачный денек, он чувствовал себя помолодевшим. Марулл, который с такой страстью задолго подготовлял себе всякие острые ощущения, теперь наслаждался предстоящей местью своим пуритански настроенным коллегам за враждебную иронию, с какой они нередко нападали на него, на этого «легкомысленного, утонченного сластолюбца». Сидя в торжественных позах и снедаемые гневом, эти республиканцы-консерваторы вынуждены были выслушивать, как их коллега Марулл, прославленный адвокат, с напускной деловитостью разъясняет им, что в целях устойчивости государственного управления сенату просто необходимо передать императору пожизненную цензуру и что если право верховного контроля не будет признано за владыкой и богом Домицианом – это грозит подорвать самое существование империи.
Сенатор Приск слушал, засунув руки в длинные рукава одежды. Своими глубоко сидящими маленькими глазками глядел он на разглагольствующего Марулла, прищурившись, закинув круглую, совершенно лысую голову. О, он говорил убедительно, этот Марулл, очень убедительно, защищая в высшей степени постыдное дело. Как охотно Приск, и сам обладавший даром слова, возразил бы Маруллу, а возразить можно было очень многое и очень метко, он сделал бы это с блеском. И все-таки сенатор Приск вынужден молчать, при императоре Домициане он обречен молчать. Ему оставалось единственное жалкое утешение: после заседания он вернется домой и все, что хотел бы высказать, запишет. А потом, когда-нибудь позднее, при удобном случае, он осторожно прочтет это шепотом в кругу надежных друзей, и если чтение пройдет удачно, как будто случайно подсунет свою рукопись Маруллу. Жалкое возмездие!
Сенатор Гельвидий, сын того Гельвидия, которого казнил отец нынешнего императора, скрипел зубами и кусал губы, вынужденный слушать позорные, но элегантные фразы Марулла. Наконец он был уже не в силах сдерживаться. Он забыл предостережения Корнелия, поднялся – высокий, тощий, морщинистый старик, и зычным голосом крикнул Маруллу:
– Это наглость! Это наглая ложь!
Марулл остановился на полуслове, устремил светлые серо-голубые глаза на прервавшего его Гельвидия, даже поднес к глазу увеличительный смарагд. Сам император, багровея, медленно повернул голову к подавшему реплику. Однако Корнелий уже успел одернуть Гельвидия, тот снова сел и больше не говорил ничего.
Когда Марулл кончил, перешли к прениям. Председательствующий консул выкликал имя каждого сенатора в порядке старшинства и спрашивал:
– Ваше мнение?
И не один охотно ответил бы: «Этот закон погубит империю и весь мир», – но ни один не дал такого ответа. Наоборот, каждый послушно заявлял: «Я согласен с Юнием Маруллом», – и разве только тон, каким это говорилось, выдавал стыд, горечь, негодование.
Во время перерыва, после голосования третьего законопроекта, Гельвидий сказал Корнелию:
– Если нашим пращурам было дано время от времени наслаждаться свободой в самой полной мере, то теперь мы терпим рабство в самой полной мере.
При обсуждении четвертого, последнего, вопроса – проекта более строгих законов о нравах, император сам взял слово. Когда дело касалось дисциплины и традиций, он просто не мог не выступать. И на этот раз он нашел достойные, решительные, очень римские выражения, чтобы еще раз сказать о своей убежденности в глубочайшей связи между дисциплиной и мощью. Нравственность, утверждал он, – это основа государства, поведение гражданина определяет его образ мыслей, и, принуждая человека вести себя достойно и нравственно, влияешь и на его душу, на его взгляды. Дисциплина и нравственность – условия существования всякого государственного строя, повиновение граждан – основа империи. Даже оппозиционно настроенные сенаторы вынуждены были признать, что потомок мелкого чиновника говорит с достоинством, как истинный император.
Вдоль стен овального зала строгой шеренгой стояли изображения великих писателей и мыслителей, среди них – и бюст Иосифа Флавия, еврея, – этот бюст приказал поставить здесь император Тит. Слегка повернутая к плечу, высоко поднятая и надменная, худая и странно поблескивающая, безглазая и полная мудрой любознательности, присутствовала голова Иосифа на этом собрании сенаторов.
Десять дней спустя четыре медных таблицы, которые должны были навеки сберечь точный текст новых законов, были, как требовал обычай, сданы на хранение в государственный архив, и, таким образом, эти четыре закона вступили в силу. Начиная с этого дня император цезарь Домициан Август Германик получил пожизненное право по своему усмотрению исключать из сената его членов.
В невзрачный дом Иосифа, к великому удивлению соседей, явился императорский курьер. Он вручил Иосифу приглашение быть на следующий день на Палатине.
Сам Иосиф скорее удивился, чем испугался. За последние годы император лишь изредка удосуживался мимоходом бросить ему несколько слов. Не странно ли, что сейчас, перед своим отъездом, среди множества неотложных дел, Домициан все же пригласил его к себе. Быть может, это приглашение, или, вернее, приказ связан с событиями в Иудее? Все же Иосиф старался, на пути к Палатину, подавить в себе всякий страх. Бог не допустит, чтобы с ним случилась беда до того, как он закончит свой великий труд, свою «Всеобщую историю иудейского народа».
Когда Иосифа проводили к Домициану, он увидел, что на императоре поверх доспехов надет пурпурный плащ: сейчас же после разговора со своим евреем он намеревался принять депутацию сенаторов и генералов. И вот он стоял, прислонившись к колонне; жезл, знак императорской власти, лежал рядом, на столике. Комната была небольшой; тем величественнее казалась фигура императора. Иосиф отлично знал Домициана еще в те времена, когда тот был ничтожеством и лодырем и брат называл его но иначе, как «этот фрукт». Однако сейчас в сознании Иосифа против его воли образ этого человека слился с многочисленными скульптурными портретами, стоявшими вокруг; и теперь перед Иосифом был уже не «этот фрукт», но сам державный Рим.
Император был очень благосклонен.
– Подойдите поближе, мой Иосиф, – сказал он. – Нет, еще ближе, подойдите совсем близко! – Потом стал разглядывать его своими большими близорукими глазами. – О вас давно уже ничего не слышно, Иосиф, – начал он. – Вы что-то совсем притихли. Вы все время живете в Риме? Занимаетесь только вашей литературой? А над чем вы сейчас трудитесь? Продолжаете писать историю нашего времени? – И, не дав Иосифу ответить, добавил с легкой злорадной усмешкой: – А вы опишете, какое действие оказали на вашу Иудею мои меры?
Император сказал все, что хотел, но рот его остался приоткрытым, как у большинства его статуй. Спокойно и задумчиво смотрел Иосиф ему прямо в глаза. Он знал, с каким презрением относились к этому человеку отец и брат, и Домициан знал, что Иосиф это знает. У него, у Домициана, круто выступающий вперед подбородок, как у отца. Юношей он производил гораздо более внушительное впечатление, чем отец и брат, но сейчас достаточно приглядеться повнимательнее, чтобы увидеть, как мало в нем сохранилось сходства с его статуями. Если отнять у него атрибуты власти, если представить его себе не облеченным властью, а просто голым мужчиной, что тогда останется? Если за ним не будет стоять Рим, гигантский, мощный, то Домициан окажется обыкновенным человеком средних лет, толстогубым, с тощими ногами, преждевременным брюшком и преждевременной лысиной. Просто Фузаном. И все же он был императором Домицианом Германиком, и доспехи, пурпур и жезл оживали только благодаря ему.
– Я работаю над подробной историей моего народа, – с бесстрастной вежливостью ответил Иосиф.
Когда бы он с императором ни встретился, тот обращался к нему все с тем же вопросом и Иосиф давал тот же ответ.
– Иудейского народа? – мягко и с затаенным коварством спросил Домициан и этим задел Иосифа глубже, чем мог ожидать. И продолжал, снова не дав Иосифу ответить: – Возможно, что последние события окажут влияние и на вашу Иудею. Как вы думаете?
– Император Домициан прозревает суть событий глубже, чем я, – отозвался Иосиф.
– Событий – может быть, но людей – едва ли, – ответил император, играя жезлом. – Вы – трудный народ, и вряд ли хоть один римлянин может похвастаться, что знает вас. Мой губернатор Помпеи Лонгин толковый человек и неплохой психолог, он сообщает мне обо всем регулярно, добросовестно и обстоятельно. И все-таки, – согласись, что это так, еврей, – ты понимаешь больше, чем он, и знаешь лучше, как обстоят дела в Иудее.
Легкий страх закрался в душу Иосифа несмотря на то, что он напряг всю свою волю.
– Да, Иудею трудно разгадать, – ограничился он осторожным ответом. Тогда Домициан улыбнулся медленной, многозначительной и злой улыбкой, которую собеседник должен был заметить непременно.
– Почему вы так скрытничаете перед вашим императором, Иосиф? – спросил он. – Вам, очевидно, известны некоторые события, происходящие в моей провинции Иудее, о которых мой губернатор ничего не знает. Иначе вы едва ли написали бы некое послание. Сказать вам, что это за послание? Процитировать из него отдельные места?
– Раз вы знаете это послание, ваше величество, – ответил Иосиф, – значит, вам известно и то, что в нем содержатся лишь призывы к осторожности. А призывать к осторожности людей, которые могут быть неосторожны, это, по-моему, в интересах империи и императора.
– Может быть, так, – задумчиво сказал император, все еще играя жезлом, – а может быть, и не так. Во всяком случае, ты, – и его пухлые губы насмешливо скривились, – как видно, считаешь нужным, чтобы среди этих мятежников в Иудее опять восстал какой-нибудь пророк и объявил полководца из дома Флавиев мессией. Разве вам, евреям, кажется, что Флавии все еще сидят на престоле недостаточно прочно?
Крупное багровое лицо императора стало теперь явно враждебным. Покраснел и Иосиф. Значит, Домициан считал, что в тот давний решительный час, когда Иосиф приветствовал Веспасиана как мессию, это был заранее подстроенный обман? Значит, он считал Иосифа продажным, предателем? Но сейчас нельзя об этом думать, ведь речь идет о более важном и неотложном.
– Мы полагали, что действуем в интересах империи и императора, – повторил он настойчиво, уклончиво.
– И немножко в интересах ваших евреев, мой еврей, и в ваших собственных? – спросил Домициан. – Разве нет? Иначе вы прямо обратились бы к моим чиновникам и генералам, предупредили бы их, предостерегли. Ведь в подобных случаях вы очень легко находите этих господ. Но я вполне представляю себе, что за этим кроется. Вам хотелось все это сгладить, смягчить, спасти виновных от наказания. – Он слегка ударял жезлом по столику. – Вы ловкие заговорщики и интриганы, это известно. – Голос у него сорвался. Лицо налилось кровью. Но он взял себя в руки и докончил начатую мысль. – Та быстрота, – сказал он вкрадчиво и злобно, – с какой ты тогда включился в игру моего отца, свидетельствует о большом искусстве.
Иосиф был потрясен тем, что Домициан опять вернулся к тому моменту, когда он приветствовал Веспасиана как мессию. Тот эпизод он замуровал в своей памяти и неохотно о нем вспоминал. Насколько он тогда действительно верил? Насколько приказал себе верить? Иосиф отчетливо увидел, как он стоит перед Веспасианом, захваченный в плен, закованный в цепи, вероятно, обреченный на распятие. Словно заклинанием вызвал он в душе свое тогдашнее смятение и память о том, как что-то поднялось внутри и у него вырвались пророческие слова, в которых он приветствовал Веспасиана как мессию. Все увидел он вновь до малейших подробностей, увидел императора, разглядывавшего его светло-голубыми, пытливыми мужицкими глазами, видел наследного принца Тита, стенографировавшего их разговор, Кениду, подругу Веспасиана, подозрительную, враждебную. Нет, он как будто верил тогда в свои слова. А может быть – все-таки разыграл комедию, чтобы спасти свою жизнь?
Как бы глубоко он ни заглядывал в себя, он и сейчас не смог бы сказать, где в том, что он тогда возвестил, кончалась правда и начинался вымысел. И разве вымысел это не та же правда, только более высокая? Взять хотя бы рассказ минеев о мессии, умершем на кресте. Он, историк Иосиф Флавий, видит все нити этой легенды, он может всю ее распутать, показать, из каких разрозненных черт минеи создали образ своего мессии. Но чего он этим достигнет? Что останется у него в руках? Только крохи мертвого знания! И не является ли этот выдуманный, пригрезившийся мессия правдой более высокой, чем его фактическая, всего лишь историческая правда? По той же причине никто никогда не сможет сказать с уверенностью, в какой мере образ мессии, возникший в тот миг у него в душе, образ мессии Веспасиана, ставший впоследствии реальностью, в какой степени этот пригрезившийся ему мессия был для него с самого начала реальностью. Он и сам не смог бы этого сказать, а уж тем менее император Домициан, который сейчас сидит перед ним и с издевкой смотрит на него.
– Что ты в конце концов имеешь против меня, мой еврей? – продолжал свои вопросы император Домициан тем же высоким, кротким голосом. – Моему отцу и моему брату ты служил хорошо, что же ты думаешь, я плачу хуже? Считаешь меня скрягой? Этого я еще ни от кого не слыхал. Я в самом деле плачу щедро, Иосиф Флавий, и за доброе и за худое, учтите это при своем историческом исследовании.
Иосиф слегка побледнел, но продолжал спокойно смотреть императору в лицо. Одетый в золото и пурпур, тот деревянным шагом подошел к Иосифу вплотную. Казалось, к Иосифу приближается пышная движущаяся статуя. Затем этот золотой и пурпурный человек дружелюбно, доверчиво обхватил рукой плечи Иосифа и вкрадчиво стал уговаривать его:
– Если б ты действительно хотел оказать мне услугу, мой Иосиф, сейчас тебе представляется удобный случай. Поезжай в Иудею! Возьмись руководить восстанием, как ты руководил им двадцать лет назад. Риму суждено властвовать над миром, ты знаешь это не хуже меня. Противиться предопределению бесполезно. Помоги же судьбе! Помоги нам, чтобы мы могли ударить в нужное время, как ты помог нам тогда. Помоги в нужную минуту, как ты тогда в нужную минуту узнал своего мессию. – Во вкрадчивом тоне, каким это было сказано, слышалась дьявольская издевка.
Иосиф, безмерно униженный, почти автоматически ответил вопросом:
– Вы желаете, чтобы Иудея восстала?
– Да, желаю, – вполголоса отозвался император, очень деловито, все еще обнимая Иосифа за плечи. – Желаю этого и в интересах твоих евреев. Ты ведь знаешь, они глупцы и в конце концов все-таки восстанут, как бы настойчиво их ни отговаривали благоразумные. Поэтому для всех будет лучше, если они восстанут поскорее. Лучше, если мы прикончим сейчас пятьсот вожаков, чем позднее не только пятьсот вожаков, но и сто тысяч их последователей. Я хочу, чтобы в Иудее наступило спокойствие, – заключил он жестко и резко.
– Разве спокойствие можно купить только такой большой кровью? – спросил Иосиф вполголоса, с тоской.
Но тут Домициан отстранился от него.
– Я вижу, ты меня не любишь, – заявил он. – Вижу, что ты не хочешь оказать мне услугу. Ты хочешь записывать всякие старые истории, чтобы умножить славу твоего народа, но ради моей славы не хочешь и пальцем пошевельнуть. – Домициан опять сидел перед ним, взмахивая жезлом. – А ведь ты очень дерзок, еврей, знаешь ты это? Воображаешь, что, если тебе дано право распределять славу и позор, ты можешь многое себе позволить? Но кто тебе сказал, что мне так уж важно мнение потомков? Берегись, мой еврей! Не загордись от того, что я так часто был к тебе великодушен. Рим могуществен и может позволить себе большое великодушие. Но помни, мы следим за тобой.
Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?