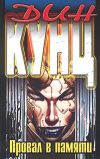Текст книги "Вопросы к немецкой памяти. Статьи по устной истории"

Автор книги: Лутц Нитхаммер
Жанр: Зарубежная образовательная литература, Наука и Образование
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 21 (всего у книги 46 страниц) [доступный отрывок для чтения: 12 страниц]
Электричество мы получали по проводу, протянутому в заднюю комнату парикмахерской – «Россман» тогда называлась. Там и сейчас парикмахерская, но я не знаю, как она называется. Там была розетка, она была под напряжением. Откуда это электричество поступало – ни одна собака не знала.
Но от одной этой розетки шло в квартиры 50–60 шнуров, т. е. проводов, какими на шахтах взрывные устройства подсоединяли. И на нем висела только лампочка. Ведь даже лампочка тогда была целое дело, понимаете, ее надо было какими-то окольными путями доставать. Ничего же не было, вообще ничего {70}.
Это была точка начала отсчета. На первый взгляд кажется: в середине ХХ столетия люди, живущие среди руин, отброшены в каменный век. Элементарные общественные системы снабжения разрушены, как разрушена и негосударственная экономическая система распределения через патронируемый государством рынок. И тем не менее удивительным образом, почему и как – лучше не спрашивать, посреди шахтерского квартала в задней комнате парикмахерской сохранилась одна розетка, в которой есть ток. В мгновение ока от этой одной розетки проводится освещение в полсотни квартир – невзирая на опасность короткого замыкания, невзирая на то, что ни провода, ни лампочки купить невозможно, и невзирая на предписания, согласно которым теперь вообще-то никакого электричества и нет вовсе, а если бы было, то подавалось бы рационированно и за деньги. Импровизированное самообеспечение предусматривает использование чужих, но территориально досягаемых ресурсов (электричество, провода), которые за невозможностью общественного или личного контроля оказались доступны; в ходе спонтанного сотрудничества тех, кто распоряжается ресурсом, с теми, кто владеет технологией его использования, этот ресурс начинают расходовать – без зазрения совести, однако экономно. Ведь, с одной стороны, необходимо минимизировать технические риски, с другой – лампочки не валяются под ногами. Их надо доставать. Это означает, что нужно нарушать права собственности, причем в крупных масштабах, посредством воровства или нарушения предписаний, которые рационируют потребление ресурсов и которые в принципе выгодны представителям непривилегированных слоев; нарушать их приходится путем коррупции или иным «обходным путем», а из-за этого нужный товар становится дорогостоящим.
В том, что существует такая вторая экономика {71}, в принципе нет ничего особенного: ни одному рынку и ни одной бюрократии до сих пор не удавалось охватить все производственные и обменные процессы: всегда оставались сферы личного производства, не обложенного налогом обмена, нелегального наемного труда, коррупции и скупки краденого. В условиях дефицита и репрессий эта серая зона всегда разрастается – разрослась она и при господстве нацистов, причем очень сильно, хотя и весьма противоречивым образом: с одной стороны, в ходе грабительских войн Гитлера представители господствующей нации получили расширенную возможность «доставать» товары на оккупированных территориях целого континента, и под, так сказать, «парадной», крупномасштабной коррупцией нацистских бонз возникла еще и сеть пронизывавших общество «связей», спекуляций и переправки продуктов и товаров из-за границы на родину. С другой стороны, власть имущие стремились утвердить свою карточную систему средствами полицейского террора, усилившегося во время войны. Для немцев, таким образом, не было ничего нового в том, что при оккупационном режиме рационирование касалось, самое большее, товаров первой необходимости, а все потребности сверх того удовлетворялись только нелегальным путем. Новым было то, что дефицит вплоть до весны 1947 года постоянно увеличивался; что карточная система не способна была в какой-то момент обеспечивать даже товары первой необходимости; что всем и каждому приходилось выкручиваться и нарушать закон; что преследование массовой нелегальной экономической деятельности со стороны неэффективной полиции если и не прекратилось, то в значительной мере утратило свой террористический характер, и архиепископ выдал общее отпущение грехов тем, кто был повинен в воровстве ради необходимого пропитания {72}. Кроме того, участие во второй экономике облегчалось, если не вознаграждалось, тем, что всякий знал: оккупационные власти сами глубоко вовлечены в нее – через своих солдат. Многие дорогие товары и предметы роскоши покупались именно у союзников, и сигареты – твердую валюту черного рынка – поставляли именно солдаты оккупационных войск. При этом двойной правовой стандарт применялся настолько неприкрыто, что немцам было ясно: дело было не в том, чтобы всем досталось справедливо по потребностям, а в том, чтобы рынок принадлежал сильнейшему.
Фотоаппарат на сигареты, а сигареты – на сало… С фотоаппаратом поехал в Гамельн, там сменял англичанам на сигареты… а потом в Мюнстерланд за салом… Я хотел аппарат поменять в фотомагазине [на картошку], но там не захотели. А дали совет: можно сменять англичанам, возле суда, т. е. возле английского военного трибунала. Пошел туда, а там как раз шло заседание. Судили одного – немца. Наказали за то, что он спекулировал английскими сигаретами. И тут выходит один из судей, берет у меня фотоаппарат и дает мне за него блок сигарет. Я мог с этими сигаретами уходить. И я еще подумал: хорошо бы не взяли меня на выходе с этими сигаретами. Тоже двурушничество такое было… Я полагаю, что и конфискованные сигареты они там при случае тоже потом дальше пустили. Да, сумасшедшее было времечко {73}.
Общественный порядок рухнул и не мог уже больше в достаточной мере регулировать удовлетворение гражданами своих потребностей, а потому сместились и представления о том, что такое порядок. Основной урок, который могли извлечь из всего этого люди в послевоенные годы, заключался в том, что не существовало никаких абсолютных (т. е., в частности, действующих и в условиях кризиса тоже) представлений о порядке и морали. Мораль, которой их учили прежде, оказалась теперь излишеством, от которого надо было освобождаться тому, кто хотел выжить в условиях второй экономики. Несколько респондентов, прежде всего представители «старой левой», рассказывали, что они сами или их близкие родственники не могли заставить себя воровать ради пропитания, торговать на черном рынке, просить подаяния у крестьян. Разумеется, есть и примеры того, как столкновение морали выживания с нормами добропорядочности мирного времени принимало пугающе гротескные черты: например, госпожа Везель рассказывает {74} – сравнительно бесстрастно – о том, как она ехала на поезде в Южной Германии и одна из пассажирок столкнула на ходу из вагона мужчину, больного чесоткой: а вдруг он заразный? Затем, не переводя дыхания, она сообщает, что во время этой поездки она ночевала у незнакомой женщины и, уходя, нечаянно забрала с собой серебряную ложку; потом еще много лет она всякий раз, как видела ложки, думала: «Что же я наделала?» Однако в большинстве случаев истории, рассказываемые нашими респондентами, повествуют о конфликтах, в которых человек оказывается не в состоянии усвоить новую мораль – такую, высшей ценностью которой является выживание, – и из-за этого его жизнь оказывается под реальной угрозой: так, например, госпожа Бергер со своими двумя детьми в конце войны едва не умерла с голоду, сидя в доме крестьянина рядом с его сковородкой, полной шкварок {75}.
Во многих случаях герои видят, как их моральные представления у них на глазах другими доводятся до абсурда.
Большинство рассказчиков усвоили этот урок: хватай, если предоставился случай, и ни за что не выпускай схваченное из рук. Ведь прежний обладатель этой вещи наверняка тоже имел на нее не больше прав, чем любой другой, кому она понадобилась. Интервью полны замечаний такого рода: «Скверное было дело – голодуха. Тут и становилось видно, кто чего стоит. Среди моих знакомых тогда не было ни одного, кто помогал бы, ничего не требуя взамен. Такого просто не бывало» {76}. «В послевоенное время было ведь тоже так, что каждый был рад, если у него у самого было что поесть» {77}.
Поскольку картофелехранилища в подвалах все время взламывали, отец госпожи Урбан оборудовал ларь для картошки (которую получил на шахте) у себя в спальне {78}. Даже тот адвокат, которому тяжело раненый на войне Пауль Якоб хотел поручить ведение судебного процесса против ведомства социального обеспечения, потребовал в качестве оплаты вперед телегу угля и бутылку шнапса {79}. А когда в 1947 году умер отец госпожи Кельнер, сосед-пекарь спросил у родственников покойного, что бы они предпочли получить: венок или кукурузный пирог. К тому времени уже укрепилась новая мораль, мораль выживания, и семья выбрала, естественно, пирог. Воспоминания госпожи Петерс о том, как она не могла попрошайничать и спекулировать, составлены еще из элементов как старой морали («я не могла просить милостыню»), так и новой («другие были оборотистее нас»), в то время как другим их неспособность добиться успеха во второй экономике представляется чистой воды поражением. Госпожа Вольберг и по сей день винит себя за то, что во время поездок в деревню за продовольствием говорила с крестьянами на их диалекте: ей ничего не удавалось получить, потому что наиболее состоятельные из крестьян не хотели признаться «местной» женщине, что не сдали государству продукты, как полагалось. А у Герды Герман {80} нежелание воровать со своего завода вещи для обмена сформулировано вполне на новом языке рынка: «А я была такая неразумная… Я ничего не могла добыть, ничего у меня не получалось». Но потом она реабилитирует себя, рассказывая историю о группе девочек, отправившейся на велосипедах на Нижний Рейн, где один крестьянин пустил их на ночлег, а утром подарил каждой по два фунта груш и отправился в церковь. А они в его отсутствие поделили между собой остальной урожай фруктов. Ульрике Ротер {81} в качестве оправдания тому, что не занималась попрошайничеством и спекуляцией, ссылается на то, что не умела ездить на велосипеде и была некурящей, так что сигареты, которые она получала, мог сбывать ее брат.
Новые установки усваивались очень быстро – ведь это была не личная позиция, которую нужно было бы оправдывать перед лицом общества, а общественная норма, от которой госпожа Петерс все еще отклонялась и потому выглядела скорее белой вороной в ситуациях, подобных вот этой:
Тогда от шведского Красного Креста поступала так называемая «шведская еда». Там каждому ребенку выдавали судок, в котором было с поллитра [супа]. Но женщины там были такие бессердечные, они давали детям только примерно по полпорции. И вот как-то раз пришел наш сын домой и говорит, там опять было совсем чуть-чуть. Ну я тогда пошла туда и задала жару, что ни стыда, ни совести у них нет. Они все покраснели. Но ничего не помогло, они все равно таскали суп домой. Нам ведь и уголь приходилось туда приносить для «шведской еды», и молочные фляги. А потом однажды мы устроили такой рождественский праздник, и там сидели за столом дети, свечи горели. И я увидала, как женщины набивали себе сумки. И мне сказали, чтоб я себе тоже что-нибудь взяла. Они вообще только о себе думали {82}.
Разумеется, такое возмущение, какое продемонстрировала раздатчицам «шведской еды» госпожа Петерс, еще могло кого-то заставить устыдиться; но характерно, что вообще-то никому не было стыдно, когда люди в условиях голода и нужды присваивали себе общественное или предназначенное для распределения среди нуждающихся имущество. То, что женщины, которых критикует рассказчица, сумели урвать что-то для себя, скорее могло считаться их вкладом в выживание их семей. Но нам не так важно установить, сильно ли изменилось само поведение (вероятно, не сильно), тем более что в этом отношении наши интервью-воспоминания представляют собой не очень надежные источники. Новая мораль выживания, которой после крушения фашизма не противостояла больше никакая другая сильная мораль, заключала в себе принципы, которым человек обучался в школе рынка. Деваться от них было некуда, потому что государство даже не сулило – а тем более не обеспечивало – элементарного прожиточного уровня. Большинство наших респондентов говорят или намекают, что они умерли бы с голоду или не нашли бы крова, если бы надеялись только на обычные карточки и жилищные ведомства. Но, скорее всего, они так же умерли бы с голоду, если бы питались только с черного рынка, ведь у них не было достаточного количества вещей, чтобы в течение долгого времени продавать или менять их на необходимые продукты. Таким образом, в школе черного рынка наши респонденты-рабочие учились не принципам свободной торговли: главный урок заключался в том, что одна лишь работа не гарантирует выживания, но не гарантируют его и государственные системы жизнеобеспечения. Пользование рынком было неизбежно – но это был не рынок экономистов-теоретиков, представляющий собой единственную эффективную систему распределения, где личная выгода многих складывается в общую выгоду. Тот рынок, с которым эти люди познакомились на собственном опыте, был скорее сферой борьбы и неравного обмена, который, с другой стороны, делал предметом обмена все что угодно. Это была сфера, усиливавшая несправедливость, превращавшая бескорыстную помощь в нелепость, разрушавшая солидарность и возводившая личное присвоение в систему. В то же время, эта сфера характеризовалась недостатком или негибкостью альтернатив, маломощностью и коррумпированностью. Однако она привлекала людей простором для фантазии, самоутверждения и свободной оптимизации возможностей.
Уроки, которые преподносили людям необходимость (впрочем, ограниченная) и страсть к приключениям, которая часто приводила к постыдным или неудовлетворительным результатам, – основная тема рассказов о добывании продовольствия и компенсации утрат в послевоенные годы; она излагается в бесчисленном количестве вариаций. Молох этого голодного рынка поглощал почти все – не только труд рабочих и ремесленников-надомников (многие начали изготавливать вручную заменители исчезнувших предметов быта) {83}, но и приданое дочерей, постепенно распродававшееся на толкучке, и страховку за погибшего мужа, которая ничего не стоила, пока ее не переводили в более твердую валюту – шнапс или сигареты; потом она могла превратиться, к примеру, в спальню. Тот факт, что человеку несколько раз подряд удавалось втереть восточнофрисландским крестьянам шахматные часы в обмен на картошку, показывает, что система обмена приобрела уже в значительной мере самостоятельный характер, т. е. отделилась от целей удовлетворения потребностей или помещения капитала, так что любые предметы, в которых можно было заподозрить какую бы то ни было ценность, превращались скорее в трофей, свидетельствующий о рыночном успехе, нежели в эквивалент товара или денег. Только в силу того, что госпожа Вольберг жила в деревне и была несколько лучше обеспечена основными продовольственными продуктами, чем люди сравнимого достатка в Рурской области, она могла позволить себе не отдать свояку, торговавшему на черном рынке, сервиз, сказав: «[Его] купил мой первый муж, и я с ним не расстанусь». Предметы, с которыми у нее были связаны воспоминания и чувства, она смогла сберечь от «тоталитарного» рынка в обществе выживания.
Но вместе с тем рынок предоставлял семьям наших респондентов и больше шансов, чем можно было бы предположить, слушая стандартные истории о том, как после войны распродавали фамильное серебро или отдавали крестьянам персидские ковры, которыми те выстилали коровьи стойла. Дело в том, что у наших рассказчиков подобных ценностей практически не было, их ресурсы были другого рода: во-первых, способность изготавливать или чинить необходимые предметы. В силу этого им часто были нужны различные редкие запчасти, которые они выменивали на другие, столь же редкие, или подбирали среди развалин. На сером рынке меновой торговли главным было оптимальное вложение средств.
Это же касается и второго фактора, не менее важного для Рурской области: систем пайков для шахтеров, занятых на тяжелых и особо тяжелых работах, и оплаты труда натурой на предприятиях, управлявшихся в это время в основном производственными советами, и в горнодобывающей отрасли, где эта система натуральной оплаты частично опиралась на продовольственные пакеты от американской благотворительной организации CARE {84}.
Все эти системы вознаграждения обеспечивали семьи занятых наиболее тяжелым трудом работников ценными продовольственными товарами, однако эти стандартные товары зачастую не соответствовали реальным потребностям семей; тем охотнее их пускали в обмен {85}. Значительная доля шнапса, сигарет, кофе и шоколада – валют черного рынка – была, по всей видимости, натуральной частью зарплаты рабочих. Соответственно, эти люди обладали большей покупательной способностью, нежели те, кто получал больше, но – обесценившимися деньгами. В качественном отношении весьма значительная часть дохода происходила из так называемых компенсационных трансакций[17]17
Под «компенсацией», или «компенсационными трансакциями» автор понимает приобретение недостающего имущества или продовольствия в обмен на ненужное.
[Закрыть]. Большинство интервьюируемых сообщают, что на предприятиях тяжелой промышленности распределялись товары повседневного спроса или что в трудовых коллективах имелись специальные работники, занятые не профильным производством, а жизнеобеспечением; в особенности же подчеркивается, что пайки и пакеты помощи от CARE, распределявшиеся на шахтах, открывали возможности для компенсационных трансакций. А в Рурской области очень многие имели отношение к шахтам – если не самое непосредственное, то все же достаточно близкое, чтобы получать эти блага. Продукты, которые по идее должны были получать шахтеры, чтобы повышать производительность добычи предназначенного на экспорт угля, распределялись, по-видимому, и среди служащих, занятых на шахтах или связанных с ними предприятиях, и, например, среди строительных рабочих, которые ремонтировали здание над входом в шахту {86}. В силу этого большинство работающего населения Рурской области, вероятно, и лучше снабжалось, и оказывалось в более выгодном положении на черном рынке, чем можно было бы ожидать, исходя из того, как мало в домах рабочих было имущества, годного для меновой торговли.
Господин Петерс работал тогда в строительной бригаде, ремонтировавшей квартиры, и он помнит, какой неоднозначной была ситуация: с одной стороны, те, кто тяжело работали, остро чувствовали голод; с другой стороны, они получали карточки, по которым им полагался дополнительный плотный обед. А поскольку они занимались ремонтом квартир шахтеров, то им полагался еще и паек горняка. Но, говорит он, те, кто работали под землей, жили еще лучше: в их квартирах всегда очень вкусно пахло. С другой стороны, ту рабочую обувь, которая полагалась строителям, хозяин фирмы менял на шнапс. Поскольку сам рассказчик прибыл с востока и у него ничего не было, то для начала ему пришлось искать и «доставать» все необходимые инструменты, использовать ночные горшки вместо ведер. Чтобы легально приобретать продукты, приходилось подолгу стоять в очередях; в этом отношении собственный садовый участок был большим подспорьем, тем более что располагался он рядом с большим пшеничным полем, и по ночам семья господина Петерса там срезала колосья, обмолачивала их, перетирая между ладонями, и молола зерно в кофейной мельнице {87}.
Подробности в рассказах наших респондентов говорят, впрочем, и о том, что «привилегии», которыми пользовались многие рурские рабочие, не обеспечивали им и их семьям нормального питания: эти люди были просто чуть менее голодными, чем остальные. Таким образом, значение описанной здесь качественной дифференциации, которую невозможно измерить в силу ее комплексного характера, заключается не в том, что она обеспечивала решительное улучшение уровня жизни: его частично сводили на нет условия, царившие в разрушенной городской агломерации Рурского бассейна. Значение этой дифференциации следует усматривать скорее в том, что доля рынка, занятая второй экономикой, воспринималась теми, кто был связан с горнодобывающей промышленностью, в качестве буфера, частично смягчавшего кризис, в то время как рационированное государственное распределение воспринималось как дефицитарное, характерное для плановой экономики.
5. Экскурс: власть рабочих на черном рынкеВыше, говоря о непосредственном воздействии второй экономики на людей, мы описывали ситуации научения новым принципам, таким как самопомощь, мораль выживания, компенсация. Эти принципы основывались на представлении, что приватизация и рынок – это путь к преодолению кризиса. Но здесь необходимо предостеречь читателя от некоторых неверных выводов: так, не следует думать, будто индивидуализация была единственной тенденцией, которую можно обнаружить в среде рабочего класса послевоенных лет; не следует думать, будто власть рабочих и ориентация на рынок в условиях расколотой экономики принципиально несовместимы друг с другом; и, наконец, не следует думать, будто не существовало политических альтернатив принятию капитализма в качестве пути выхода из одного из самых глубоких кризисов капиталистической экономики в Германии.
Я не буду здесь пытаться эмпирическим путем вывести эти коррективы из наших интервью, поскольку они в основном связаны, с одной стороны, с общей ситуацией в рабочем движении в период между Второй мировой и холодной войнами {88}, а с другой стороны – с социальным составом и деятельностью производственных советов и иных близких к базису элит рабочего движения, которые рассматриваются в двух других главах этой книги {89}. Я ограничусь тем, что на основании текстов интервью изложу некоторые краткие соображения, которые помогут проследить связи между рассматриваемыми здесь ситуациями научения базовым принципам повседневной борьбы за выживание, с одной стороны, и более общими тенденциями в рабочем движении вообще и деятельностью производственных советов в частности, с другой стороны.
Тенденции в сторону индивидуализации повседневной трудовой и бытовой деятельности среди рабочего населения Рурской области еще не приняли в первые послевоенные годы необратимого характера. Поведение людей заключало в себе амбивалентные возможности, которые лишь при взгляде из далекого будущего выглядят так, будто тогда, невзирая на все публичные демонстрации в пользу социализации, капиталистические принципы в практике второй экономики за недостатком эффективных альтернатив уже полностью закрепились. Тенденция в сторону индивидуализации вовсе не повсюду была необходимостью: везде в кадрах рабочего движения ведущие позиции занимало старшее поколение, чье политическое мировоззрение и стиль поведения сформировались еще в годы Веймарской республики. Не подлежит никакому сомнению, что координирующие структуры на предприятиях, в профсоюзах, жилых районах поначалу были полны духом культуры рабочего движения веймарских времен, хотя перспектива и была несколько искажена гнетущим массовым опытом периода фашизма. Младшее поколение, которое прошло социализацию в рядах гитлерюгенда и подобных ему государственных организаций, а после 1945 года, очевидно, стремилось побыстрее преодолеть шок от крушения своей прежней картины мира, ждало от старшего поколения инициатив и готово было принять их. Но, разумеется, это поколение не готово было следовать традиции бытового коллективизма и коллективных стратегий построения будущего. Поэтому все вопросы общество обращало к среднему поколению, которое было очень рано выбито из колеи мировым экономическим кризисом и только при Гитлере познало немножко нормальной жизни, которая, правда, вскоре была оборвана войной.
Еще более открытой перспектива представляется, если рассматривать уровни деятельности, которые открывались рабочему классу для самостоятельной активности в условиях низового вакуума власти при оккупационном режиме, построенном на принципе indirect rule[18]18
Принцип, использовавшийся в британских колониях: управление осуществлялось не непосредственно английскими властями, а местными органами, подчинявшимися им.
[Закрыть]. В том, что касалось жилищной и домашней сфер, рабочее население после краха коллективных организаций самопомощи, созданных антифашистским движением {90}, вынуждено было прибегать к семейным и индивидуальным стратегиям выживания, которые, по крайней мере частично, заставляли людей приспосабливаться к условиям рынка. На наивысшем уровне деятельности – в руководстве политических и профсоюзных рабочих организаций, а также в коммунальной и затем земельной администрации – у немцев было мало возможности проводить свои интересы как «снизу вверх», так и «сверху вниз»: рамки деятельности были заданы оккупационными властями и в основном ограничивались легитимационными и организационными функциями. На этом уровне, правда, поначалу пропагандировались традиционные социалистические цели, направленные на преодоление кризиса, парализовавшего страну; в форме государственного рационирования и распределения они частично были уже реализованы. Однако этот уровень практически не соприкасался с заботами населения о выживании, и оно в основном просто с одобрением принимало его как данность {91}.
Поэтому здесь интерес тоже направлен был на промежуточный уровень, а это в данном случае были близкие к рабочему базису кадры коммунальной администрации и профсоюзного движения. В Рурской области было много освобожденных членов производственных советов на крупных предприятиях тяжелой промышленности (где вместе с тем позиция работодателя была, хотя бы временно, лишена прежнего характера высшей власти, поскольку многие предприятия были конфискованы, а многие владельцы и высшие управленцы себя скомпрометировали или были арестованы) в силу чего там, по всей видимости, в самом деле наличествовал дееспособный промежуточный слой, который был в состоянии конкретно организовывать и удовлетворять интересы работников {92}. В первые послевоенные годы производственные советы были не столько органами внутризаводского представительства и посредничества, сколько исполнительными органами рабочей власти, в одно и то же время и законодательствующей, и исполняющей законы {93}. В условиях почти полного правового вакуума они потенциально могли присваивать себе любые компетенции. Все вопросы решались напрямую: свидетельство о непричастности к нацистской партии для управляющего в период денацификации (за это он должен был подвергаться проверкам и благодарить); представление интересов предприятия вовне – перед оккупационными властями и коммунальными органами; вопросы найма и увольнения персонала; освобождение самих членов совета от работы на производстве; неденежные формы оплаты труда (например, компенсационными товарами); использование труда работников для целей, не относящихся к производственному процессу. И эти всеохватные компетенции, как правило, включали в себя даже представление интересов трудового коллектива на черном рынке с использованием продуктов и оборудования, принадлежавших предприятию.
Если внимательнее изучить сообщения опрошенных нами членов производственных советов, то становится ясно, что эти виды деятельности больше соответствовали представлениям послевоенных советов или антифашистских комитетов о круге своих задач, нежели представлениям советов рабочих и служащих веймарского периода или тем более представителей «Немецкого трудового фронта». Иначе говоря, они выходили за пределы прежнего опыта членов производственных советов и предъявляли к ним новые требования в силу чего те их глубже всего переживали и лучше всего сохранили в памяти. Формулировки вроде «в то время я, собственно, был предпринимателем», «профсоюз может вообще все», «если завод будут демонтировать, то делать это будем мы» {94}, отражают ощущение собственной силы, которое было у членов этих советов. Конечно, они мало задумывались о том, что было за пределами территории их предприятия, потому что были слишком заняты; но в пределах этой территории они чувствовали себя теми, от кого на самом деле все зависело, по крайней мере в Германии. Что касается фабричных советов в Италии и Франции после освобождения, то о них в литературе сообщается {95}, что на протяжении многих лет усилия даже левых правительств, направленные на нормализацию, сталкивались с сопротивлением стремившихся к самоуправлению трудовых коллективов. Это явно можно отнести и к некоторым германским предприятиям, особенно в тяжелой промышленности Рурского бассейна. Особое положение Германии в период оккупации, похоже, в силу различных причин скорее способствовало поддержанию этой власти рабочих на предприятиях, чем ограничивало ее. Конфискации и угрозы демонтажа заставляли старых владельцев и управляющих – если они были на месте – соглашаться на компромиссы. Оккупационные власти были заинтересованы в максимальном объеме производства, по крайней мере в горнодобывающей отрасли, – а для этого нужны были рабочее представительство и система поощрения за счет натуральных выплат. И наконец, за недостатком национального суверенитета правящие круги практически не могли оказывать серьезное дисциплинирующее воздействие на заводские кадры. Производственные советы действовали в условиях вакуума государственной власти.
Эта структура смогла функционировать в разных формах и в разной степени на протяжении нескольких лет в основном благодаря расколотой экономике, т. е. смеси из государственного рационирования и черного рынка. В той части распределительной системы, которая действовала, решения монопольно принимались на уровне более высоком, нежели уровень предприятия, и туда советы допускались самое большее с совещательным голосом. В полноценной рыночной экономической системе советы сосредоточивались на разрешении профсоюзных и внутризаводских конфликтов. А в раздвоенной экономической системе многие распределительные и компенсационные функции были не заняты, и это предоставляло производственным советам огромную свободу действия, в частности с целью организованного отстаивания интересов представляемых ими работников в репродуктивной сфере. В этом направлении деятельности, похоже, царило единодушие, в то время как в остальном советы были расколоты на политические фракции (впрочем, спорили они о дальних перспективах, которые все равно от их решений не зависели). Организованное участие в торговле на черном рынке касалось базовых потребностей людей, и это придавало ему легитимность. Когда один член производственного совета вернулся из Зауэрланда с грузовиком, полным смальца, и «каждый получил по семь фунтов смальца, – и солдатские вдовы тоже, и заводское начальство тоже, каждый малец» {96}, тогда никто не думал ни о каких партиях, тогда все были просто товарищами по работе. Переход на производство мирной продукции, как рассказывает другой респондент, могло заключаться, например, в том, что завод начинал изготавливать большие алюминиевые кастрюли, чтобы выменивать на них у крестьян продукты, и производственный совет вводил тройную бухгалтерию: поскольку поблизости от Рурского бассейна было слишком много желающих вести компенсационный обмен с крестьянами, эмиссары отправлялись дальше, до Гелле, везя от завода наряду с кастрюлями гвозди, рабочую обувь и тому подобный меновой товар. «Потом и велосипеды, и шины велосипедные …это все честно записывалось: этот получил то, этот – то, и потом все это обменивали. Мы ж только этим и жили» {97}. Могло быть и по-другому: производственный совет мог превратиться в объединение с целью коллективной кражи угля. Один железнодорожник рассказывает, что на станции уголь, оставшийся от паровозов, был продан налево, и кочегары экономили брикеты. Тогда производственный совет собрал остатки и оптом обменял их на продукты {98}.
Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?