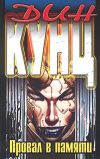Текст книги "Вопросы к немецкой памяти. Статьи по устной истории"

Автор книги: Лутц Нитхаммер
Жанр: Зарубежная образовательная литература, Наука и Образование
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 22 (всего у книги 46 страниц) [доступный отрывок для чтения: 12 страниц]
Если отношение трудовых коллективов к своим производственным советам {99} рассматривать на фоне этой расширенной сферы компетенций, которая включала в себя и предпринимательские, и политические функции и далеко простиралась в область производства и обеспечения, сплетая их друг с другом, то невозможно не заметить, что рядом с профсоюзными и политическими возникли отношения патроната. Можно даже утверждать, что они в первые послевоенные годы были самой важной связью между руководством и базисом, потому что единый профсоюз сглаживал разъединенность политических фракций, а профсоюзные задачи в условиях, когда зарплата не выплачивалась, оказались лишены своего традиционного ядра. Поэтому наступила героическая фаза того, что позже получило презрительное название «сращивания». В этот период производственные советы взяли на себя посреднические функции, закрывая лакуны раздвоенной экономики; эта их деятельность в общеэкономических масштабах имела, конечно, лишь маргинальный характер, однако для клиентов из числа работников предприятия это посредничество совета-патрона было жизненно важно. Одновременно советы посредничали и между руководством рабочих организаций, чьим социалистическим программным целям мало способствовали их узкие сферы компетенции, с одной стороны, и рабочими – с другой. Рабочие и их голодные семьи по необходимости интересовались прежде всего жильем и продовольствием, но достаточной мощью для ведения компенсационной меновой торговли на черном рынке обладали не индивидуально, а лишь как целый трудовой коллектив. Из этой прагматической легитимации проистекал главный поучительный эффект этой посреднической рабочей элиты: традиция представительской деятельности, концентрация на обеспечении выгод и компетенция во всех вопросах (правда, со временем становившаяся все более нематериальной). Путь к этому результату был вымощен разочарованиями, ибо он уводил от социалистической системы координат, на которую были спроецированы легитимации организованного участия в экономике черного рынка. И старые бойцы, и новообращенные изначально шли в профсоюзные или политические организации не за тем, чтобы ездить по деревням Люнебургской пустоши и обменивать для сослуживцев ванны на сало. Когда в интервью заходит речь о первых шагах локальной политической деятельности, опрошенные постоянно повторяют, что поначалу в спектре было всего два цвета: католический черный и коммунистический красный {100}. Фактически это неверно: социал-демократы в первые послевоенные годы были сильнее, чем когда-либо прежде, но, правда, и «краснее», чем когда-либо потом. Но эта двуцветная картина правдиво передает атмосферу: старшее поколение рабочих стремилось возродить и сохранить старые традиции рабочего движения, которые хорошо зарекомендовали себя в католических или коммунистических объединениях. Уже хотя бы по этой причине дробление нового единого профсоюза на политические фракции было в то время совершенно естественным. Младшее поколение искало прежде всего смысла, системы мышления, ориентации в экзистенциальных вопросах жизни и новых общностей («Это крушение, это чувство бессмысленности того, во что верил и чего теперь больше не было, – [это продолжалось] очень недолго» {101}). И тем, и другим – «традиционалистам» и временным «экзистенциалистам» – католики и коммунисты предлагали альтернативные ориентации и общности, основанные на мировоззрении. А в том, что касалось вопросов формирования хозяйственного порядка, их программы постепенного перехода к социализму в то время не сильно отличались друг от друга и от программы СДПГ. Прагматическая же деятельность их представителей на предприятиях была вообще почти одинаковой, хотя клиентела у них на попечении была разная и по вопросу о нацизме у них были разногласия.
И тем не менее в повседневной жизни первых послевоенных лет молодые и старые, черные и красные оказались разобщены. Они действовали обособленно, но все говорили с большинством рабочего класса не на своем языке, а на прагматическом языке ремонта квартир, компенсационной меновой торговли, натуральной оплаты труда. Функционеры всех трех направлений чувствовали, что рабочие массы лишали их главной миссии тем вернее, чем сильнее они сами чувствовали себя связанными социалистической программой и чем больше эта программа блокировалась оккупационными властями. Проповедовать свои цели трудовым коллективам, состоявшим из людей, чьи мысли были сосредоточены на семье и будничных заботах {102}, значило бы для социалистических активистов из любой фракции превратиться в сектантов. В зазоре между политикой оккупационных властей и потребностями рабочего класса они ощущали сильное давление, заставлявшее их приспосабливаться, рутинизировавшее их героический прагматизм первых лет и сужавшее их локальную всеохватную компетенцию до роли внутризаводских посредников. Это принудило их к многословному молчанию. Опыт после 1947 года создал у них устойчивое впечатление, что две их лояльности: рабочему классу, с одной стороны, и социализму – с другой, были несовместимы друг с другом. Их прежние понятия превратились для них самих в пустые слова или ругательства. Один из опрошенных, долго сопротивлявшийся такому вынужденному переходу с идеологизированных позиций на прагматические, формулирует это красноречивой фразой: «Здесь тогда еще время не пришло для тогдашнего времени» {103}.
6. Отсчет перед стартом. Миф о несправедливости и порядкеНи одно событие не вписалось настолько всеохватно в опыт населения Западной Германии, как денежная реформа 20 июня 1948 года {104}. Помимо 1945 года, это – единственная веха, которая используется людьми для датировки других событий в их жизни; это событие знают все, и его значение все интерпретируют одинаково. До него – только война, после него – 1950-е годы, время прогресса, лишенное событий. Никому из наших собеседников не пришло бы в голову, датируя то или иное событие своей личной или трудовой биографии, сказать, что оно имело место до или после создания ФРГ, не говоря уже о менее значительных исторических вехах – таких, как создание федеральной земли Северный Рейн-Вестфалия, провозглашение плана Маршалла, создание Единого профсоюза, решение об участии трудовых коллективов в управлении предприятиями или о создании Европейского сообщества угля и стали, восстание 17 июня 1953 года или окончание оккупации Германии войсками союзников. В большинстве интервью эти даты вообще не упоминаются, но очень часто, напротив, мимоходом говорится, что то или иное событие было «еще до» или «уже после денег», – и каждому понятно, что речь идет о разных эпохах, отличающихся друг от друга своими структурами, правилами и перспективами.
При этом личные воспоминания об этом событии столь же разнообразны, сколь и тривиальны. Большинству респондентов в ходе интервью был задан вопрос, что они сделали с теми 40 марками, которые каждый мог получить при первом обмене. Разброс ответов очень велик и не всегда согласуется с тем значением, которое придается денежной реформе как переломному моменту в истории общества. Большинство опрошенных отвечают, что купили одежду или еду; другие сообщают, что приобрели билет на поезд, чтобы поехать в сельскую местность за продуктами или в Зауэрланд за ягодами. У одного водителя грузовика не хватало денег даже на то, чтобы поменять всю разрешенную сумму; одна женщина, выходившая замуж, вынуждена была почти все накопленное отдать в качестве приданого. Одна учительница купила мужу велосипед – базовые потребности были, очевидно, уже удовлетворены. Супруга одного шахтера наняла каменщика, чтобы он отремонтировал дом ее родителей, в котором она не жила {105}. А жена одного столяра, тогда бывшая домохозяйкой, но впоследствии преуспевшая в розничной торговле, даже рассказывает, что отнесла эти сорок марок на серый рынок: супруги оплатили этими деньгами транспортировку своего спального гарнитура в то место, где могли обменять его на медную проволоку, с тем чтобы проволоку эту в другом месте поменять на строгальный станок, который позволил столяру открыть собственную мастерскую {106}; первым делом он, наверное, сработал себе новый спальный гарнитур. Обходным путем эта история показывает в заостренной форме значение денежной реформы для частной жизни людей.
Такой мгновенный «старт» – сюжет из легенд об экономическом чуде. У большинства опрошенных после обратного отсчета никакого старта ракеты не последовало, и к потребительскому прогрессу они стали причастны лишь спустя какое-то время. Кроме того, денежная реформа не изменила положение большинства из них в профессиональном плане, во всяком случае – не повысила их статус. Наоборот, многие рассказывают, что в результате денежной реформы их уволили или грозили уволить с работы. Твердая валюта снова ввела в действие неумолимые силы рынка, так что предприятиям и учреждениям приходилось пересматривать свои штатные расписания. Некоторые ремесленники и владельцы малых предприятий сферы обслуживания оказались не в состоянии платить зарплату своим работникам и вынуждены были либо кормить их обещаниями, либо увольнять. И если бы не наступил «корейский бум», то начавшийся в 1949–1950 годах экономический кризис, который вызвал рост безработицы {107}, мог бы привести к тому, что денежная реформа, ставшая классикой монетаристской теории, завершилась бы социополитической дезинтеграцией. Но поскольку многие находили индивидуальные пути выхода из безработицы, а высокая конъюнктура в связи с «корейским бумом», приведшая к долговременному подъему, сократила период безработного существования, этот политэкономический эффект реформы в народном историческом опыте почти не фигурирует: там главную роль играет не рынок труда, а рынок товаров. Странный контраст с рассказами респондентов о том, как они сами распорядились причитавшимися им суммами, образует их зрительское переживание эффекта денежной реформы: из интервью в интервью повторяются штампованные фразы, описывающие неслыханное чудо: «Выдали нам на руки наши 40 дойчмарок на брата. На другой день витрины были полные – все было. Откуда товары взялись – не знаю; за один день. Необъяснимо» {108}.
Другие начинают так же, но потом делают следующий шаг и формулируют вывод из описываемого:
Вдруг все появилось. Что ни возьми, о чем только помечтать могли, например, вот скажу только: ковер, ковер «Балатон», как их раньше называли, эти синтетические ковры. И вот – на другой день после денежной реформы можно было видеть, как люди тащили эти ковры. О них уж и не помнил никто совершенно, что они вообще были. И вдруг они появились. Вдруг все появилось. То есть, значит, торговцы все придерживали {109}.
И тоже, как деньги появились, с этого дня у них во всех магазинах все было. Как за одну ночь, словно на самолетах все привезено было. Все, значит, как следует отложено было. И вот они подоставали шмотки из углов, как только снова наличные деньги появились. У них же тут вещи попрятаны были до самого Зауэрланда… И вот они с ними вышли. Они за первый день, за первый день они выручили уже тысячу марок. И это деньги были, понимаете? {110}
Но часто рассказчики не только разоблачают это чудо: помимо изумления и скепсиса в их словах до сих пор звучит ярость. Например, один служащий среднего звена рассказывает: он думал – с денежной реформой снова началась нормальная жизнь и за один день «стало можно все купить», а его сбережения взяли и пропали, а другие люди лишились работы. «На самом деле это был обман» {111}. Другой административный служащий вновь и вновь возвращается к этой теме: магазины вдруг заполнились; те, кто раньше прятали товар, были величайшими мошенниками. В другой раз, описав свою радость по поводу ликвидации черного рынка с приходом новой валюты, но и не желая расстаться со своими обидами, он приводит противоречивый аргумент: тогда, говорит он, была обещана компенсация ущерба, нанесенного войной, но ничего серьезного в этом плане так и не произошло, а у крестьян после 1945 года ковры лежали повсюду вплоть до хлева, и тройное приданое было – для детей, внуков и правнуков {112}. Этот человек явно чувствует себя дважды обманутым: и черный рынок был обманом, и его ликвидация тоже. Возможно, он особенно критичен потому, что раньше был нацистом. Но никто не мог закрыть глаза на эту амбивалентность денежной реформы; одна коммунистка говорит со знанием дела: «Валюта – это был первый шаг к разделу [Германии]. Мы все это знали». А недолгое время спустя она же взволнованно рассказывает, как на первые 40 марок она купила себе туфли, мужу пиджак «и для ребенка, конечно» что-то {113}. Другая свидетельница, впоследствии тоже коммунистка, – та, которая прежде, ссылаясь на возвращение синтетических ковров, обличала тех, кто скрывал товары, – подводя итог, все же говорит: «Да, лучше стало, на самом деле, после денежной реформы. Да, это, пожалуй, так» {114}.
Предварительный вывод таков: денежная реформа есть политическое событие в историческом опыте послевоенного времени, которому приписывается принципиальное значение с точки зрения формирования макроэкономического порядка: от двойной экономики – к рыночному хозяйству, от авантюристического самообеспечения в условиях дефицита – к трудовой дисциплине и росту потребления. Это событие, пожалуй, – единственный случай, когда решение, принятое властями, стало непосредственно заметно и ощутимо в повседневной жизни буквально для каждого человека. При этом в связи с денежной реформой наблюдается сильнейшее чувственное переживание опыта встречи с властью: это была новая встреча с оккупационной администрацией, которую рабочее население Рурской области после контактов с первыми солдатами союзнических армий почти потеряло из виду, занятое в годы черного рынка вырабатыванием способов выживания. Но теперь власть победителей возникла на сцене не только в персональной, но и в структурной форме. Акт введения ею новой валюты выглядит чем-то вроде акта творения: да будет свет во тьме черного рынка – и стал, в самом деле, рынок. Идея ликвидировать черный рынок не путем подавления, а путем отмены государственного рационирования и распределения, была просто гениальной. Однако нет практически ни одного человека среди наших собеседников, кто не разгадал бы фокус и забыл бы обман: то, как несправедливо ограбили тех, у кого были деньги, и одарили тех, у кого были товары; то, что компенсация ущерба, нанесенного войной, тогда так и не состоялась и лишь в небольших дозах была осуществлена позже; то, что мошенники и асоциальные элементы, которые прятали от терпевшего нужду населения предметы первой необходимости, теперь были вознаграждены; то, что недвижимое имущество и средства производства стали цениться вдесятеро дороже, а новая финансовая дисциплина на предприятиях привела к уничтожению множества рабочих мест. Память об этой несправедливости жива, но лишь в форме недовольного ворчания по поводу решения, которое было авторитарно принято властями, не допускало альтернативы и было оправдано успехом. Поскольку наши свидетели на другой день после денежной реформы впервые за многие годы соприкоснулись с тем обществом товарного потребления, в котором они в последующие десятилетия в значительной мере искали исполнения своих жизненных мечтаний и планов, это переживание, хоть и было лично для них весьма неоднозначным и оставило у многих ощущение обмана, все же выглядит для них мифом о начале золотого века. А вот тогдашняя попытка манипуляции общественным сознанием, когда, выдавая равную сумму на каждого, пытались временным ритуалом равенства замаскировать социальную несправедливость, явно не удалась: все помнят квоту в 40 марок на душу населения, однако никто не ассоциирует ее с социальной справедливостью: только с экономической эффективностью.
Здесь можно отчетливо увидеть ретроспективный характер мифа о денежной реформе как о предстартовом отсчете перед началом экономического чуда, поскольку воспоминания резко отличаются от представлявшейся тогда средствами массовой информации картины крупного комбинированного события, составившегося из денежной реформы, блокады Берлина и воздушного моста, а также создания западногерманского государства в результате передачи так называемых франкфуртских документов премьер-министрам западногерманских земель {115}. Две другие составляющие в наших интервью ни разу не фигурировали при спонтанных упоминаниях о денежной реформе, хотя в дискуссиях с политически активными респондентами этот контекст иногда упоминался. Что же касается большинства опрошенных, то денежную реформу каждый из них познал на непосредственном повседневном опыте, а потом они ее ретроспективно встроили в историю как политический день рождения либерально-капиталистического «экономического чуда», как дату зарождения того самопонимания немцев, которое предусматривает существование военных баз союзников и холодную войну точно так же, как парламентский строй и правовое государство, однако не делает их темой для обсуждения.
Третий элемент мифа о происхождении послевоенного общества – это роль самих носителей опыта: все они абсолютно пассивны; их, так сказать, загоняют дубиной в рай – в новую структуру, в сплетение норм, в котором они потом могут добиться (или не добиться) собственного счастья. Не все среди наших собеседников одобряют эту структуру, но ни у кого нет альтернативы ей. Это не значит, что так было уже и в 1948 году: против такого предположения говорит мощный отзвук озлобления по поводу издержек денежной реформы, которые пришлось нести «маленькому человеку». Подлинное значение этого мифа становится ясно лишь тогда, когда мы отдадим себе отчет в том, что другого мифа (скажем, о создании демократии) не существует, и если мы сравним его с подобными мифами других буржуазных демократий – «Бостонским чаепитием», провозглашением третьего сословия всеобщим в начале Французской революции или клятвой на Рютли. Мифы об основании демократий описывают героический шаг к созданию сообщества, которое желает жить по своим принципам, устанавливает эти принципы и отстаивает их в борьбе. Демократы послевоенной Германии не обладают таким генетическим самопониманием, которое основывалось бы на акте, воспроизводимом во время праздников и поддающемся новому толкованию. Их миф о создании демократического немецкого общества и государства связан с рынком и экономическим ростом, и? вспоминая его, они вспоминают административное решение, которое было принято властями и о котором они узнали только в качестве его адресатов. В их опыте оно осталось как несправедливость, которая, однако, принесла им выгоду и не имела альтернатив.
Ретроспективный взгляд из сегодняшнего дня усиливает значение смены перспектив, которую – пусть более смутно – ощущали люди уже и в то время. Обратимся еще раз к тому воспоминанию, о котором рассказывают наши респонденты. Нижеследующая история представляет собой ответ на вопрос, заданный господину Гайслеру: «Когда снова началась нормальная жизнь?»
Клаус-Юрген Гайслер – сын рабочего, проведший важнейшие годы детства в гитлерюгенде и в деревне, куда был отправлен вместе с другими городскими детьми в конце войны; потом был в «Соколах»[19]19
Социалистическая молодежная организация.
[Закрыть], в 1948-м пошел получать техническую специальность в тяжелой промышленности; сегодня – член производственного совета, социал-демократ. Вот его ответ:
Нормальная жизнь началась – я бы сказал, почти нормальная – это для меня тоже было большое событие: я помню, мы с «Cоколами» в 1948 году в день денежной реформы в выходные стояли палаточным лагерем на берегу Ведау. И в день обмена – это было воскресенье, – нам пришлось специально вернуться из Ведау в Эссен, чтобы поменять эти 40 марок, полагавшиеся на душу населения. Надо было лично являться. И когда мы вечером вернулись – там у нас была столовая, где мы встречались, когда не было официальных вечеров в группах; так вот, в этой столовой неожиданно, уже в тот же день, можно было купить вино. До тех пор было только дрянное пиво; а в тот день тут же появилось вино. Помню, мы скинулись и купили себе бутылку вина – три пятьдесят или сколько она там стоила, порядка того. И в понедельник – самое удивительное было, что опять продавались товары, которых до того совершенно не было на рынке. То есть в течение первой недели можно было снова купить велосипеды, кастрюли и бог его знает что еще, чего прежде не было. К тому времени и продовольственное снабжение уже наладилось, так что продуктов уже не такая нехватка была. Но такие продукты вдруг продаваться стали, каких раньше не бывало: фрукты появились и так далее, что, значит, прежде куда-то по темным каналам уходило. Но когда снова появилась толковая, стабильная валюта, все вдруг снова появилось в продаже. Это для нас, молодежи – мне тогда, в 48-м, было 17 лет – было совершенно непостижимо.
Интервюер: И как, это повысило ваше доверие к новому государству под властью западных держав или нет?
Гайслер: К государству? Я тогда вовсе не рассматривал это […] в связи с государством, я тогда скорее так рассматривал, что те, кто, значит, владел материальными средствами, кто, значит, их придерживал, потому что на деньги мало что купить можно было, когда вдруг снова появились деньги, у которых была прочная база, вдруг [достали] свои припрятанные [товары]… – это было скорее такое чувство по отношению к капиталистам, которые теперь снова на глазах стали жиреть. То есть это даже и не связывали особо с государством.
И.: То есть это было скорее чувство озлобленности?
Г.: Озлобленности, да, конечно. Что, значит, внезапно, после того как появилась новая валюта, внезапно такое предложение товаров на рынке было, которое и раньше должно было бы быть, ведь не с неба же все вдруг свалилось. Где, значит, те, кто владел имуществом, производственными возможностями, их скрывали. […] То есть представить себе невозможно было, сколько всего можно было теперь купить. Ассортимент был такой большой, вещи, которых раньше было не купить, начиная с одежды до велосипедов, – я тогда очень интересовался велосипедами, потому что хотелось быть помобильнее, а велосипед тогда был инструментом мобильности {116}.
Беседуют молодой историк и ведущий член производственного совета, который в интервью то и дело умудряется связывать личное с политическим. Историк проверяет тезис, что нормальная жизнь проистекает не из специфических норм, а из того, что не утрачивает силы и на протяжении долгого времени рассматривается как обычное («Нормально – это как есть») {117}. И вот он хочет спросить, когда это началось – датируется ли это моментом в жизни человека или историческим временем? Современная эпоха как пространство опыта. Можно было бы предположить, что нормальная жизнь образуется медленно, как бы неприметно, что у нее есть структура, но нет начала. Ничего подобного: опыт современности начинается в определенный день, который можно точно назвать и с которым связаны воспоминания об интенсивных переживаниях. Это тот день, когда в их столовой дрянное пиво было превращено в вино, когда пошли все, каждый в свой город, менять все свои сбережения на 40 марок. Этот опыт в высшей степени амбивалентен. Ощущения, надо думать, были примерно такие же, как у гражданина ГДР, когда он до возведения стены приезжал в Западный Берлин и с рук менял свои восточные марки (по курсу четыре к одному или даже ниже): в тот самый момент, когда он чувствовал свою бедность, перед его глазами вставало богатство предлагаемого ассортимента, которого он прежде не видел и потому свои немудреные потребности изобретательно удовлетворял множеством иных путей – через свой заработок, через тетушку на Западе, через социалистические каналы, через стратегии самообеспечения, через черный рынок. И вдруг – внезапно, благодаря простому пересечению границы, условия существования которой были для этого человека далеки, чужды, абсурдны и неизменимы, – вся эта эфемерная реальность, способствовавшая всестороннему раскрытию личности, сплющивалась до одного-единственного фактора: наличности. У кого есть – у того есть; у кого нет – тому плохо.
К этому времени общественные регулятивные системы уже не заменяемы, они заданы безальтернативно. Они требуют подчинения и манят товарами, по которым человек долго тосковал. Теперь это уже не продовольствие, которое было главным в первые годы общественного кризиса: транспорт и международный обмен уже наладились, с голодной зимы 1946/47 года прошло уже полтора года. Вместо полезного, но унизительного и нерегулярного подаяния в виде пакетов от СARE, объявлен план Маршалла – более продуктивная, общественная перспектива содействия развитию Старого Света. Тем, кто владел информацией, было понятно, какие варианты это означало, – но кто тогда владел информацией? Решение по поводу того, какой вариант выбрать, принимается где-то — ни в одном из наших интервью опрошенные не называют тех богов, которые, сидя за облаками, так эффективно правят страной. И вдруг – всем подарки, но стол с подарками стоит за стеклом, и на нем лежат главные инструменты общественной репродукции и дифференциации: вкусности, одежда, снаряжение, мобильность.
Почувствовать особенный характер опыта денежной реформы можно только в том случае, если хотя бы в фантазии, мысленно еще раз позволить себе то, что поначалу кажется естественным шагом, однако ни разу даже близко не встречается в воспоминаниях наших рассказчиков: разбить витрину и просто присвоить себе вынутые из тайников товары, этот свадебный подарок черного рынка рыночной экономике; на фоне того, что творилось в предыдущие годы, этот поступок был бы в моральном отношении совершенно нейтральным. Среди рурских рабочих, делившихся с нами своими воспоминаниями, наверное, нет ни одного, кто не приводил бы нам веские доводы за то, чтобы разбить эти витрины; нет ни одного, кто не выражал бы озлобление, подобное тому, о котором говорит господин Гайслер; но нет среди них и ни одного, кто хотя бы подумывал о том, чтобы в самом деле так поступить. Скорее бросается в глаза то, как в воспоминаниях господина Гайслера постоянно пересекаются три ассоциативные линии: во-первых, ярость по отношению к капиталистам, которые снова вылезли наверх, и к их темным каналам; во-вторых, восхищение ассортиментом и возможностью купить почти все, что только можно захотеть, и в том числе именно те инструменты, которые могут помочь вырваться из «животной жизни»; в-третьих – табуирование вопроса о власти. То, что новую валюту помнят как «твердую» с первой минуты, а построенную на ней экономическую систему – как перспективную и нормальную, объясняется, наверное, тем, что в длительной перспективе она именно такой и оказалась.
И все же представляется, что и тогда уже было некое молчаливое ожидание того, что только с приходом капиталистического рынка вновь появится перспектива. Мне кажется, что в безальтернативности ожидания (ведь озлобление по поводу несправедливости остается озлоблением и не дает возможности выработать никакой эффективной альтернативной стратегии) видно разочарование в существовавшей в годы национал-социализма и оккупации системе государственного рационирования и распределения как ублюдочной форме социализма, которой противостоял позитивный опыт собственной активности людей на черном рынке. Все, что выходило за пределы чистого обеспечения выживания (а зачастую и оно тоже), в государственной системе дефицитарного управления было недоступно, а через вторую экономику в принципе достижимо, но там не действовали ни право, ни мораль, а все решали выгода, ловкость и готовность к риску. Переход от черного рынка к рыночной экономике посредством санации денежной системы лишал людей опоры в виде государственного дефицитарного управления экономикой, но устранял и аргументы против рынка, приводя обменные процессы к определенному стандарту, делая их тем самым доступными для расчета и открывая капиталистическую перспективу. Пусть даже профсоюзы через некоторое время инсценировали символическую всеобщую забастовку протеста против того, что не состоялась компенсация военного ущерба: у них в запасе уже не было принципиальной альтернативы, они стремились лишь смягчить несправедливость, зримо подтвержденную сменой системы. Кроме того, оккупационные власти не дали им осуществить их намерения {118}.
На вопрос историка, стало ли изобилие товаров после денежной реформы поддержкой для государства, господин Гайслер отвечает отрицательно – и не только потому, что в вопросе, конечно, содержится анахронизм: государство? Какое государство? Новое государство возникло лишь год спустя, решение о его создании державы-победительницы приняли одновременно с денежной реформой и сплочением западного мира в условиях холодной войны. Правда, были правительства земель, но они очевидным образом не имели отношения к такому крупному событию, как денежная реформа. А те, кто имели к ней отношение, – военная администрация западных держав – было ли это государство? С ним господину Гайслеру трудно было связать денежную реформу, поскольку у него отсутствовала одна важная черта демократического государства: возможность общественной дискуссии по поводу фундаментальных решений в области экономической политики, определяющих макроэкономические процессы. В данном же случае эти фундаментальные решения были принесены извне, с позиции победителя, когда в Германии не имелось даже государственного инструментария для разрешения конфликтов. Тем самым в ходе зарождения нового государства демократия как надстройка оказалась отделена от установления несправедливого, но эффективного экономического строя некой высшей силой, которая для масс западногерманского населения и в особенности для тех слоев, из которых происходят наши собеседники, была политически недостижима и чье решение поэтому приходилось принимать как данность. Принятие этой данности облегчалось, однако, не только подчиненным положением неимущих и отсутствием альтернатив, но и школой рынка.
А кроме того, оно облегчалось тем, что в озлоблении против капиталистов – обманщиков, нажившихся на этом решении, – можно было снять груз ответственности с себя и разделить всех на традиционные враждебные лагеря, которые были в социально-экономическом отношении противоположны друг другу, однако в политико-культурном отношении не представляли такой принципиальной противоположности. Готовность к рынку, желание приобретать товары смешивались с моральным протестом против реставрации, но политическая составляющая в этой смеси отсутствовала: она не могла быть заявлена перед лицом сложнейшей международной и социальной конфигурации властей предержащих. Поэтому и критика в адрес немцев, извлекших выгоду из денежной реформы, застряла в антикапиталистическом озлоблении, в то время как наглядно проявившаяся в ней макроэкономическая структура в силу своей немедленной продуктивности могла быть принята в качестве базы для консенсуса, который основывался не на политическом сознании, а на более примитивном фундаменте.
Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?