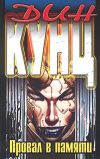Текст книги "Вопросы к немецкой памяти. Статьи по устной истории"

Автор книги: Лутц Нитхаммер
Жанр: Зарубежная образовательная литература, Наука и Образование
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 36 (всего у книги 46 страниц) [доступный отрывок для чтения: 12 страниц]
В заключение на примере двух историй продемонстрирую значение фактора времени (восемь лет после крушения Третьего рейха) и прежнего опыта в формировании точки зрения, трещину национального раскола, прошедшую даже через индивидуальный опыт, и размывание перспектив. Эти две истории не вписываются в классификацию типов опыта, а как бы с периферии бросают специфический свет на историческую ситуацию. Одна история рассказана с позиции внутренней отдаленности, другая – с позиции внешней близости.
Первую историю рассказал нам один польский еврей, который сбежал из Освенцима, сражался в партизанском отряде, а в 1945 году в Силезии влюбился в немку. Поскольку она с маленьким ребенком не хотела уезжать ни в Израиль, ни в Америку, они застряли в ГДР, где он – независимый и деятельный – стал преуспевающим и весьма востребованным предпринимателем. От немецкой политики он держался в стороне, СДПГ считал партией авторитарной и коррумпированной, однако воздавал должное той защите, которую авторитарный строй гарантировал жертвам фашизма перед лицом народа, чье отношение к фашизму осталось непроясненным.
Тут много чего происходило. Я помню, как горел павильон «Национального фронта» тут на Рыночной площади, и все эти беспорядки, и как все эти партийные значки валялись здесь на улице, как срывали флаги и все эти транспаранты. – Это я как сейчас помню. Но знаете, я так был занят тогда своими проблемами, что, во-первых, не хотел участвовать во всем этом деле, а во-вторых, я наблюдал тоже, как различные элементы ждали чего-то – не того, что я бы одобрил, это я хочу подчеркнуть; им больше всего хотелось бы, чтобы вернулось то, что было: Третий рейх, национал-социализм. Такие нацистские элементы здесь снова поднялись со дна.
Интервьюер: Вы лично это видели?
Ответ: Это я лично видел.
И.: Вы можете это конкретно описать?..
О.: Я не сказал «все», я сказал «элементы», которые присутствовали. Конкретно – что они кричали «долой социализм» и как они начали людям, носившим партийные значки, – как они их били, что я сам видел. Это я сам видел и надо это признать!
И.: Но когда кто-то кричит «долой социализм», я в этом еще не вижу однозначных признаков фашизма.
О.: Но когда били людей, – ведь любое дело не начинается сразу с газовых камер. Все начинается сперва с таких вещей. А потом опять очередь доходит и до тебя, и тогда может повториться то, что было. И мы знаем, что разных [людей] забивали до смерти. Этого я сам не видел. Партийных товарищей, возможно, [за то] что они тут слишком сурово действовали и безвинным людям тут причиняли страдания, ради собственной выгоды, как это было принято и как сегодня, возможно, все еще принято тоже. Это были тоже факты, которые [были] мне не по вкусу и не соответствовали моим политическим убеждениям. Я ведь политику в то время не любил, честно признаюсь. Но чтоб не повторилось тут снова то, что было. Сначала все помалу начинается, но потом разрастается. И не зря сказано: душить надо в зародыше.
Вторая история была рассказана нам одним бывшим функционером СЕПГ. Она – о двух братьях-близнецах из рабочей национал-социалистской семьи, жившей в индустриальном районе Центральной Германии. Они были непохожи между собой и уже в детстве получили прозвища: один был Бродячий Волк, другой – Маленький Профессор. Оба были в гитлерюгенде, потом на фронте и в плену, оба вернулись в родные края, только Бродячий Волк использовал шансы, а Маленький Профессор стремился к трудовым свершениям и верил в новую идеологию так же, как до самого конца войны верил в прежнюю. Волк вел непостоянную жизнь, работая то на одной, то на другой стройке, заводил романы и был шалопаем, а Профессор показывал себя образцовым сотрудником в лаборатории, образцовым членом Союза свободной немецкой молодежи, с 1950 года одновременно учился на мастера производственного обучения по химической специальности и преподавал краткий курс истории ВКП(б)/КПСС в партийной школе своего предприятия. В день 17 июня Бродячий Волк был в местном забастовочном комитете, а Маленький Профессор пробирался домой из партшколы и раздумывал о том, снять ли ему партийный значок. Потом один спрятался у родни в Тюрингии, а другой стал мастером производственного обучения.
В 1954 году возникли проблемы. Волк уже давно вернулся, в период «оттепели» казалось, что дело поросло быльем, но внезапно до Профессора дошли сигналы, что его брату грозит опасность; он предупредил его, и Волк подался на Запад. А Профессор недолгое время спустя и без видимой связи с этим оказался вовлечен в неприятную историю со своим начальником по лаборатории и потерял партбилет и работу. Его буквально поставили на колени: ему пришлось на стройке класть плитку.
В 1956 году его исключение из партии было объявлено «недоразумением» и он получил назад свой партийный билет и свою должность, но на ней и застрял, выше не пошел. Попробовал стать писателем, даже получил премию, но подлинного успеха не добился.
Тем временем Бродячий Волк на Западе поступил на фирму IG Farben и дорос там до заведующего отделом в лаборатории. А у Маленького Профессора уже в 50 с небольшим со здоровьем стало совсем плохо и он получил инвалидность. Потом, в 1980-х, ему первый раз разрешили съездить на Запад, и он был счастлив, что брат его принял в объятия, несмотря на то что пути их разошлись и 30 лет не было никакой связи.
Вернувшись домой, Профессор сидел на своем крохотном садовом участке и сравнивал свою беседку с бунгало брата, свой велосипед с его «мерседесом», свою пенсию по инвалидности с почти вдесятеро большей пенсией (плюс надбавка от завода), которую предстояло получить Бродячему Волку. В 1987 году, когда я с ним повстречался, он мучился раздумьями о выходе из партии, но все еще занимался активной общественной работой, председательствовал в кружке садоводства, но там никто ничего не делал кроме как на собственном участке, поэтому председателю собственной персоной приходилось косить газоны и выдирать траву на общественных дорожках. На собраниях кружка он делал доклады на политические темы, но посещаемость их сократилась на две трети. Профессор был в ужасе от падения дисциплины, беспокоился по поводу своей следующей поездки на Запад, от Горбачева ожидал одновременно открытия Железного занавеса и наведения строгого порядка. Его резюме: «Нет для немца ничего менее подходящего, чем демократия!»
Основываясь на материале наших интервью, я попытался указать на причины непрояснимости опыта 17 июня в памяти жителей ГДР, лежащие, как мне представляется, в конфликте чувств, и предложить некоторые контуры их классификации, не совпадающие с официальными интерпретациями этих событий, а потому долго не имевшие возможности проявиться. Эти чувства волновали лишь небольшую часть людей, переживших 17 июня, однако они предопределили фрагментацию и вытеснение памяти об этом дне на долгие десятилетия и привели к тому, что отношение к проблеме демократии во все годы социализма оказывалось окрашено спецификой послевоенной ситуации в Германии. Большинство же современников дистанцировались от своего опыта, убрав его в нишу «непричастной осведомленности», поскольку угроза насилия не оставляла альтернатив, а нормализация жизни в условиях социалистической экономики позволяла надеяться на постепенное повышение уровня жизни.
Я сомневаюсь в том, что эта фрагментированная память могла образовать мотивационный фон для демонстраций осени 1989 года. Ведь их главной движущей силой была молодежь, не помнившая о том конфликте на заре существования ГДР, и, в противоположность взрывному характеру событий 17 июня 1953 года, на сей раз прошло несколько недель, прежде чем, увидев отсутствие экономических перспектив у правительства и оппозиции, манифестанты перешли от требования демократизации ГДР к требованию национального и экономического единства. Правда, для такого поворота событий имел особое значение тот факт, что в движение постепенно включилась часть старшего поколения, и только в этом смысле можно предположить, что фрагментированная память о 17 июня сыграла свою роль. Национальный плебисцит 1989 года показал, что у сложившейся ситуации нет будущего. События же 1953 года были вызваны сочетанием разных опытов прошлого и тем, что не было такой традиции, на которую режим мог бы тогда опереться.
III Коллективные размышления
7 Восприятие войны в послевоенном немецком обществе
Заданная мне для участия в этой конференции тема содержит в себе несколько скрытых проблем. Они связаны с единственным числом тех существительных, которые употреблены в ее формулировке. В начале моего небольшого очерка, посвященного этой огромной теме, хотелось бы сказать об этих проблемах, потому что они дали мне повод к некоторым наблюдениям более общего плана. Далее я собираюсь представить результаты эмпирических исследований биографического опыта послевоенного десятилетия и связать между собой эти два уровня.
I. «Восприятие», «война», «послевоенное общество»Что касается первого существительного, то тут проблемы с единственным числом представляются еще сравнительно безобидными. Ведь каждому сразу понятно, что это собирательное существительное единственного числа, т. е. что среди немцев после войны существовало не одно какое-то ее восприятие, а множество самых различных: слишком разные были судьбы у людей в эти шесть лет, да и до того, во время нацистского господства, и особенно после; их невозможно свести к какому-то одному общенациональному восприятию. Традиционные классовые или гендерные стереотипы в этом случае тоже могут принести историку мало пользы в деле структурирования экзистенциального опыта. Более полезной представляется гипотеза, что фашизм, война и их последствия в конечном итоге словно бы пробили в Германии все традиционные границы между общественными группами и общностями и сделали опыт в значительной мере индивидуальным.
Так, во всяком случае, обстоит дело, когда мы обращаемся к эмпирической истории опыта индивидов, изучая ее на основе биографических интервью и других эго-документов, многообразие содержания которых таково, что может приобрести более или менее обозримый вид только посредством глубинно-герменевтических интерпретаций и новых абстракций. Если же смотреть на послевоенное восприятие войны немцами через оптику истории культуры, обращая по традиции внимание на символы, то проявляются более единообразные паттерны, особенно при сравнении с другими странами – у держав-победительниц и у освобожденных ими наций Вторая мировая война имеет, как правило, репутацию последней «правильной войны» или, во всяком случае, рассматривается как война, ценой величайших жертв – особенно в освобожденных странах Восточной Европы – реставрировавшая традицию их национального суверенитета. Местные различия относительно легко можно свести к трем основным центральноевропейским типам: на Западе эта война – олицетворение бессмысленности, на Востоке – источник всякого смысла, на Юге – она олицетворяет общность безответственности. Именно такое сравнительное единообразие различий заставляет задаться важными вопросами по поводу зазора между публичной памятью и приватными воспоминаниями.
Со вторым существительным в единственном числе («война») дело обстоит уже сложнее, потому что в опыте большинства немцев не было одной войны как некоего единого комплекса: были несколько отдельных военных отрезков, в течение которых человек мог пережить в том числе и самые противоположные вещи. Отчетливее всего разница между 1939–1942 годами, когда серия блицкригов за пределами Германии принесла нацистскому руководству восторженную поддержку большинства населения страны, и 1943–1945-м, когда фронты на Востоке стали откатываться в обратном направлении, а бомбардировщики западных союзников стали разрушать германские города. Впоследствии многие вытесняли воспоминания о положительных чувствах первого периода, а уж после Сталинграда, утверждали все наши собеседники, каждому стало понятно, что эта война бессмысленна или по меньшей мере обречена на неуспех; некоторые даже говорили, будто поняли тогда, что военная агрессия как таковая преступна, а отдельные респонденты заявили, что у них открылись глаза и на массовые военные преступления. Различия военного опыта связаны, однако, не только с хронологическими фазами, но и с географическими регионами: одни провели войну в тылу, другие – на фронтах, причем на разных: кто-то на Западном, где до середины предпоследнего года продолжалось «прекрасное время коллаборационизма»; кто-то на Восточном, где партизанское сопротивление притупляло у солдат вермахта муки совести от соучастия в операциях СС по уничтожению евреев и восточных народов; кто-то на Южном, где Италия в результате восстания в одну ночь превратилась из союзного фашистского государства во врага; кто-то на Северном, где даже после капитуляции еще судили дезертиров; кто-то на Атлантическом океане, где германские подводные лодки столь же бесчестно, сколь рискованно и успешно топили торговые суда союзников; кто-то в карстовых горах Балканского полуострова, где коллаборационизм и уничтожение евреев сплелись воедино еще плотнее, чем на Западе, но тем не менее именно там была самостоятельно освобождена целая страна без участия или даже хотя бы желания великих держав антигитлеровской коалиции.
Наконец, третье словосочетание в единственном числе: «германское послевоенное общество». Существовало ли оно, и если да, то сколько времени? Вопрос не только в том, была ли еще в 1945 году одна немецкая нация, одно общество, стремившееся к суверенитету. Я склонен на этот вопрос отвечать отрицательно и полагаю, что Гитлер оставил после себя народ, для которого в целом уже даже шанс на коллаборационистские отношения с каждой из держав-победительниц был реальной утопией. Это, несомненно, спорная точка зрения (по крайней мере среди немцев), но если в ней имеется зерно истины, то встает прежде всего вопрос о возможностях, а это – при учете того, какие планы и договоренности были у союзников относительно Германии и Австрии, – означает вопрос о разделах. Счастливая Австрия с огромной охотой приняла на себя роль полуосвобожденной первой жертвы Гитлера и почти на сорок лет предала забвению собственное ликование в день аншлюса. Западная часть Германии, обладавшая значительным потенциалом, который был востребован не только в годы холодной войны, была избавлена западными державами от выплаты репараций Советскому Союзу и его сателлитам и отделалась меньшими расходами – денежными компенсациями евреям, пережившим холокост. Примирившись со своими западными соседями, эта часть Германии получила не только возможность постепенно взять управление своей страной в собственные руки, но и шанс участвовать в западноевропейской интеграции – довольно запутанной и едва ли действительно демократической, но, несомненно, наиболее экономически успешной в ХХ веке модели мирного национального самопреодоления. Восток же Германии был наполовину оккупирован Польшей – а на самом деле Советским Союзом – и подобно другим зонам расселения немцев в восточной части Центральной Европы подвергнут этнической чистке, затронувшей 12 миллионов человек. Другая половина – советская зона оккупации, затем ГДР – после отказа западных держав удовлетворять репарационные требования СССР и других восточноевропейских стран почти на десять лет сделалась беззащитной мишенью сконцентрированных советских репарационных интересов и (в явном противоречии с ними) одновременно объектом гигантского эксперимента по внедрению государственно-социалистических структур в сравнительно высокоиндустриализованное общество. Сначала робко, а после 1948 года все более решительно советская империя вовлекала ГДР в свое западное предполье и покрывала ее своими системными структурами. Первый, длившийся практически всего один день, выплеск народного гнева в ГДР 17 июня 1953 года стал сигналом о том, что попытка империализма «снизу» (где в иерархии индустриальных обществ находился СССР) в долгосрочной перспективе имела небезграничные возможности. Этот же урок преподнесли кремлевским хозяевам еще более внятно Польша и Венгрия в 1956 году, Чехословакия в 1968-м, а потом снова Польша в 1980-х. Плоды они наконец смогли пожать во время «мирной революции» осенью 1989 года.
Если австрийцы довольно быстро обрели государственную независимость и двигались, хотя довольно нерешительно и медленно, по пути модернизации, а западные немцы от «восстановления» перешли к «модернизации» уже в конце 1950-х и в 1960-е годы, то у восточных немцев «послевоенное общество» просуществовало фактически до 1990 года. В кризисный период смены общественного строя Восточная Германия, с одной стороны, получала от Западной массированную поддержку, но, с другой стороны, страдала от ее засилья. Поэтому в экономическом и социально-психологическом отношении восточные немцы пережили совсем иной переходный процесс, нежели остальные бывшие социалистические страны. Это обстоятельство позволяет жителям бывшей ГДР выступать в качестве моста или соединительного звена между восточно– и западноевропейским опытом «долгой» послевоенной эпохи. Эпоха эта во многих странах Восточной Европы еще не закончилась даже и в 1990 году. А на экономически интегрированном Западе, где раны войны зарубцевались гораздо раньше, своеобразие этой эпохи в культурном отношении основывалось на различии исходных позиций стран – наследниц Третьего рейха и его противников.
Таким образом, в отдельных регионах и государствах, входивших некогда в состав Третьего рейха, ритмы существования «послевоенного общества» были неодинаковы, а значит и воспоминания о фашизме и войне необходимо рассматривать дифференцированно. Австрия во время войны была в основном вне досягаемости для западных бомбардировщиков, а после 1945 года по единодушному решению союзников была в соответствии с принципом «разделяй и властвуй» отделена от бывшего рейха и пользовалась возможностью управлять собою сама; она быстрее всех достигла внешне нормальной жизни, однако четыре десятилетия спустя ее ранний уход в выгодную поначалу роль жертвы превратился в национальную и интернациональную проблему.
ФРГ, наоборот, для всех в мире (в том числе и в Восточной Европе) была олицетворением «послевоенной Германии» и вместе с тем – немецкой работоспособности. Она свои грехи искупила быстро и поверхностно, тем более что уже с 1950 года она снова стала нужна. За одно-два десятилетия справившись с последствиями войны, здесь начали справляться с последствиями фашизма, и эта работа будет продолжаться еще долго, но уже в рамках открытой и пронизанной множеством международных связей политической системы.
А в Восточной Германии часы шли медленнее, да и все ритмы социализма были неспешнее: на протяжении всего существования ГДР война оставалась главной основой легитимации государства, а оставленные ею разрушения во многих явлениях повседневной жизни были несравненно более заметны, чем в ФРГ: там, на востоке, «новая Германия» гораздо меньше позволяла забыть старую. Под конец уже трудно было различить, где старые руины, полученные государственным социализмом в наследство, а где новые, созданные им самим.
II. Фазы восприятия войныЕсли посмотреть из сегодняшнего дня на то, как немцы начиная с 1945 года воспринимали минувшую войну, то можно различить три большие фазы.
1. В первое послевоенное десятилетие жизнь немцев на бытовом уровне была подчинена преодолению непосредственных последствий Второй мировой войны, а на политическом уровне – решениям союзников и затем неравному разделу страны в годы холодной войны. Сочетание этих двух важнейших условий образовывало рамки, в которых сложились паттерны воспоминания о войне, сохранявшие свое действие очень долго – как на политическом и культурном уровнях, так и на бытовом, и на уровне личных воспоминаний.
2. Следующие три десятилетия можно, с нашей точки зрения, рассматривать как фазу борьбы за память о войне и национал-социализме. Линии фронта проходили в каждом из трех государств – наследников Третьего рейха по-разному, и ритмы были тоже разные, однако во всех трех случаях в конце концов утвердилось в культуре и в средствах массовой коммуникации суждение, что эту войну можно понимать только в связи с национал-социализмом и (это особенно относится к Западной Германии) что холокост представляет собой важнейший элемент памяти о войне, который навсегда сохранит парадигматическую роль главного, о чем стоит помнить. Такой прогресс познания имел свои издержки – прежде всего они выразились в том, что необработанные военные воспоминания большинства современников оказались изолированы, лишены связи с осмысляемым жизненным опытом. Кроме того, в политической сфере воспоминания о войне облеклись в форму затертых инсценированных мемориальных ритуалов.
3. Затем наступило время, длящееся до сегодняшнего дня, которое, как мне кажется, характеризуется тем, что в средствах массовой информации и в политической сфере поднимаются одна за другой волны расширения восприятия и выдвигаются вызывающие споры толкования. По главной тенденции эту фазу можно назвать фазой открытия памяти на пороге перехода от коммуникативной памяти современников и свидетелей событий к ориентированной на будущее памяти культуры. Чтобы наглядно показать противоречивость этого процесса открытия, достаточно привести несколько ключевых слов: в Австрии это спор по поводу Вальдхайма[30]30
Курт Вальдхайм (1918–2007) – австрийский общественный и политический деятель, Генеральный секретарь ООН (1972–1981), президент Австрии (1986–1992). В молодости, после аншлюса Австрии, был членом Национал-социалистической студенческой лиги Германии, добровольно вступил в СА. В период избирательной кампании Вальдхайма 1986 года были обнаружены документы, свидетельствовавшие о том, что он не был демобилизован после ранения в 1941-м, как утверждал в своей автобиографии, а служил в нацистской армии до 1945 года, в том числе в Греции и Югославии, и югославская комиссия по военным преступлениям требовала его выдачи.
[Закрыть] и хайдеровский популизм[31]31
Йорг Хайдер (1950–2008) – австрийский политический деятель, бывший лидер Австрийской партии свободы (FPЦ). В апреле 2005 года он и другие руководители партии покинули ее ряды, создав новую партию – Альянс за будущее Австрии (BZЦ). FPЦ считается популистской партией, которую зачастую также относят к так называемым евронационалистическим партиям. Она выступает, в частности, за ужесточение контроля над иммиграцией, усиление борьбы с преступностью и всемерную поддержку семьи.
[Закрыть]; в ФРГ – «спор историков» об уникальности холокоста, встреча Г. Коля и Р. Рейгана на солдатском кладбище в Битбурге, где рядом с американскими и немецкими военнослужащими похоронены эсэсовцы, скандал вокруг речи Р. Йеннингера, указавшего немцам на простые и радостные человеческие чувства, связывавшие их с Гитлером и нацизмом; в ГДР в последние годы ее существования – символическое признание особого долга немцев по отношению к еврейству, в объединенной Германии – дебаты вокруг создания мемориала холокоста в Берлине, дискуссии о восточногерманском «предписанном антифашизме»‚ споры о преступлениях вермахта, о компенсациях подневольным рабочим, о бомбардировках и авиационной «охоте на людей», об изгнании немцев из Восточной Европы. Борьба за места в культурной памяти будущего ведется с применением политической власти и приватизированных средств массовой информации; в этой борьбе неприкрыто проявляются специфические групповые интересы, а также рыночные тактики реагирования на настроения масс.
Наука может влиять на такой процесс лишь сравнительно слабыми рациональными средствами. Но она может хотя бы его изучать, и в последние десять лет многочисленные исследования, посвященные памяти и воспоминаниям, показали прежде всего то, что историки принимают в создании истории будущего лишь ограниченное участие. Но все же голос историков не остался вовсе неуслышанным: он в последние лет 15 весьма способствовал тому, что коммуникативная память, приватные воспоминания обычных людей о войне и террористическом режиме оказались восприняты, причем не популистским образом, и соединены с культурными дискурсами. За счет этого значительно расширилось представление о круге жертв политического насилия: заговорили о преследовании цыган и гомосексуалистов, о военнопленных с обеих сторон, о подневольных рабочих, об «изгнанных», об изнасилованных, о войне на уничтожение на Востоке, о бомбардировках городов на Западе. Это представление было приближено к реальности и претерпело даже первичную интеграцию; но главное – историческая наука начиная с 1980-х годов все больше делала этот дискурс по поводу восприятия и интеграции интернациональным, в том числе преодолевая барьеры холодной войны и охватывая страны к востоку от «железного занавеса».
С многих точек зрения мне эта последняя фаза в истории восприятия войны, когда были сломаны границы между воспоминаниями, представляется самой интересной. Она ставит перед европейскими историками новые задачи: нужно будет объединить и по-новому упорядочить разные восприятия нашей истории. Тот факт, что мы здесь, в Харькове, можем разговаривать друг с другом о подобных вопросах, есть многообещающее проявление этой новой научной практики. Возможность принять участие в данном разговоре является для меня личным стимулом, потому что я – сын немецкого солдата и члена НСДАП, во время войны бывшего здесь, на Украине, и потом в качестве военнопленного проведшего здесь же, в Харькове и Днепропетровске, семь лет на принудительных работах. Но главное в нашем разговоре – не только благонамеренные программные декларации самого общего толка, но и поддающиеся научной обработке фрагменты материала, и потому я теперь – в соответствии с темой нашей конференции – обращусь к первой из вышеописанных трех фаз восприятия войны немцами. При этом я ограничусь рассмотрением двух моментов: во-первых, скажу о Германии под управлением Контрольного совета, а во-вторых, сравню некоторые доминирующие тенденции в истории индивидуального опыта на западе и востоке Германии.
Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?