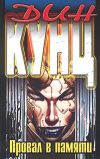Текст книги "Вопросы к немецкой памяти. Статьи по устной истории"

Автор книги: Лутц Нитхаммер
Жанр: Зарубежная образовательная литература, Наука и Образование
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 43 (всего у книги 46 страниц) [доступный отрывок для чтения: 12 страниц]
{1} Основой для настоящего очерка послужили впечатления, вынесенные из нескольких сот биографических интервью с пожилыми немцами, проведенных нашей исследовательской группой в рамках проектов, посвященных изучению истории жизни и социальной культуры в Рурской области в 1930–1960 годах (проект осуществляется с 1980 года в Эссенском университете и Университете заочного обучения в Хагене) и «народному опыту» жизни в ГДР (проект осуществляется с 1987 года). Хотелось бы подчеркнуть, что речь не идет о результатах систематического анализа этого объемистого и трудного комплекса источников, из которых я знаком лишь примерно с половиной и проработал меньше четверти: речь идет именно о впечатлениях относительно того, какие стереотипы в этих биографических рассказах господствуют или по крайней мере бросились мне в глаза. Большую помощь в работе оказал более систематический анализ части рурского материала на предмет высказываний о евреях. Эта работа была проведена Франком Штерном (Иерусалим) в рамках исследования о юдофильстве в послевоенной Германии (см.: Stern F. Die Weißwaschung des gelben Sterns. Phil. Diss. Tel Aviv, 1989. Kap. 4). Подробнее о наших проектах и применяемых в них методах анализа источников см. в книге: LUSIR. Bd. 1–3; Niethammer L. Annäherung an den Wandel: Auf der Suche nach der volkseigenen Erfahrung in der Industrieprovinz der DDR // Alltagsgeschichte / Hg. von A. Lüdtke. Frankfurt a. M.; N.Y., 1989. S. 283–345; BIOS. 1988. Bd. 1.
{2} Если бы мы были в ГДР, то таким общепринятым кратким названием было бы скорее слово «друзья», которое насаждалось во второй по величине массовой общественной организации ГДР – «Обществе германо-советской дружбы».
{3} Об истории вопроса и о численности жертв см.: Hilberg R. Die Vernichtung der europäischen Juden. Berlin, 1982; Herbert U. Fremdarbeiter. Berlin; Bonn, 1985; Idem. Geschichte der Ausländerbeschäftigung in Deutschland 1880 bis 1980. Berlin; Bonn, 1986; Streit C. Keine Kameraden. Stuttgart, 1978; Pingel F. Häftlinge unter SS-Herrschaft. Hamburg, 1978; Krausnick H., Wilhelm H.-H. Die Truppe des Weltanschauungskrieges. Stuttgart, 1981; Nationalsozialistische Massentötungen durch Giftgas / Hg. von E. Kogon u. a. Frankfurt a. M., 1983. По общему историческому контексту см. сборники: Ist der Nationalsozialismus Geschichte? / Hg. von D. Diner. Frankfurt a. M., 1987; Der Judenpogrom 1938 / Hg. von W.H. Pehle. Frankfurt a. M., 1988.
{4} Для сравнения: на пике так называемого использования приглашенных рабочих в ФРГ в 1973 году примерно каждый девятый работающий в стране был иностранцем. Гастарбайтеры всех национальностей вместе взятые составляли в этот момент примерно три четверти от численности одних только русских, которые были заняты в экономике Германии во время войны. По расчетам Ведомства по изучению военной истории во Фрайбурге, на территориях СССР, оккупированных Германией, еще около 15 миллионов человек были вынуждены работать прямо или косвенно на оккупантов: это почти вдвое больше работников, чем во всей ГДР или в федеральной земле Северный Рейн-Вестфалия.
{5} Германия потеряла около 4 миллионов. К ним после 1945 года добавились около 1,2 миллиона во время «изгнания» и еще около миллиона этнических немцев в Восточной Европе.
{6} Для сравнения: в Германии потери гражданского населения составили 1,65 миллиона.
{7} В то же время в так называемом Штутгартском признании вины Евангелической церкви (1945) – первом акте исторической моральной сознательности в Западной Германии – о масштабах уничтожения евреев вообще еще ничего не говорится.
{8} Исключение составляют только воспоминания сравнительно небольшой группы бывших солдат, которые были дислоцированы в Польше и у которых – например, в силу их активной христианской жизненной позиции – моральное восприятие было менее притуплено, чем у большинства их товарищей по оружию.
{9} Документальное исследование холокоста, осуществленное Раулем Хильбергом и Клодом Ланцманом, производит на немцев особо сильное впечатление именно потому, что, говоря о поездах, ехавших через всю Европу в лагеря уничтожения, авторы позволяют читателям представить себе как жертв, так и само уничтожение. Стена невообразимости, таким образом, оказывается сломанной.
Интервью с интервьюером. Беседа с Лутцем Нитхаммером
ИРИНА ЩЕРБАКОВА: Лутц, ваша новая книга посвящена устной истории, поэтому в качестве послесловия мы решили включить в нее большое биографическое интервью. Для начала расскажите о себе, чтобы читатели могли представить вашу биографию в контексте времени и на фоне того поколения, к которому вы принадлежите; чтобы таким образом они могли лучше понять те вопросы, которые занимают вас как историка.
ЛУТЦ НИТХАММЕР: Важную роль в моей жизни и моем становлении сыграло то, что я воспитывался в буржуазной среде. Мать происходила из некогда преуспевающей, но захиревшей бюргерской фамилии из Рейнской земли. Ее отец, мой дед, был банкиром, а взгляды имел либерально-католические. Мой отец, напротив, был родом из семьи мелкобуржуазной, представители которой сумели подняться по социальной лестнице. Дед с отцовской стороны тоже в некотором роде занимался финансами: был управляющим на пивоваренном заводе в Швабии. Так что в моей семье впервые пересеклись две линии: мелкой буржуазии и культурного бюргерства. Я всегда идентифицировал себя с семьей матери, впрочем, это отчасти объяснялось тем, что своего отца я узнал, когда мне было уже 12 лет. До этого он был на фронте и в плену. Его призвали в сентябре 1939 года, а я родился через несколько месяцев, под Рождество. Существует даже семейная легенда, что, когда отец однажды приехал в отпуск, а мне тогда было, кажется, года три, я якобы сказал: «Пусть дат уйдет!», в смысле «Пусть солдат уйдет!» Потому что я тогда вообще не понимал, что это такое – отец, а увидел только незнакомого человека в форме. Надо сказать, что помимо бюргерского начала в нашей семье присутствовал и творческий элемент: мои родители оба были графиками и занимались промышленным дизайном.
Меня воспитывали мать, бабка и тетка, т. е. я, по сути, рос в той самой католической либеральной среде, к которой принадлежал еще мой дед. Отец же был совсем из другого теста: в 1933 году он вступил в НСДАП, а затем в СА. Впоследствии он полностью подчинил себе мою мать, которая поначалу сопротивлялась, а потом смирилась. Дело в том, что в 1920-е годы она, в отличие от отца, всерьез увлекалась современным искусством. Так что в период нацизма ей пришлось приспосабливаться, в том числе и творчески. Помню, в юности меня это глубоко поразило, так как после войны она вместо бывшего тогда в моде стилизованного китча вновь стала делать авангардные вещи, и мне казалось, что у меня на глазах рождается замечательная современная художница, хотя на самом деле она просто вернулась к тому, с чего начинала.
ИРИНА ЩЕРБАКОВА: Как вы думаете, она когда-нибудь всерьез задумывалась о том, что произошло с ней и с ее искусством?
ЛУТЦ НИТХАММЕР: Видите ли, после прихода нацистов она – во многом по настоянию моего отца – решительно разорвала все связи с авангардистской средой. А потом просто вернулась в нее как ни в чем не бывало. Полагаю, что никакой рефлексии по этому поводу у нее не было. Я хорошо помню те вещи, которые она делала, когда мне было пять-шесть лет, для французских, а потом и для американских оккупационных офицеров. Это было нечто в примитивистском духе и вполне котировалось даже в нацистские времена. Впрочем, денег ее картины приносили мало, так что жили мы довольно скудно. Потом, когда я уже стал постарше, то своими глазами мог наблюдать своеобразную обратную эволюцию ее живописи: постепенно ее работы становились все более и более беспредметными, и мать даже разрешала мне придумывать для них названия. Так что у меня создалась полная иллюзия движения от предметной живописи к абстрактной, хотя на самом деле это было не так. В отличие от моего отца, у матери были друзья среди евреев. Она часто говорила, что отец заставил оборвать все связи с ними. Например, прекратить отношения с одной подругой-еврейкой, которой удалось эмигрировать еще до холокоста. Воспринимала ли она это как приспособленчество? Не думаю. Во всяком случае, она никогда не говорила об этом прямо. Когда мне было два с половиной года, в наш дом в Штутгарте попала бомба, погибли и все работы моей матери, а то немногое, что осталось от того периода ее творчества, я берегу как зеницу ока.
После того как нас разбомбили, мы всей семьей перебрались в деревню к моей бабке и тете, которая преподавала в местной гимназии французский, английский и историю. Пожалуй, именно она оказала на меня в юности наибольшее интеллектуальное влияние. Благодаря ей я увлекся литературой и стал интересоваться религией (хотя она была католичкой, но взгляды имела вполне широкие). Окрестили меня в протестантской церкви, так что я воспитывался сразу в двух традициях: протестантской и католической. Возможно, именно поэтому я потом поступил на теологический факультет. Отец мой был совершенно не религиозным человеком, да и мать скорее была неверующей. Верующими были обе мои бабки и с отцовской, и материнской стороны. Бабушка с материнской стороны была католичка, впрочем, относилась к этому не без юмора и даже некоторого цинизма, а с отцовской, наоборот, – ревностной протестанткой и вообще довольно серьезной дамой. Впрочем, близкие отношения у меня были именно с первой. А дедов своих я не знал вовсе.
ИРИНА ЩЕРБАКОВА: Сохранились ли у вас воспоминания о войне?
ЛУТЦ НИТХАММЕР: Реальных воспоминаний у меня осталось очень немного. Я часто пытаюсь воссоздать те первые картины, которые должны были бы сохраниться у меня в памяти. Но беда в том, что у меня нет таких воспоминаний-картин. Есть, пожалуй, одно-единственное – о том, как наш дом разбомбили. Я отчетливо помню, что нас эвакуировали из города еще до этой бомбежки. Однако мой брат, который на несколько лет старше, утверждает, что в ночь бомбардировки мы еще оставались в нашем доме. Но я, как ни стараюсь, не могу этого вспомнить. Когда я мысленно возвращаюсь к тем событиям, то вижу перед собой такую картину: мы сидим на кухне нашего загородного дома в 70 километрах от Штутгарта, и окна выходят на север, так что виден весь город и над ним ярко-красное зарево. Бабушка говорит: «Теперь – это ваш новый дом». Так оно и случилось.
Эту сцену помнят все члены семьи, но одни говорят, что она произошла уже после бомбардировки и что нас, детей, вообще не было на кухне, а мой брат, например, утверждает, что дом обрушился прямо на нас и что сцена на кухне произошла уже позже, во время другой бомбардировки. Я думаю, мы все-таки успели эвакуироваться раньше, но точно сказать не могу. Помню только, как бабушка сказала: «Все, дому в Штутгарте конец».
Другие ранние воспоминания касаются главным образом последних дней войны и вхождения в нашу деревню оккупационных войск – сначала французских, затем американских. От тех времен у нас сохранились две семейные легенды. Одна совершенно душераздирающая. Дело в том, что рядом с нашим деревенским домом (кстати, я недавно его обнаружил, он стоит пустой, но в полной целости и сохранности) был сад, а в саду росло большое грушевое дерево. Пригороды, как правило, не бомбили, но каждый раз, когда раздавалась воздушная тревога, мы на всякий случай прятались в подвале. Однажды (дело было за несколько дней до конца войны) в наш сад все-таки упала бомба, правда, сам дом не пострадал, но когда мы вышли из подвала, дерева в саду уже не было – на его месте осталась только воронка. Но ужас был в том, что когда мы бежали в подвал, то видели, как под ним пытался укрыться остарбайтер.
ИРИНА ЩЕРБАКОВА: И когда вы вышли, его уже не было?
ЛУТЦ НИТХАММЕР: Да. Только воронка осталась. Мне тогда было всего пять лет.
ИРИНА ЩЕРБАКОВА: Он был поляк или русский, не помните?
ЛУТЦ НИТХАММЕР: Этого я не знаю. Знаю только, что он был один из тех, кого по нацистским законам не разрешалось пускать в дом. Хотя мои бабка с теткой из-за своей религиозности нацистов терпеть не могли, в данном случае им приходилось подчиняться.
Другое воспоминание о «рабочих» в полосатой одежде, которых гнали через мост на располагавшиеся неподалеку шахты. Тогда я еще не понимал, что это идут заключенные концентрационного лагеря.
А еще я отчетливо помню, как в нашу деревню вошли французы, вернее, марокканцы, – это были колониальные войска. Их приход показался мне похожим на карнавал. Однажды один марокканец попросил у бабушки нож и принес его обратно в зубах, потому что руки у него были полны конфет, предназначавшихся нам, детям.
Еще я помню, что вокруг дома была каменная дорожка, по которой мне не разрешали кататься на деревянном самокате, поскольку от этого якобы портились плиты. Разумеется, я был глубоко возмущен: других подходящих дорожек в деревне не было, и самокат все время застревал в грязи. А французы разбили лагерь прямо у нашего дома, поскольку напротив находилось стратегически важное шоссе; поставили у нас на заднем дворе свои танки и, конечно, разнесли эту ненавистную дорожку вдребезги. Я был счастлив. И с тех пор считал их настоящими воинами-освободителями.
ИРИНА ЩЕРБАКОВА: А что стало с вашим отцом?
ЛУТЦ НИТХАММЕР: Отец воевал сначала в Польше, затем некоторое время во Франции, пока в 1941 году его не отправили на восточный фронт. Он был обычным солдатом, во время войны никакого повышения не получил: сначала был водителем у офицера, потом, когда выяснилось, что он умелый рисовальщик, стал картографом. Некоторое время он даже был санитаром. Что само по себе удивительно, ведь отец был членом нацистской партии и мог бы рассчитывать на гораздо лучшую военную карьеру. Но, по-видимому, он не особенно к этому стремился. Впрочем, я его подробно не расспрашивал, мы в то время вообще старались не задавать лишних вопросов про войну. Знаю только, что служил он на Украине, причем, как потом выяснилось, в местах массового уничтожения евреев. Между прочим, у нас с братом был игрушечный деревянный паровоз, ярко раскрашенный и с немецкой надписью, но что именно было на нем написано, я никак не могу вспомнить… Не правда ли, классический случай подсознательного вытеснения?! А ведь это было первое прочитанное мною слово. По-моему, название города.
ИРИНА ЩЕРБАКОВА: Украинского?
ЛУТЦ НИТХАММЕР: Нет, нет.
ИРИНА ЩЕРБАКОВА: Может быть, белорусского? Случайно, не Витебск?
ЛУТЦ НИТХАММЕР: По-моему, нет. Кстати, в детстве я очень любил эту игрушку. Вспомнил! Могилев. Отец прислал мне ее, когда нас разбомбили, и никаких игрушек в доме не осталось. Мы тогда жили вчетвером с матерью в одной комнате.
ИРИНА ЩЕРБАКОВА: Это типичная советская игрушка 1930-х годов. Ее часто можно увидеть на фотографиях тех времен.
ЛУТЦ НИТХАММЕР: Вот, и у меня такая была. Между прочим, я уже тогда понимал, что Могилев – это, должно быть, какое-то место, вроде Зюльца, куда нам пришлось бежать.
В 1944 году отец попал в плен, сначала был в лагере под Харьковом, потом еще в нескольких лагерях в районе Днепропетровска, где он какое-то время проработал на шахте как военнопленный. Затем до самого освобождения был санитаром. Кстати, отец всегда с большим уважением вспоминал начальницу лагерной больницы, которая, между прочим, была еврейкой. Что, конечно, не могло не вызывать у матери определенных ассоциаций с ее еврейской подругой, но тогда я этого еще не осознавал.
ИРИНА ЩЕРБАКОВА: Между прочим, моя семья родом из Днепропетровска. Бабушку с дедушкой эвакуировали, а прабабка и другие еврейские родственники остались и были убиты, по-видимому, в начале ноября 1941 года.
ЛУТЦ НИТХАММЕР: Вот как, я этого не знал.
ИРИНА ЩЕРБАКОВА: Да. Бывают странные сближения. А вы помните, как отец вернулся домой из плена?
ЛУТЦ НИТХАММЕР: Я помню фотографии и письма с фронта, но, честно говоря, для меня они не имели большого значения. Я ведь рос исключительно среди женщин: в доме помимо моей бабки, тетки, матери и старшей сестры жили еще три пожилые дамы, торговавшие тканями. Но не могу сказать, что мне не хватало мужского общества и что я чувствовал себя каким-то образом обделенным. Даже война, если не считать истории с разрушенным домом, в общем, прошла стороной, хотя не исключено, что некоторые воспоминания я просто вытеснил. Помню, что в 1951 году появился какой-то человек, изможденный и бледный. В юности он, должно быть, был очень спортивным, подтянутым и бодрым, я же увидел его исхудавшим, нервным и погруженным в себя. Умом я понимал, что возвращение отца – это важное событие для всей семьи, но для меня оно было с самого начала омрачено тем, что я вынужден был покинуть материну мастерскую. После того как бабка с теткой переселились в соседний городок, в доме образовалась лишняя комната, которую мать оборудовала под студию – там она писала свои работы и пила кофе. Мне как самому младшему разрешалось в ней играть: помню, у меня были такие маленькие игрушечные гномы. А когда отец вернулся, в мастерской поставили его рабочий стол, а меня выселили. Тогда, в 11 лет, я впервые понял, что детство скоро закончится. Мой старший брат был как раз в подростковом возрасте, и, разумеется, тут же вступил с отцом в страшный конфликт. Отец требовал, чтобы в доме был порядок и чтобы брат был более усердным и старательным.
ИРИНА ЩЕРБАКОВА: Типичная история. Прямо как в кино: отец возвращается с войны и не может ужиться со своими повзрослевшими детьми…
ЛУТЦ НИТХАММЕР: Причем у нас семейные ссоры, как правило, заканчивались побоями. Тогда ведь и в школах часто били. Но я у матери был любимчиком, к тому же невольным свидетелем и спутником ее творческой эволюции или скорее возвращения к истокам, наверное поэтому она строго-настрого запретила отцу меня бить. Помню, я все удивлялся, что он вечно набрасывается на брата, который, надо отдать ему должное, был в то время ужасным бездельником, а меня при этом трогать не смеет, словно вокруг витал какой-то незримый ангел-хранитель. Впрочем, я был довольно тихим и послушным ребенком. К тому же, ужасно неспортивным. Поэтому мой отец, который, наоборот, был большой спортсмен, вообще считал меня несколько недоразвитым: еще бы, в футбол не играет, плавать не плавает… И все же он как мог старался наладить отношения с женой и детьми. И был даже благодарен матери, что она вопреки его указаниям сохранила мастерскую и стала совершенно самостоятельной, в том числе и в творческом плане; а потом благоразумно уступила ему руководство, так что отец, кроме всего прочего, занимался еще и поиском заказчиков.
ИРИНА ЩЕРБАКОВА: А чем именно они занимались – живописью, скульптурой?
ЛУТЦ НИТХАММЕР: Главным образом промышленным дизайном. Отец после войны стал проектировщиком выставочных помещений. А мать занималась мелкой пластикой. Кстати, ее вещи пользовались в 1950-е большим спросом, так что жилось нам хорошо. Много лет спустя я узнал, что отец добился успеха во многом благодаря своим прежним нацистским связям. Дело в том, что в СА был своего рода союз художников под названием «Кюнстлер-штурм» и директора нескольких крупных штутгартских рекламных фирм были в свое время членами этого союза. Родители иногда брали меня с собой на всякие неофициальные встречи с клиентами – это были сплошь старые знакомые отца с нацистских времен. В 1953 году мы всей семьей вернулись в Штутгарт и дела наши шли, особенно по тем временам, весьма и весьма неплохо. У нас даже была своя машина.
Кстати, история этой машины весьма примечательна: мой отец и старший брат были страстные автолюбители, так что еще до войны мы купили желто-коричневый необычайно элегантный кабриолет, который отец перед отправкой на фронт аккуратнейшим образом спрятал в лесу под спиленными деревьями. В 1951 году они с братом нашли эту машину, которая, естественно, вся проржавела. К счастью, у отца был знакомый автомеханик, который тоже недавно вернулся из плена и открыл автомастерскую неподалеку от нас. Так что кабриолет был благополучно отреставрирован и заново покрашен в бело-серые тона. Личный автомобиль в те времена считался большой роскошью. И отец надеялся с помощью машины подкупить нас, детей, поскольку мать решительно заявила, что по выходным она занимается своей авангардной живописью, а это не могло его не раздражать. Так что он всячески соблазнял нас воскресными поездками на машине, отчасти чтобы не дать матери спокойно порисовать. Надо признаться, этот трюк часто срабатывал.
ИРИНА ЩЕРБАКОВА: Я думала спросить об этом позже, но раз уж речь зашла о детских воспоминаниях, скажите, вы идентифицируете себя с так называемым поколением 68-го года? Дело в том, что у вас довольно характерная для этого поколения биография: росли во время войны без отца, воспитывались матерью… Иными словами, вы ощущаете себя частью некоего целого? И возможно ли вообще создать коллективный портрет поколения «ахтундзэхцигер»?
ЛУТЦ НИТХАММЕР: На самом деле я только сейчас понял, что мы действительно были «поколением». Раньше я просто относил себя к некой возрастной группе, чье детство пришлось на войну. Нас объединяет то, что мы восприняли эту войну с присущей детям непосредственностью, т. е. мы все видели, но толком ничего не понимали. Впрочем, нельзя недооценивать силу этих первых впечатлений, тем более что многие из них так или иначе связаны с насилием и жестокостью, творившимися тогда повсеместно. Как, например, мое детское воспоминание о грушевом дереве и погибшем остарбайтере.
Разумеется, важнейшую роль в моем становлении сыграло и то, что я рос фактически без отца. С одной стороны, я прекрасно понимал, что такие семейные отношения не вполне нормальны, с другой – когда в ранней юности я впервые заметил, как мы с отцом похожи, мне стало не по себе. Потому что я не желал иметь с этим чужим для меня человеком ничего общего, а хотел быть только маминым ребенком, появившимся на свет без участия отца. И тут вдруг оказывается, что мы с ним чуть ли не одно лицо.
И хотя все студенческие годы я жил дома с родителями, отношения с отцом у меня так и не сложились. В школе я издавал газету, в университете изучал теологию. И то, и другое казалось отцу непрактичной и подозрительной ерундой. Но благодаря вмешательству матери я для него всегда оставался вне досягаемости. А когда старшего брата со скандалом выгнали из дому, я еще сильнее почувствовал на себе этот невидимый покров материнской защиты. Впрочем, в отличие от своего брата, я никогда открыто против отца не выступал, хотя относился ко всем его советам и наставлениям с плохо скрываемой иронией, чем раздражал его неимоверно. Но несмотря на это мы все же пытались, насколько могли, приспособиться друг к другу. Однажды он предложил свозить меня на море, которого я никогда прежде не видел. У него тогда была уже другая большая машина, и на ней мы поехали на Северное море. И хотя само по себе это удовольствие было для меня довольно сомнительным, так как в отличие от отца я очень плохо плавал, я все же оценил его усилия и охотно пошел ему навстречу. Впоследствии было еще несколько таких акций с его стороны: он, к примеру, оплатил мне автошколу, чтобы я мог получить водительские права. И все-таки по-настоящему сблизиться нам так и не удалось.
ИРИНА ЩЕРБАКОВА: Типичная ситуация для людей вашего поколения: отец либо погиб, либо стал чужим.
ЛУТЦ НИТХАММЕР: Да, к этому следует, пожалуй, добавить, что тогдашние молодые люди, выросшие уже в свободном обществе, крайне подозрительно относились к своим родителям, бывшим нацистам. Родители же, со своей стороны, чувствовали, что младшее поколение как бы ускользает от них. Но даже в очень авторитарных семьях дело обычно заканчивалось не перевоспитанием непокорных детей, а скандалами и навсегда испорченными отношениями. Именно это и произошло с моим отцом и братом.
Вообще говоря, война и нацистский режим оказали свое разрушающее действие на каждую семью, вопрос лишь в какой степени. У тех, кто не был эвакуирован из городов, воспоминания о гибели людей и разрушениях гораздо ярче и драматичней, чем у тех, кто, как наша семья, смог укрыться в деревне. Моя первая жена, например, всю войну оставалась в разрушенном Берлине.
Пожалуй, именно это больше всего объединяет нас, представителей поколения 68-го года: мы очень рано столкнулись со злом и насилием, смутно осознавая при этом, что и то, и другое исходит откуда-то сверху и имеет политические причины. Думаю, именно поэтому наше поколение в отличие от поколения моих детей всегда воспринимало политику и мораль как вещи неразрывно связанные.
Помимо этого был еще опыт бедной, ну или по крайней мере скудной жизни. Особенно это ощущалось в послевоенное время. Впрочем, я не помню, чтобы мне чего-нибудь не хватало, хотя все взрослые вокруг жаловались, что исчезла их любимая еда. Просто для нас было непривычно жить за счет собственного огорода, обменивать вещи на продукты и ютиться втроем в одной комнате. Но все же я не могу понять, как можно всерьез говорить о страданиях немецкого народа во время войны: разумеется, были и разрушенные семьи, и разбомбленные дома, и эвакуация, – все это мне знакомо, но я не считаю, что эти страдания, как бы велики они ни были, можно сравнить со страданиями, скажем, жертв Освенцима. Так что все эти рассказы о пережитых немцами ужасах меня совершенно не трогают. Больше того, я даже рад, что у меня есть опыт скудной жизни, потому что благодаря этому я знаю, как мало нужно человеку, если только он на самом деле не умирает с голоду.
ИРИНА ЩЕРБАКОВА: Сейчас в том числе и у нас в России «шестидесятников» охотно критикуют за то, что они, якобы, все видят в примитивном черно-белом свете, излишне политизированы и склонны к морализаторству. Что вы об этом думаете?
ЛУТЦ НИТХАММЕР: Признаться, мне трудно ответить на этот вопрос. Поскольку, мне кажется, что мои сверстники отнюдь не самые политизированные в этом поколении. Политические страсти кипели среди тех, кто был помладше, а когда я в 1968 году перебрался из консервативного бюргерского Гейдельберга в беспокойный Бохумский университет, мне было уже 28 лет. Ганс Моммзен как раз получил там профессорское место и взял меня к себе ассистентом. От пребывания в Бохуме у меня осталась масса впечатлений: я впервые оказался в большом индустриальном городе, и это было так же важно для меня, как студенческие бунты 1968 года.
ИРИНА ЩЕРБАКОВА: Вот как? Но ведь среди лидеров немецкого левого движения было много ваших ровесников? Руди Дучке, например.
ЛУТЦ НИТХАММЕР: Пожалуй, но они все-таки были еще студентами, хоть и на старших курсах. Но вообще-то все наши тогдашние вожди Сопротивления пошли в школу раньше меня, а я только в 1945-м – в те времена это была существенная разница.
Другое сильное впечатление, которое оставило у меня пребывание в Бохуме, – это забастовка рабочих-сталелитейщиков. Дело в том, что раньше я никогда не видел рабочей забастовки и вообще понятия не имел ни о каком рабочем движении.
Ну и, конечно, события 1968 года в Чехословакии… Иногда в книгах по истории я натыкаюсь на довольно странное утверждение, будто на Западе ввод войск в Чехословакию прошел почти незамеченным. А между тем, я отчетливо помню, как волновалась молодежь в Бохуме, как собралась демонстрация, кажется, по призыву СДПГ и профсоюзов, – ведь у многих в Праге были друзья и знакомые. Видите ли, до пражских событий у нас были надежды на либерализацию Восточной Европы, на пресловутый «социализм с человеческим лицом». А когда в Прагу вошли советские танки, мы вдруг поняли, что это утопия, и наши надежды лопнули, как мыльный пузырь. Для многих моих сверстников именно события в Праге стали первым серьезным политическим потрясением. Впрочем, важную роль для моего поколения сыграли и другие политические конфликты и протестные движения: выступления против ядерного оружия, отказ идти на службу в Бундесвер, берлинская стена, наконец. А для меня, хотя до того я никогда не был ни в одной из стран социалистического лагеря, очень важную роль сыграли события 1956 года в Будапеште. Кроме того, нельзя не упомянуть волнения 17 июня 1953 года в Берлине. Дело в том, что я в то время организовал школьную газету и посвятил этим событиям целый номер, где они освещались вполне в духе холодной войны. В этом номере мы поместили фотографии, где видно, как немцы швыряют булыжники в советские танки. Думаю, мы в то время придавали этим событиям большее значение, чем сами восточные немцы. Сейчас мне, конечно, за это стыдно, но тогда я очень собой гордился и даже послал номер в канцелярию федерального канцлера, чтобы показать, что и мы в провинции тоже не лыком шиты. Причем ответил мне не кто иной, как сам Глобке.
ИРИНА ЩЕРБАКОВА: Для моего поколения Глобке стал символом реваншизма в Западной Германии. Во всяком случае, об этом трубила советская пропаганда.
ЛУТЦ НИТХАММЕР: Я просто пытаюсь объяснить, почему у меня такое сложное отношение к 1968 году. Дело в том, что именно в это время я впервые открыл для себя немецкую леволиберальную традицию. Профессор, ассистентом которого я в то время являлся, был социал-демократом, и мы с ним организовали большую выставку, посвященную забастовке горняков.
ИРИНА ЩЕРБАКОВА: Вы имеете в виду ту старую донацистскую социал-демократическую традицию?
ЛУТЦ НИТХАММЕР: Да, а также традиции немецкого коммунизма, Розу Люксембург и пр. Все это было для меня ново, ведь я воспитывался в совершенно иной среде. Так что знакомство с немецким левым движением в лице бохумских студентов, стало важным событием в моей жизни. Хотя мне, признаться, никогда не нравилась ни подчеркнутая агрессивность этих левых, ни их преувеличенная самоидентификация, ни фракционизм. Поэтому я всегда старался, насколько позволяло мое положение профессорского ассистента, наладить диалог между радикально настроенными студентами и преподавателями.
ИРИНА ЩЕРБАКОВА: Во время студенческих забастовок?
ЛУТЦ НИТХАММЕР: Да, у нас, ассистентов, было в то время много возможностей. Я вспоминаю одно студенческое собрание, которое состоялось весной 1968 года: его участники требовали, чтобы в университетском совете были в равной мере представлены преподаватели, аспиранты и студенты. Преподаватели, разумеется, были решительно против, ведь для них это означало развал традиционной университетской системы. Студенты, наоборот, заявляли, что трехсторонний совет – это еще минимальное требование. Я придерживался умеренной позиции, но эксперимент с трехсторонней системой казался мне вполне осуществимым. Поэтому, когда напряжение в зале сделалось невыносимым, я предложил создать специальную комиссию по реформам и с помощью нее утвердить трехсторонний совет: если преподавателям эксперимент покажется неудачным, они могут обратиться в комиссию, в противном случае она должна стать постоянно действующим органом. Предложение понравилось, и, не успел я оглянуться, как меня уже выбрали председателем этой комиссии. Так мы стали вторым после института Отто Зура в Берлине учебным заведением в Германии с трехсторонней системой управления.
Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?