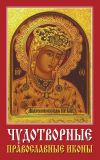Текст книги "Голая пионерка"

Автор книги: Михаил Кононов
Жанр: Современная русская литература, Современная проза
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 2 (всего у книги 15 страниц) [доступный отрывок для чтения: 4 страниц]
ГЛАВА ВТОРАЯ
В которой Муха поражена детской привычкой советских офицеров теребить женскую грудь, а также их коварным стремлением целовать девушку непосредственно в губы.
…Ах, не положено?!
А в трусы к пионеркам спящим по ночам лазать – это, по-вашему, положено, да? По какому такому уставу внутренней службы?!
Сколько уж раз поднимала вопрос: неужели же трудно разбудить человека заблаговременно, товарищи? Что за моду такую взяли, эгоисты высшей марки, – ни здрасьте тебе, ни разрешения не спросят, сразу кидаются с места в карьер, как наскипидаренные какие-нибудь белогвардейцы, честное пионерское! А ведь знают же, будьте уверочки, весь полк наизусть знает: сон у Мухи – богатырский, хоть кол на голове теши. Лукич сердобольный спервоначалу-то что ни ночь панику подымал, чудак. Тормошить кинется, в самое ухо заорет: «Ты что, концы отдала никак, Мушка? Машенька!» Приставал по утрам: почему, мол, не дышишь во сне, да пульса нет отчего, да холодная вся и зеленая, как мертвяк, – что ты, мол, за нелюдь за такая в наказание мне досталась? Ему, конечно, тоже несладко. Только-только после контузии в партии восстановился – обратно ротный стращает чуть не каждый день: «Вот убежит от нас твоя Муха, гляди, али завесится – партбилет мне сразу на стол кладешь, так и знай!» Рассказывает, а сам-то Лукич заикается, брови прыгают, глаза бегают, трясется весь – вот-вот развалится на запчасти. Крестится бедный, да так на Муху поглядывает иной раз, как будто прихлопнуть ее собрался, только не решил еще конкретно, за что именно в первую очередь. А Мухе ведь, между прочим, тоже и самой неудобно. С одной стороны, все, вроде, в порядке: приказ ясен, ну и вылетаешь себе на задание, как положено. Почему же тогда в это самое время тело твое, как бы отвинченное пока что, ведет себя как-то не по-людски? Какую ошибку допустила? Действовала, как указано командованием, а ведь генерал ошибиться не может, он бы сам в первую очередь подсказал, если она что не так, верно же? Значит, и нечего сомневаться. Сказано раз-навсегда: Родина слышит, Родина знает, и нечего тут рассуждать! С другой стороны, Лукича тоже понять можно: он-то не в курсе. Ну и пришлось, в результате, довести дедульке-бздульке, осветить положение дел, – как начались у нее в сорок первом секретные стратегические сны под личным чутким руководством легендарного полководца генерала Зукова. Лукич побожился молчать о Мухином особом задании до смерти, партбилетом поклялся и дал честное слово коммуниста с двадцатилетним стажем, за исключением тех восьми лет, когда он на нарах парился. А свой рафинад за завтраком стал отдавать Мухе, регулярно и без напоминаний. Даже материться при ней прекратил, а на ночь стал загораживать свои нары брезентом. Гостей Мухиных не боялся никогда, а снов, значит, застрашился: вот что значит контуженный по кумполу! Ну и ладно. В конце концов, его дело сторона, а наша задача, во-первых, стратегического характера, а во-вторых, не худо бы при этом и выспаться заодно, для чего ночь как раз и дается нормальным сознательным бойцам. Бессонницей пока не страдаем и, кстати, не нанималась всю ночь как в засаде дежурить, ждать, когда очередного козла черт принесет. Сама-то свидание, упаси бог, ни разу в жизни не назначала им, сосункам, фиг дождутся. Не контуженная еще, слава богу, самой-то, как Светка-фельдшерица, гостей на маздон зазывать, глазки каждому лейтенантишке строить, напрашиваться на членовредительство их гестаповское, – мерсите вас с кисточкой! Только ради них, паразитов, и терпишь, ведь дети же, буквально, хотя и офицера в душе. Так неужели же трудно за плечо девушку тряхануть или там за ногу какую-нибудь подергать предварительно? Кому же это, товарищи, приятно – от щекотки-то вашей невоспитанной просыпаться? Давайте практически смотреть! Вот тебе б самому, представь, хоть бы раз, спящему, начал бы чужой совершенно мужчина в трусах шмонать граблями своими ни с того ни с сего, да еще за лохматушку прихватывать. А? Да ты бы небось, аника-воин, такой шухер устроил, – всю бы дивизию по тревоге поднял в ружье! Рассуждать-то все мастера стали, положено – не положено, привыкли демагогию разводить высшей марки. А в той же самой боевой обстановке рядовой боец Мухина Мария выполняет свой долг скромно, безо всякого лишнего понта. Есть слово такое – «надо» – слыхали? А некоторым даже и на фронте почему-то своя рубашка ближе к телу, никогда не войдут в положение. Но факты, между прочим, на свете самая упрямая вещь, сам товарищ Сталин неоднократно раз подчеркивал. И в этой связи актив роты, здоровое ядро личного состава, – каждый рядовой боец всегда готов по первому же приказу до последней капли крови, причем ни шагу назад, буквально. Кстати, если в разрезе общественного лица, так Муха уже девятый месяц бессменно является членом редколлегии ротного боевого листка: что Гитлера изобразить, штыком красноармейским проколотого, что Сталина с усами – как раку ногу оторвать, три секунды. А в позатот четверг на собрании красно-ячейки выбрали даже агитатором – единогласно! Вот и успевай тут как хочешь – с одной-то жопой на три ярмарки, я извиняюсь. Потому начальство и довольно Мухой всегда, в пример ее ставит всем несознательным и нацменам, – они-то привыкли «моя твоя не понимай». Хотя и среди нацменов, безусловно, не все поголовно чудаки. Покойный комсорг роты, например, старший лейтенант Свинадзе на последнем собрании так и сказал, буквально: «Командование знает: Мухина – безотказная, с ней легко, можно положиться». Интересный такой был брюнет. Зубы крупные, белые, усики черные, миниатюрные такие, успел еще в ночь перед смертью рекомендацию Мухе дать в комсомол, утром его и срезало шальной пулей, царство небесное. А письмо из дому как, бывало, получит, лезгинку отплясывать как пойдет, – асса! асса! наливай-ка! – обмираешь вся прямо: Сталин вылитый, копия, жуткое дело! Хотя и грех, конечно, так необдуманно сравнивать, тем более простого грузина, ведь Сталин, хотя и с гор тоже спустился, но по нации, безусловно, человек совершенно советский, несмотря даже на акцент.
А вообще-то, в принципе, национальный вопрос разницы не играет. И Вальтер Иванович, кстати, немец был, хотя и советский учитель, притом немецкого языка, а не какого-нибудь там рисования. Или у них, у учителей, тоже уже не считается? Не считалось бы, так цел бы остался, а не попух по-глупому, по-немецки. Факт тот, что в заботливой девичьей дружбе любой Свинадзе нуждается раз в неделю как минимум, на общих основаниях, согласно организованной очереди. Да и все одинаково, и татары даже, не говоря уж об армянах. Один такой капитан Седлян на мине недавно подорвался, интендант был, в клочки разнесло. Ну до чего же интересный мужчина, царство небесное! В первый-то раз с ним прямо ухохоталась вся, буквально, до икоты. Только гимнастерку с себя сблочила, улеглась, он на коптилку фукнул, – и вдруг прямо на грудь Мухе что-то мокрое, холодное – шмяк! Лягушка? Ну, бляха-муха! И не шевелится, сучка такая, притаилась, прижалась. Дохлая, мамочки! Или не лягушка? Ведь интендант все-таки, должен соображать! А тут он как зарычит в темноте, как накинется! Грызть ее! Зубами, буквально. Лягушку! Прямо на груди у Мухи, под горлом. Вгрызается, горлом хрипит, клокочет, как янычар какой-нибудь из зоопарка. Инструмент свой при этом задвинуть все-таки не забыл, помнит, зачем пришел, не чокнутый, значит. Как понять подобное явление прикажете? Это уж потом Муха обхохоталась, конечно, а сначала-то, вроде, как-то все-таки дико: при чем тут лягушка, товарищи дорогие, вы что – вообще уже не ориентируетесь в обстановке? Интендант, тем более, не должен голодный-то быть уж настолько, так ведь? Признался он потом, извинялся даже, чудак, – обычай такой у него с детства, не может он с женщинами иначе швориться, не получается, обязательно должен одновременно и девушку тереть, и мясо сырое грызть. Вроде как только от мяса, исключительно, настраивается его инструмент, от мяса и крови. Вот и притаранит с собой каждый раз говядины кусок в полевой офицерской сумке – для аппетиту. Привыкла, конечно. А все равно, смех, бывало, так тебя разберет, – не остановиться, буквально, страшно даже: а вдруг теперь всю жизнь так проживешь – с разинутой хохоталкой? Липко, во-первых, щекотно, кровь-то и по шее стекает, и в подмышки, а этот игрун урчит себе только да чавкает, покуда всю лютость свою не изольет. Жалела его, как больного. Не виноват же он, чудак, если характер такой особый, верно? Другие хуже: и за грудь могут цапнуть, и за шею, за плечо, прямо до крови. А этот – за что его миной? За говядины полкило? Так ведь для дела съедал исключительно, не ради удовольствия обжорского. Царство небесное…
Так что нация – дело второстепенное. Главное – чтобы характер у офицера был не слишком уж скипидарный. Чтобы за кобуру не хватался чуть что, трибуналом не грозил, если не дашь ему в очко дуть или на флейте играть не хочешь: стыдно ведь, товарищи, даже хоть и в темноте, давайте уж как-то все-таки соблюдать. А нацию-то ему всегда простишь. Ведь каких только наций у нас в стране не расплодилось – жуткое дело! Даже якута живого однажды принесло. Думала сначала – китаец. Речь у него такая – каждую букву обсасывает как будто: «Муска, Муска, я сицяс, сицяс…» И невысокий, для них, говорят, характерно, – Мухе примерно до подмышки. С грехом пополам пристроился кое-как, подвалился, заправил дурака под кожу, туда-сюда пару раз дернулся, крикнул, как заяц раненый, брык – и захрапел себе, как заправский ездун. А Муха и рада: никаких с ним хлопот, даже и подмахнуть ни разочка не успела. Ткнулся он, голубь, носиком Мухе в пуп – и ваших нет. Только пятки из-под ватника торчат – миниатюрные такие пяточки. Желтенькие причем, как мандарины, – коптилка ярко их освещала. Радостно стало Мухе: с китайцем живым подружилась! Из угнетенной страны! Эксплуатируют там его почем зря, за человека не считают, а мы ему и погоны даже присвоили, и относимся наравне, как будто он настоящий. Да и есть настоящий, не кукла же заводная, верно? Натуральный почти что офицер, и шишка на месте, глазки вот только не до конца еще прорезались. Да пятки неуставные. Маринованные как будто. Ах ты лапочка! Взяла его за ушки, из пупа своего вытащила, подтянула повыше, разбудила деликатно и вежливо и, конечно, поинтересовалась, как все-таки по-ихнему, по-китайскому то есть, сказать, например, – «Даешь дружбу народов!» Обиделся, чудак. Видали? Гордый – страсть! «Ты зилой тефка! – кричит. – Ты нехоросый билять!» Вот редиска, а? С ними ведь по-хорошему нельзя, давно известно, – сразу нутро свое якутское покажут. Да откуда же знать заранее, якут ты контуженный или, может, японец какой-нибудь, на озере Халхин-Гол недорезанный? Когда вам копилку подставляешь, и двумя-то словами, бывает, перекинуться не успеешь, а на лбу у вас нация не написана, так что, может, вы все тут вообще эскимосы или даже каракалпаки, прости господи. Ну и что из того? Нация – болезнь незаразная, давно установлено. До сего дня косоглазыми от вас не стали – и дальше уж как-нибудь не окосеем, не пожелтеют наши советские пятки от ваших маринованных мандаринов. А этот скуластенький сапожки свои мальчиковые натянул да и покатился колбаской в китайскую свою земляночку. Только наутро Лукич довел Мухе про якутов: в четвертую роту двое их прибыло с пополнением на прошлой неделе. Рассказал
заодно, как они, якуты, на воле живут, за Полярным кругом. Ведь до чего дошли с гордостью своей узкоглазой: оленей прямо сырыми едят посреди тундры, в снегу, даже Лукичу давали сырую оленину и кровь, еще теплую, потому, говорит, и остался живой, в лагерях-то голодуха стояла – насмерть; а советская власть ничего пока что поделать не может с подобной дикостью, только руками разводит и дала им, якутам, к счастью, настоящую грамотную письменность, даже русскими буквами мы с ними поделились, потому что народ все же смирный, безвредный, такие чудаки, только пьют все время спирт да помирают от туберкулеза. Так при чем же здесь тогда национальный вопрос, спрашивается? Если, оказывается, и на севере, и на юге мужской пол без мяса сырого ну просто жить не может, хотя большинство и скрывают, конечно, стесняются своих невоспитанных манер. Да тут ведь скрывай, не скрывай, шила в мешке не утаишь. Когда он тебя в первые-то минутки спокойно да ласенько потягивает да холит, а потом входит в раж, жарить принимается как положено, да выть, да рычать, да зубами скрипеть, как припадочный, – пускай даже и хохол обыкновенный, или белорус, или москвич коренной, – тут ведь, товарищи, со стороны-то сразу все видно, как бы вы в мясо девичье вгрызлись, клыками впились бы, жуткое дело, только волю вам дай. Природа такая у вашего мужского рода – хищная. Хотя с виду как будто и прирученные вы домашние вполне животные: кто повадкой на жеребца-стригунка смахивает, чуть что – сразу на дыбы, кто баран высшей марки, что в лоб, что по лбу, за целую ночь, бывало, ему не докажешь, что товарищ Лещенко поет все же лучше Вертинского, задушевней. А иной, ну прямо козел вылитый: тот бы тоже, небось, звездочками на погонах гордился, как павлин, только побольше навинти. Или вот Лукич смирный – он, конечно, мерин сивый. К узде притерпелся, не взбрыкнет, тянет свой воз ни шатко ни валко, и уж не натрет ему холку хомут, не чует шкура, задубела. Отсюда у него, конечно, богатый жизненный опыт. Умный – как жид, не голова, а Дом советов. Всегда и обстановку тебе разъяснит, и тактику верную выбрать поможет, будьте уверочки.
«Ты главное пойми, чудачка, – Лукич говорит. – Наций на нашей Земле-планете фактически пока только двое: мужики да бабы. Бабы, как полагается, удирают, конечно, юбки задрав, а мужики – за ними. Но не галопом – только рысцой, исключительно. Не догоню, мол, так хоть согреюсь. Таким макаром у нас жизнь-жистянка и бежит по кругу спокон веков, как белка в колесе. Называется по-научному прогресс. Поэтому к тебе всякий офицер и лезет со своей свайкой – это твоя женская доля, порядок такой от сотворения мира. В бабью зрелую пору войдешь – и сама с промыслом Божьим придешь в согласие, а пока суд да дело – терпи. Деваться нам с тобой все одно некуда. Лезли и будут лезть, факт».
Сам-то Лукич ни разу не лез, слава богу, не о нем речь в данном случае. Лукичу это не надо. Он святой, все говорят. Контуженный потому что. А кстати, и не предусмотрено сержантскому составу офицерскую забаву напяливать, он сам сколько раз повторял: «Что попу можно – дьяку нельзя!» Про офицеров он еще вот как выразился однажды: «Ихние благородия все одним миром мазаны. У них рука руку моет, ворон ворону глаз не выклюнет, известно. А в барыше со всех дел – кто? Только ты и есть в барыше, Муха. Им-то после войны и погордиться будет большинству нечем: всем офицерским составом две юбки обслуживали, твою да Светки-фельдшерицы, кобылы этой стоеросовой, двустволки позорной. А ты теперь на всю жизнь богачка: кавалеров имела – полный гарем персидского шаха. У тебя и опыт теперь на все случаи жизни, и все преимущества. Состаришься – вспомнишь не раз, как за тобой майоры да подполковники табуном бегали, не говоря уж о лейтенантиках зеленых. И внучка тебе еще позавидует, а может, и правнучка, помяни мое слово крепкое, бляха-муха!»
Нет, тут уже все-таки дело принципа: положено или не положено? Несовершеннолетняя, это раз. А во-вторых, давно уже в действующей армии не на птичьих правах, не жучка какая-нибудь, не шестерка. В солдатской книжке черным по белому значится: второй номер пулеметного расчета. Причем нигде особо не оговорено, чтобы женскому персоналу сто грамм не выдавать, это ежедневная законная норма на каждую боевую единицу – на то и война. Не положено! А водку у непьющих на шоколад выменивать, да в трофейную фляжку со свастикой сливать, как Лукич святой, да по ночам втихаря насвистываться в сиську у себя на нарах за брезентом каждую божью субботу – положено? А если ночью в бой? Им, гадам, закон не писан, а тобой, значит, если еще не комсомолка, каждый может командовать как угодно, что днем, что ночью – да? Да если бы не комиссар Чабан, так еще в сорок первом всем бы вам, кобелям, на всю жизнь бы месть сотворила. Пистолетик-то вот он, всегда при себе, в заднем кармане затырен, даже ночью задницу греет, покуда галифе с тебя не стащит какой-нибудь аника-воин. Сунуть бы ствол себе в рот – вместо горькой-то вашей вафли! Так бы зубами и вгрызлась напоследок, чтобы помнили всю жизнь, и – трах-бабах! Пусть потом трибунал разбирается, кому из вас первому за юной девушки незабвенную гибель письку оторвать, – все распущенность проявляли, всем гамузом, каждый достоин! Но должен же кто-то и сознательность в себе чувствовать, верно? Тем более, если мечтаешь вступить в комсомол, как полагается. Уже и рекомендацию подписал сам комсорг, – успел перед смертью, царство небесное, мировой был парень. Никогда подпись его не сотрется: химическим карандашом зафуфырил! Сама ему, чудаку, грифель наслюнила, пока курил после пятого, что ли, захода: уже и в лягушку с Мухой наигрался, и в маятник, и салазки ей загибал, и вафелькой угощал, – все выдержала, не пикнула даже, а ведь куда только кукурузу свою не запускал, игрун. Морально, конечно, очень было тяжело. Если, конечно, не знать, за что борешься, не видеть ясно большую высокую цель, не иметь в душе настоящего комсомольского огонька. А когда цель ясна, когда тебе доверяют товарищи, когда начальство тобой довольно, жизнь любого человека сразу же приобретает глубокий смысл, это ведь и якуту даже любому понятно. А не понятно тебе – научим. Заставим понять! Всем коллективом, всей страной, бляха-муха! Ты главное осознай: весь смысл – в борьбе, в первых рядах, рядом с Павкой Корчагиным! Не могу, говоришь? Через «не могу»! Так нас и партия учит, и родной комсомол. Ты в самом себе осознай: главный твой враг – собственная твоя слабость, мягкотелость, расхлябанность, политическая незрелость и мелкобуржуазный оппортунизм. Ты сам, в общем, и есть главный свой враг, – и днем и ночью, круглые сутки. Вот против себя-то в первую очередь и борись, чудак-человек! Пока не задушишь в корне все свои мещанские предрассудки: несовершеннолетняя, мол, живот болит, и так далее. Обижают ее, фифу маринованную, – видели цацу? Корчагину, думаешь, легче было? В сто раз тяжелей, в тысячу, уж будьте уверочки. Ты только сравни, сопоставь, кто он, а кто – ты. И при этой своей всемирной вечной славе, он ведь до чего скромный был – это не передать! Ни на минуточку не забывал: есть такое слово на свете – «надо»!… Этим и пользуются, конечно, эгоисты единоличные. Знают, что для тебя всегда коллектив на первом месте. Ну и, конечно, лезут. Проснешься, схватишься за трусы, – погоди, я сама спущу, никуда не денусь, раз уж твоя очередь нынче, как тебя там, Колька, Сашка, не дергай, охолони маленько, дай хоть глаза протру! А резинка уже, готово дело, опять порвана, причем кончик в дырку ушмыгнул, только булавкой теперь вызволишь…
И что такое они все там, под трусами, обнаружить хотят – удивительное да расчудесное? Конечно, в любом ленинградском дворе все нормальные пацаны обязательно играют в больницу, – укол в попу голую делать, – но ведь то дети малые, так? Тут-то все ясно. Просто интересно ребятишкам, как человек устроен, вот и проявляют любознательность, как и полагается сознательному будущему пионеру и комсомольцу. Из каких он на самом-то деле винтиков, гаечек да шлангов – наш советский человек? Ведь он же тоже машина, верно? Причем механизм высшей марки: передвигается, во-первых, и говорить может, как радио, разными голосами, и работать умеет не хуже какого-нибудь станка, особенно если такое и присвоено почетное звание – ударник. С другой стороны, возьмем куклу, например. Хоть булавкой ее коли, хоть башку откручивай напрочь – молчать будет, как убитая. А человек почему-то на ее месте обязательно заорет, как будто его режут, стоит только чуть посильней булавкой кольнуть, если без очереди на укол влез, бессовестный. Но вот до какой степени он терпеть может, это науке, к сожалению, пока не известно, не установлено. Поэтому каждому будущему бойцу с детства необходимо вырабатывать солдатское хладнокровие. Хотя и танки наши быстры, как в песне поется, а все же на всякий пожарный случай. Ведь и тебя могут, как Мальчиша-Кибальчиша, самураи какие-нибудь поймать, да начнут со своими дурацкими харакирями приставать: выдавай, мол, своих, пионерская твоя морда, а не то хуже будет! Ведь неизвестно еще, с кем завтра придется воевать: весь мир против страны советов ополчиться готов, всем она поперек горла встала, каждый буржуй напасть только и мечтает, причем как можно вероломней, жуткое дело! В этой-то связи как раз и надо постоянно тренироваться, чтобы любая пытка была нипочем, чтобы Сталин всегда на тебя мог положиться, когда новую военную тайну придумает на страх врагам, самую непобедимую. Потому и выбрали Муху тимуровцы главным хирургом: у нее для этих воспитательных целей стойкости и героизма постоянно в трусах имелась булавка английская, нарочно затупленная немного об асфальт, чтоб не до крови колоть, если кто-то все-таки еще боится по молодости лет, не в полную мощность сила воли развита. Даже здоровые уже лбы, лет шести-семи, без очереди ломились на прием, в драку лезли, буквально, полдня могли спорить, кому из них укол Муха сделает, причем обязательно требовали без наркоза. Такому сознательному чудаку, конечно, с удовольствием навстречу пойдешь, потому что видишь: у человека есть цель. Ведь терпение не только от силы воли зависит, надо, чтобы человек осознавал цель – самым терпеливым на свете стать, настоящим большевиком, кремневым, стальным, или хотя бы пока для начала деревянным. А саму Муху кололи в последнюю очередь – каждый по три раза. Но поощряла подобным образом только тех, кто сам выдержал, не разревелся. Сама-то хоть бы пикнула когда – нисколечко и не больно, подумаешь! Так и ходила в главных хирургах, покуда ее в пионеры не приняли. Малышня потом еще целый год хвостом за Мухой таскалась: ну, дай укольчик сделать, ну, тетя Маша, хоть разик! Привыкли, говноеды, что бесстрашная тетя Маша, самая терпеливая. Потому ведь и оказали ей доверие старшие товарищи, красный галстук повязали на грудь – как примерной активистке. Теперь во дворе каждому пацаненку, каждой пацаночке доводить приходилось индивидуально: да поймите же вы наконец, юным пионерам детские игры чужды, у них свои законы коллективизма и настоящие взрослые принципы, дружба дружбой, а табачок врозь!
А на фронте сразу же поняла: взрослые-то, оказывается, еще хуже мальчишек. Жуткое дело! Главное, уже и анатомию большинство офицеров проходило, а все воображают какое-то чудо там раскопать – у обыкновенного нормального человека под трусами. Как психические дурачки какие-нибудь, и смех и грех, честное пионерское! Даже хуже детей – в сто раз! Нормальный советский тимуровец, хотя бы пускай он, допустим, ябеда высшей марки, самый отпетый гогочка, нытик и маменькин сынок, – и все равно, даже и он, предатель, да никогда же в жизни до низости такой не додумается – резинку на тебе рвать или в грудь голую зубами впиваться. Потому что схлопочет, как пить дать, по уху в ту же секунду. И прекрасно об этом догадывается,
и зубы свои молочные распускать не собирается, хотя они у него и чешутся, может, особенно когда выпадать собираются. Не положено – значит не положено. Не сосунок уже, не грудной младенец. Что в больницу, что в дочки-матери – нечего свои единоличные правила выдумывать, никто права такого не давал. Правила в любой игре одни на всех: есть желание получить укол – занимай очередь на общих основаниях. Не умеешь – научим, не хочешь – заставим, все тихо, по-хорошему. Но если ты, друг ситный, щипаться задумал прищепкой бельевой, или котят мучить, или жабу соломинкой надувать, если тебя наши общие правила не устраивают, – извини-подвинься, как говорится, не по адресу обратились, гражданин, другую компанию себе ищи. Там тебе и кусаться разрешат, и резинки рвать – хотя бы в соседнем дворе, в доме пятнадцать, там все такие – лишенцы деклассированные: у кого папаша враг народа разоблаченный, у другого дядя кулак, а третий сам исключенный из пионеров, – банда подобралась как на подбор, жуткое дело прямо! А в нашем доме на все пять этажей ни одного чуждого элемента не осталось, уничтожены все как класс. Да если бы один кто из нашего двора хоть раз допустил подобное поведение – весь бы коллектив моментально отреагировал. У нас-то ребята мировые, запинали бы его, психа, на фиг, не видать бы ему тогда не то что титьки тети Машиной, укола самого простого и то ни разочка больше не дала бы ему сделать, ни в попу, ни в живот, – на пушечный выстрел не подпустила бы. Псих и есть потому что! Станет ли вас сознательный советский ребенок за соски кусать, – вы сами-то задумайтесь, товарищи дорогие! Ведь это уму непостижимо, кошмар какой! Не то что там пионер со стажем, – да в нашем дворе любой же сопливый пизденыш всегда в состоянии разобраться, оценить обстановку и взять себя в руки, как положено, несмотря что, может, он пока от горшка два вершка.
А эти чудаки – ну как с цепи сорвались, честное пионерское! Главное, ладно бы только лейтенанты зеленые, у них и вправду молоко на губах не обсохло, не успели еще мамкину сиську забыть, – но ведь и старший комсостав, вот что поражает! Не говоря уж о среднем. Со стороны посмотреть на какого-нибудь майора Хрюкина – кадровый офицер, орденоносец, зубы белые, крупные, интересный еще вполне сорокалетний старичок. А на самом-то деле у него с утра до ночи одно на уме, оказывается. Раздеться еще не успеешь, он сразу же тебя лапой – цап! – аж дыхание перехватит. Как будто руки у него чешутся – что бы такое схватить! Ну и начнет, конечно, тискать тебя, мять, сжимать-разжимать, – месит, в общем, как тесто, пока все дойки не распухнут. А потом вдруг как кинется, как присосется, чудак такой, – жуткое дело! Пыталась им, как людям, объяснять: нету там у меня молока, не выдавливай, все равно ни капли не выдоишь, сколько раз убеждалась. Только зарычит Хрюкин, как звереныш голодный, и – зубами. Грызет, кусает, всасывает, облизывает, как будто ты мороженое, крем-брюле, – втягивает, как соску, уже кажется, что вся ты там, в пасти у него, целиком помещаешься, прямо вместе с сапогами, – ну хватит же, товарищ майор, бесполезно это; да вы, может, сгущенки хотите, так у меня банка открытая под топчаном, я ведь тоже любительница, протяните руку-то, пошарьте внизу, нащупайте, – не слышит. Причмокивает, сопит, подскуливает, – кутенок вылитый, слепой щенок матку сосет. И такое, главное, впечатление от этих его стонов раненых, как будто он, чудак, чем-то там все-таки насасывается себе тихой сапой, – неужели же кровью моей, бляха-муха? Сколько раз потом проверяла: нет. Ни кровинки, ни капельки. Только синяки красные – от этого ихнего хватанья голодного – второй уже год не сходят. И соски оттянуты, как у суки кормящей или козы, – так фигами и торчат, мол, фигос под нос вам, товарищ майор, а не молочка сладенького, – пустышку сосите!
Привыкла уже – в принципе. Только зудит постоянно и пить хочется по утрам – жуткое дело, как будто с похмелья. Лукич смеется, паразит: «Что, Муха, обратно кишки горят с перепою? Сколько тебе раз повторять: с начальством пить – только хмель изводить». Смеется, а сам слезу свою контуженную в углу глаза пальцем давит. Жалко ему, конечно, Муху, ведь слышит все по ночам у себя за брезентом, да помочь не может, руки уставом связаны. А слезет кавалер с ее топчана, оденется, уберется по-тихому восвояси, закроет, наконец, Муха глаза, – тут Лукич сразу же со своих нар – прыг! Подойдет, поправит на Мухе ватник, подоткнет с боков, погладит ее тихонько по голове, перекрестит на ночь и сам, дурачок, перекрестится: «Отче наш, Иже еси… Богородице Дево, радуйся!…» Хоть и контуженный, а хороший все-таки человек, стремится войти в положение. Почему же вдруг хочется его, чудака, в добрую такую минутку – матом покрыть? Но в то же время и сознает Муха, что если бы силы были, если бы не пил снова полночи кровь из ее груди майор Хрюкин, или какой-нибудь стройный капитан Стремянный с твердыми губами, или подполковник Копытин, – то непременно тогда она за это свое постыдное желание ругаться на доброго, ни в чем не виноватого старичка, за злобу непонятную на Лукича святого тут же застыдилась бы, будьте уверочки, покраснела бы и попросила скорей прощения. Вот именно – бы. Если бы да кабы, – а ни ногой пока что не шевельнуть, ни грудь голую прикрыть мочи нет. Лукича-то стесняться нечего, а соски на воздухе меньше, вроде, зудят, чем под одеждой, очень все-таки воспалены. Хоть и нельзя сказать, чтобы майор Хрюкин такой уж был яростный и ненасытный сосунок, как, например, подполковник Быковский, который всегда норовит оба соска сразу в рот себе запихать и очень злится, когда это у него не получается. Причем саму же Муху и обвиняет, что похудела, несмотря что сам-то ни разу ни шоколаду девушке не принес, ни хотя бы сгущенки банку. А как тут на них на всех тела напасешь, если без дополнительного пайка, при такой ответственной должности? С одним только потом сколько из тебя выходит – кто считал? А тела всем подавай мягкого, сытого, крепкого, чтобы в руку взять было приятно и буфера, и вообще, любую часть твоего девичьего организма. Ну так приносили бы шоколад регулярно, в чем же дело? Нет, они шоколад будут сами жрать, а тебя потом обвинять, что вторую грудь одновременно до пасти им, видите ли, не дотянуть – до того похудела. Каждый из себя фон-барона строит! А если Хрюкин и принесет когда шоколадку, то потом целый год вспоминать будет: ложись, мол, так, как в тот раз, когда шоколадку тебе принес. Как будто Муха теперь всю жизнь должна за ту шоколадку корячиться, – вот скупердяга, а?!
Вообще-то почти всегда по повадкам, – по тому, как он к тебе подваливается, да как заправляет, и распаляется, и на нет сходит наконец, – всегда по этим данным можно вполне догадаться, какой кто на самом деле офицер, – жадный эгоист-единоличник или все-таки, может быть, не совсем фон-барон, а хоть чуточку сознательный товарищ. Хотя, по правде если, с большинством офицерского состава и не поймешь: то, вроде, и внимание к девушке проявит, и поговорит с тобой по-товарищески, не торопясь, даже подумаешь, бывает; хоть один-то нашелся из всех, не надо ему этой дури детской, взрослый уже, серьезный мужчина, вплоть до того, что даже уже можно просто так рядом с ним лежать и беседовать, как с братом родным или хотя бы двоюродным, – одно удовольствие, да к тому же и резинка останется цела – красота! Тут-то он на тебя и вскочит, как казак в седло, да и поскачет галопом. Как подменили человека, жеребец жеребцом, спасибо хоть не подковали его, а то бы совсем затоптал насмерть. А потом, когда дело сделано, – уже снова, вроде, на человека похож, ни обиды не держишь на него, ни злобы к нему нет за такие грубые да неотесанные манеры и жуткий кобелячий эгоизм. Легко, когда знаешь главное: для тебя это служба, работа, долг перед Родиной и родной партией, а для него, чудака, то ли болезнь хроническая, то ли припадок, что ли, а с больного – какой спрос? Тем более, он ведь фактически ребенок, разве можно всерьез принимать?
Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?