Текст книги "Архипелаг"
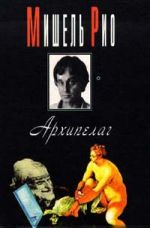
Автор книги: Мишель Рио
Жанр: Современная проза
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 1 (всего у книги 6 страниц) [доступный отрывок для чтения: 2 страниц]
Мишель Рио
Архипелаг
Принц Джон:
О мама! Мама! Моя милая мама!
Сэр Печальный Советник
(иначе именуемый Пересмешник):
Государь! Перестаньте сосать палец! Это невыносимо!
– Вас хочет видеть мадам Гамильтон, – сказал директор.
Я оторопело воззрился на него, потом перевел взгляд на Алана Стюарта, удивленного не меньше моего. Директор и сам, казалось, слегка озадачен, как если бы привычный миропорядок нарушило небывалое, тревожное событие.
– У нее дома, сейчас?
– Само собой, поспешите же.
И повернувшись кругом, он торопливо зашагал к главному входу в колледж.
– Похоже, бедняга Рантен утратил эксклюзивность своей привилегии, – промолвил Алан, провожая глазами маленькую чопорную фигуру, удалявшуюся через парадный двор. – Привилегия, конечно, лакейская, но люди такого сорта весьма ревниво оберегают мелкие утехи рабства, которые льстят их тщеславию.
Никто из учеников никогда не вступал в непосредственное общение с хозяйкой Hamilton School. Уединившись в своих владениях, своего рода hortus con-clusus (Огороженный участок), расположенных у внешней ограды колледжа в северо-восточной части парка, за густым пологом высоких деревьев, Александра Гамильтон никогда, во всяком случае пока длился учебный год, не переступала границ территории, отведенной школе, – четкого и незыблемого рубежа, который она проложила между общественной жизнью колледжа и своим нежеланием быть навязчивой, а может быть, равнодушием. Не считая обслуги, трех женщин, одна из которых жила в ее доме, единственным членом нашего сообщества, допущенным в это своеобразное святилище, был как раз директор колледжа – в последнюю пятницу каждого месяца его приглашали к обеду, во время которого он делал свой отчет и, в случае необходимости, получал инструкции. И вот теперь мы смотрели ему вслед, а он во фраке, с папкой под мышкой, походкой столь подчеркнуто непринужденной, что она выдавала его озабоченность, удалялся по главной аллее, которая вела к северным воротам ограды и от которой, чуть отступя, ответвлялась дорожка в частные владения Александры Гамильтон.
Шесть с лишком лет назад поступив в Hamilton School, я заканчивал теперь последний год обучения. Громадное здание колледжа в стиле Тюдоров было при королеве Елизавете построено на северо-востоке Джерси (Один из Нормандских островов в Ла-Манше, принадлежащих Великобритании.) предком нынешней владелицы. Из верноподданнического рвения, чтобы угодить не приказу, а небрежно оброненному пожеланию государыни, он на свои собственные деньги основал учебное заведение, призванное укрепить англофильские и франкофобские чувства детей именитых граждан архипелага, чем заслужил от Ее всемилостивейшего и прижимистейшего величества одобрительную улыбку– венец жизни, прожитой при дворе. Влачивший более или менее жалкое существование в течение двух веков колледж расцвел в эпоху Французской революции, сделавшись как в учебном, так и в политическом смысле оживленным очагом эмиграции. Именно в эту эпоху здесь утвердился принцип двуязычия, поскольку английский преподавательский состав пополнился по меньшей мере равным числом учителей, привезенных с континента в пожитках изгнанных дворян. Этот принцип сохранился ив дальнейшем, все предметы преподавались на двух языках, и по мере того как в XIX веке партийные соображения были мало-помалу вытеснены педагогическими задачами, за Hamilton School утвердилась слава первоклассного учебного заведения, которая в XX веке стала уже всемирной. Преподавательский состав подбирался на основе двояких жестких требований: соискатель должен был хорошо знать свой предмет и быть талантливым педагогом, причем оценивали его, исходя не из некой зыбкой психоадминистративной нормы, а из его личных качеств – способности ясно излагать материал, поддерживать в учениках постоянный интерес к занятиям и чутко откликаться на все новое, умея увлечь молодежь. Ни строгость отбора, ни обязательство постоянно жить в Джерси не отпугивали многочисленных претендентов, поскольку платили в Hamilton School раз в пять больше, чем в других учебных заведениях подобного рода, как частных, так и общественных. Круг учеников, ограниченный тремястами индивидуумами мужеского пола в возрасте от десяти до восемнадцати лет, представлял все уголки земного шара, где английский и французский были государственными языками, где в силу политической или экономической зависимости они играли первенствующую роль или – реже – где сказывалось их культурное обаяние. Каждый ученик, вышедший из Hamilton School, каково бы ни было его происхождение, в принципе мог выдержать любые экзамены за полный курс среднего образования и поступить в любой университет или другую высшую школу во всех странах бытования этих двух языков. Молодой француз мог ничтоже сумняшеся записаться в Гарвард или в Оксфорд, новозеландец – продолжать учение в Сорбонне, успех им был обеспечен. Ученики также проходили двойной отбор. Первый, совершенно произвольный, был отбором чисто денежным. Годичная плата за обучение составляла чудовищную сумму. Лично я не раз пытался разгадать экономическую тайну моего пребывания в колледже, поскольку мать воспитывала меня одна и наше материальное положение не выходило за пределы среднего достатка. От всех моих расспросов на эту тему мать неизменно уклонялась. Я знал, что она была подругой детства Александры Гамильтон – может быть, в силу этого я пользовался каким-то особым статусом. Однако щепетильная гордость матери опровергала подобную гипотезу, и в конце концов я пришел к выводу, что непомерные расходы по моему образованию взял на себя единственный родственник матери, эксцентричный дядя-миллионер, заядлый холостяк, который обожал племянницу. Происходя из франко-британской семьи, он уже много лет трудился над любопытным, чтобы не сказать безумным, проектом-сравнительной двуязычной англо-французской энциклопедией с двумя редакционными группами, каждая из которых не только не имела понятия о параллельной и по сути идентичной работе другой редакции, но даже не подозревала о существовании последней. Принимая во внимание происхождение дяди и его манию, школа, подобная Hamilton School, должна была представлять в его глазах громадный экспериментальный интерес, и он, несомненно, всячески поддержал намерение матери отдать меня туда. Критерием второго отбора, более оправданным, были личные достоинства ученика. Второгодников в Hamilton School не держали. Если ученик по той или иной причине не мог достичь определенного уровня или на нем удержаться, его отправляли домой, будь он хоть отпрыском самого премьер-министра Великобритании. К классическим предметам, которые преподаются во всех средних учебных заведениях, в последние три года добавлялись кое-какие университетские дисциплины. Особое внимание уделялось тому, чтобы ученики получили достаточные навыки в спорте, в физическом труде и в области искусств – этим занятиям отводилась значительная часть дня. Словом, homo hamiltonis должен был в равной и существенной степени стать homo sapiens, faber u ludens (Человек разумный, созидающий и играющий), иными словами, человеком порядочным, или джентльменом. Когда в начале пятидесятых годов Александра Гамильтон унаследовала от своего отца это заведение вместе с его искушенным и компетентным директором, французом по имени Рантен, слава колледжа достигла своего апогея. Александра Гамильтон доверила директору бразды правления этой частью полученного наследства, а сама уединилась в своих владениях, которые покидала только для того, чтобы совершить какие-то неведомые далекие путешествия.
Так вот, представляя себе, что сейчас материализуется миф, уже много лет будораживший коллективное сознание нашей популяции, а также индивидуальную фантазию известного числа особей, образ, в некотором роде вобравший в себя все потенциальные возможности невозможного и потому предоставлявший широкий простор самому разнузданному воображению, я пришел в некоторое возбуждение, в котором смешались робость, любопытство и растерянность, всегда предшествующая внезапному переходу от мечты к действительности, непременно чреватому либо восторгом, либо разочарованием.
– Замолви ей за меня словечко, старина, – бросил мне вслед Алан. – Скажи ей, что в моих похотливых мечтах я отвожу ей роль сексуальной рабыни. Может, она придет мне на помощь? Не забудь подчеркнуть, что мои мечты похотливы, – добавил он.
Я обернулся. Он смотрел на меня – его высокая, элегантная, сутуловатая фигура, восемнадцать лет тянувшаяся вверх, теперь уже, казалось, источала некоторую изысканную усталость, порожденную бременем плоти и жизни; над ясной зеленью глаз реяли каштановые волосы, красивое лицо оживляла чуть заметная ироническая улыбка. От всех повадок Алана и от его облика исходило редкостное обаяние, под которое, едва он поступил в колледж, немедля подпали все обитатели Hamilton School; смягчая неслыханную вольность его поведения и дерзкие речи, это обаяние не раз спасало голову Алана от дисциплинарной гильотины. Он держался отчужденно и не без высокомерия. Мы оба учились в выпускном классе. Я был двумя годами моложе его и кое в чем наверняка казался ему инфантильным, но со мной он установил необычные для него короткие отношения. В распределении ролей между нами существовало известное равновесие. Его ранняя зрелость, тем более при нашей разнице в возрасте, иногда тяготила меня и даже подавляла/В большинстве спортивных дисциплин мы состязались на равных. В научных дисциплинах он не без досады почти всегда вынужден был уступать мне первенство. Но в общем он был лидером, а я маргиналом, что как бы уравнивало нас, превращая наши отношения в некий добровольный союз популярности и одиночества, и это избавляло меня от унизительности рабства, а его от унизительности снисхождения.
Пройдя по двору, я ступил на аллею, ведущую к северному порталу. На архипелаге царствовала весна, Джерси овевал легкий восточный ветер с континента, ровный, тихий и прохладный; он очистил небо от облаков и так выгладил зыбь Ла-Манша, что море напоминало спокойное озеро. Ветер, стлавшийся над морем в своем безмятежном странствии между Котантеном и островом, смешав испарения земли, воды и растений, пробужденных к работе лучами солнца, которые беспрепятственно струились в незамутненном эфире, составил этот запах перегноя с добавлением йода и соли и, помаявшись в замкнутом пространстве низины Розе-ля, теперь рассеивал его по владениям Hamilton School, утвердившимся на своем лесистом плато. Справа от меня столетние дубы парка, занимавшего всю восточную часть имения, небрежно шелестели кончиками своих ветвей, уже покрывшихся почками из-за необычно ранней жары. Деревья были посажены в безупречном порядке, так, чтобы каждому хватало пространства и света и оно могло свободно развиваться, за ними всегда заботливо ухаживали, благодаря чему, а также постоянному умеренному климату дубы разрослись, достигнув редкой высоты и мощи. Слева, по западной половине владения, вокруг спортивных сооружений: стадиона, площадки для крикета, теннисных кортов и громадного здания, в котором размещались гимнастический зал, бассейн и два зимних теннисных корта, – тянулись обширные лужайки, своего рода идеальный образец английского газона. В северо-западном углу, у ограды, высилось еще одно, трехэтажное здание, поделенное на квартиры и предназначенное для персонала, – здесь обитали все служащие колледжа, кроме преподавателей, которые жили вне стен Hamilton School в различных островных приходах, чаще всего в Сент-Хельере, кроме административных работников, которые жили в самом колледже в более просторных и роскошных квартирах, и библиотекаря Леонарда Уайльда, который то ли из мизантропии, то ли потому, что не желал удаляться от своих драгоценных книг, предпочел устроиться на отшибе, в небольшой квартирке, прилегающей к читальному залу. Прямо передо мной, там, где центральная аллея, выбегая за ограду, продолжалась дорогой, спускавшейся к Розелю, распахнутые створки громадных ворот открывали узкую перспективу восточной части бухты Баули Бей – молодая зелень смешивалась там с нагромождением скал, уходящих вниз к синей глади моря. Эту гладь дробили иногда мимолетные солнечные блики, косые вспышки которых подчеркивали смягченный очерк волны, уплощенной восточным ветром. Остальной обзор был ограничен каменной оградой трехметровой высоты и длиной в тысячу восемьсот метров, которую только в двух местах прорезали ворота – они обеспечивали на севере и на юге связь между аллеями, обслуживавшими все части имения, и дорожной сетью Джерси.
Не дойдя до северных ворот, я свернул с центральной аллеи направо и среди затеняющих свет вековых дубов пошел по дорожке, ведущей к обиталищу Александры Гамильтон. Вскоре я оказался у стены, построенной относительно недавно, которая, соединяя две стороны старой ограды, отгораживала в северо-восточном углу общего парка частный парк почти квадратной формы и размером около гектара. Я вошел в калитку. Припертый к ограде старинный трехэтажный загородный дом, построенный еще, вероятно, в XVIII веке, был великолепно отреставрирован. Из-за ограды Hamilton School я не раз разглядывал его северный, совершенно глухой фасад, не оставлявший надежды увидеть за ним хотя бы промелькнувшую тень. Зато южный фасад, как и торцовые стены, был прорезан множеством окон, аллея перед ним раздваивалась, ее главная ветвь упиралась в ступени, которые поднимались к широкой двустворчатой двери, а боковая дорожка, более узкая, огибала юго-восточный угол дома и вела, очевидно, к какому-то служебному входу. Здание окружали лужайки, обрамленные аллеями и занимавшие приблизительно треть территории, больше половины которой, засаженной дубами, было как две капли воды похоже на общий парк, часть которого она и составляла до того, как ее отгородили внутренней стеной.
Со все возрастающим смятением я не шевелясь постоял наверху каменной лестницы, потом, решившись, постучал в дверь тяжелым бронзовым молотком. Вскоре одна из створок открылась и в проеме показалась женщина. В строгой одежде, сочетавшей только серый и белый цвета и не лишенной пуританской элегантности, она была на вид лет пятидесяти. Худощавая, высокая и прямая фигура, узкое лицо с правильными, чуть заостренными возрастом жестковатыми чертами наводили на мысль о засушенных цветах, былая красота которых проглядывает сквозь увядшую застылость смерти. Я сразу сообразил, что это она живет в доме Александры Гамильтон. Женщина больше смахивала на домоправительницу или компаньонку, чем на горничную. Но она несомненно исполняла все эти три обязанности. Я поздоровался и назвал себя. Она едва заметно кивнула и посторонилась. Я вступил в полутемный холл, обшитый дубовыми панелями, а она зашагала впереди меня к лестнице, тоже дубовой, которая вела наверх. Остановились мы на втором этаже перед громадной дверью справа – единственным отверстием в центре высокой стены. В левой стене было две двери меньшего размера. Очень широкий коридор, слабо освещенный только одним окном над подъездом южного фасада прямо против лестницы, своим видом, размерами и расположением очень напоминал нижний холл.
Моя проводница постучала, вошла и объявила о моем приходе.
– Спасибо, мадемуазель Элиот, – с некоторой усталостью произнес мелодичный голос.
Впустив меня в комнату, мадемуазель Элиот бесшумно затворила за собой дверь. Комната была такая просторная, что вначале я не заметил Александры Гамильтон. Это была библиотека площадью гораздо больше ста квадратных метров, освещенная шестью высокими окнами – четыре выходили на запад, два на юг, и в них щедрым потоком вливался свет, приятно неожиданный после сумрачного коридора. Стены были совершенно скрыты книжными полками, в рамке которых выделялись оконные и дверные проемы и которые были сплошь заставлены десятками тысяч томов. Обернувшись направо, я увидел в глубине зала массивный письменный стол и за ним женщину. Я подошел к ней ближе. И в ту же минуту смутно разочаровался – наверно, то было обмануто свойственное отрочеству романтическое ожидание, биологически неизбежная глупость, едва припорошенная рационалистическим и чопорным воспитанием, которое не допускает проявлений восторженных чувств, ожидание, которое подсознательно готовило меня к встрече с Гиневрой или Балкис, красавицей, укрытой от недостойных ее лицезреть людских глаз. Я думал, что буду ослеплен, и поскольку этого не случилось, не понял, что подпал под действие скрытых чар, которые овладевали мной медленно и неотвратимо. Александра Гамильтон обладала тем особым обаянием, которое довольно удачно определил Готье, сказавший об одной из своих героинь, что она не притягивала взоры, но удерживала их. Правильные черты на заре сорокалетнего расцвета, спокойная властность в сочетании с какой-то неопределимой скукой во взгляде, нежная бледность кожи, обузданная роскошь волос, элегантная до обманчивой строгости одежда, изысканный покрой и складки которой скрывали линии тела лишь отчасти, тем более их подчеркивая, небрежная грация поз, учтивое внимание, казалось начисто лишенное подлинного интереса, – все в ней являло сдержанную и вызывающую смесь мечтательного достоинства и дремлющей чувственности. Эта колдовская смесь пламени и пепла породила во мне волнение, причины которого я еще не успел уяснить, но которое проявилось в том, что, не отдавая себе в этом отчета, я разглядывал ее так, что меня можно было бы обвинить в глупости или в дерзости.
Я поздоровался, она предложила мне сесть. Потом, поглядев на меня, сказала по-французски:
– Глаза у вас не такие, как у матери. А в остальном вы очень на нее похожи.
Она улыбнулась, продолжая меня разглядывать. Такое начало разговора отнюдь не рассеяло моего смущения, наоборот, оно повергло меня в полное замешательство. Я стоял молча, неловко, ожидая продолжения. Немного погодя она как будто осознала гнет нависшего молчания и заметила собственную рассеянность.
– Мы говорили с вашей матерью по телефону. Она сообщила мне, что весь апрель не будет в Париже, вы, несомненно, уже об этом знаете. Ее беспокоит, что вам придется провести пасхальные каникулы в одиночестве, это ей не по душе.
Она сделала паузу. В этот раз она говорила по-английски, и я пытался угадать, случайно это или при встрече с учеником-французом она желала мимоходом убедиться, насколько хорошо поставлено обучение в ее школе. Я уже хотел было ответить, что вопрос улажен и я принял приглашение Алана Стюарта провести каникулы у него в Лондоне, а потом в его родовом поместье в Шотландии, о чем я пока еще никого не уведомил. Но потом я подумал, что навряд ли она пожелала встретиться со мной – дело совершенно небывалое – только для того, чтобы сообщить мне о смутной тревоге моей матери, которую едва ли следовало принимать всерьез. Надо полагать, Александра Гамильтон хотела мне что-то предложить – любопытно было узнать что; но я наверняка не узнал бы этого, если бы сразу поведал ей о моей договоренности с Аланом. Поэтому я промолчал. Заключив по моему молчанию, что у меня нет определенного мнения на сей счет, она продолжала:
– Я предложила вашей матери вот что: вы можете остаться до конца каникул в Hamilton School. Поскольку почти все обитатели колледжа разъедутся и его помещения будут закрыты, вам лучше перебраться из вашей комнаты в комнату для гостей на верхнем этаже этого дома. Если молодому человеку вашего возраста мое общество не покажется слишком строгим, обедать и ужинать мы сможем вместе. Если не ошибаюсь, через несколько дней вам минет семнадцать? И как раз во время каникул. По-моему, это обстоятельство особенно огорчает вашу мать. Я постараюсь, насколько это возможно, заменить ее в этом случае. Вы сможете пользоваться яхтой, а также бассейном и гимнастическим залом. Библиотека будет открыта, потому что мсье Уайльд, как всегда, отказывается покидать стены колледжа. Что вы скажете на мое предложение?
Она говорила любезным, но безучастным тоном. Я чувствовал, что ничего не значу, как бы даже не существую в ее глазах, она делала все это из дружбы к моей матери, чье присутствие так остро ощущалось в продолжение нашей беседы – в этой маленькой импровизированной пьесе реально участвовали только две эти женщины, а я выступал в роли обыкновенного статиста, лица без речей, то есть по сути лишнего. Я уже не был ребенком, который мог бы ее растрогать, но еще и не настолько мужчиной, чтобы ее заинтересовать, короче, во мне не было ничего, что могло бы привлечь ее внимание. Банальная, но нестерпимая ущербность отрочества. Уязвленное тщеславие, мучительная неловкость, чувство вины перед Аланом – все должно было подтолкнуть меня к тому, чтобы ответить ей отказом, сообщив о моих прежних планах, и, однако, я сказал без колебаний:
– Я вам очень признателен, мадам. С удовольствием принимаю ваше предложение.
– Вот и отлично. Я сейчас же предупрежу вашу матушку. Послезавтра утром все разъедутся на каникулы. В тот же день вы переберетесь сюда, и мы встретимся за обедом.
Она встала. Я последовал ее примеру. Она была очень высокого роста, и тут я увидел, какая она красавица. Вдруг она дружески взяла меня под локоть. Я с удивлением на нее уставился, но в ее лице ничто не изменилось – оно выражало все ту же отчужденную учтивость, то же любезное безразличие. Так она проводила меня до дверей. Я спустился по лестнице, вышел из дома и снова очутился в парке. Там я понемногу успокоился, но при этом был недоволен собой, ведь я вел себя как бессловесный дурак, продемонстрировавший своим решением, сожалеть о котором я, однако, не мог, полное отсутствие духовной независимости. Потом это чувство вытеснила мысль, что мне предстоит видеть ее каждый день. Я сознавал, что в охватившей меня душевной смуте главную роль играет вожделение. Но глубинной причины этой смуты я понять не мог, а стало быть, не мог понять, что размывало контуры этого вожделения и весьма усложняло картину, окрашивая сладострастные образы чем-то нежным, щемящим, что, наоборот, едва ли не отрицало, а может, возвышало плоть и было на самом деле не чем иным, как пугливой влюбленностью. В Александре Гамильтон воплотился вдруг с какой-то даже грубой прямотой, неоспоримо для моих чувств, но вопреки моему разуму, парадокс, который давно уже преследовал меня в моих мечтах, но с реальностью которого я не хотел мириться, – я еще не признавал, но в силу подмены ролей уже допускал возможность сосуществования в одном лице матери и женщины, а также неизбежность причинно-следственных отношений между безоговорочным запретом и безудержным желанием.
Подойдя к зданию колледжа, я увидел Алана, который все еще стоял во дворе, окруженный тремя или четырьмя почитателями, которым он, судя по всему, с обычным своим небрежным юмором преподносил очередной дерзкий урок жизни. Заметив меня, он бросил их на полуслове и подошел ко мне.
– Ну что, старичок, красота дамы соответствует тайне, ее окутывающей?
– Да.
Все еще под обаянием встречи и заранее смущенный предстоящей необходимостью признаться Алану, что наши планы рухнули, я ответил без малейшего намека на иронию или шутку. Наступило молчание, которое Алан прервал самым добродушным тоном. Но я видел, что он заинтригован.
– У твоих описаний есть по крайней мере одно достоинство – краткость. Что ей от тебя понадобилось?
– Она предложила мне провести пасхальные каникулы здесь, в ее доме.
– Судя по твоему задумчивому и смущенному виду, ты с радостью принял предложение.
– Да.
Алан секунду помолчал, потом на его лице появилась улыбка, которую я хорошо знал, но отнюдь не любил.
– Обычно ты лучше контролируешь свои реакции. Полагаю, ты намерен забраться к ней в постель? Что ж, первый опыт с мифом – такое может поколебать и более устойчивый ум, чем у тебя.
– По-моему, это ты занимаешься мифотворчеством.
– Стало быть, ни малейших амбиций? Три недели безмолвного созерцания недоступной красоты… Ну и скука! Но что там ни говори, она оказала тебе большую честь. Такого рода честь способна ослепить человека заурядного, напрочь лишив его чувства собственного достоинства.
У меня нет привычки с христианским смирением сносить обиды от кого бы то ни было, и я реагировал с тем большей живостью, что чувствовал себя виноватым.
– Алан Стюарт, твои оскорбления полностью избавляют меня от укоров совести, спасибо тебе за это. Неотъемлемое право всякого человека, в том числе и заурядного, – менять свои решения. Я не обязан перед тобой отчитываться и прошу не вмешиваться в мои дела. А поскольку ты сомневаешься в моей способности к самоконтролю в моем чувстве собственного достоинства, спроси самого себя: кто из нас сейчас более сентиментален и более смешон?
На мгновение он растерялся, но тут же овладел собой и сказал самым любезным тоном:
– Так тебя мучила совесть, старина? Я в отчаянии. И разочарован. Я уважаю любые поступки, лишь бы они были продиктованы ясно выраженной волей. В твоем вялом решении есть что-то противноватое. И все это так пошло…
– Пошлый, банальный, заурядный, вульгарный – эти слова не сходят у тебя с языка. Слишком мудреную роль ты иногда берешь на себя, милый Алан. Твои обычные зрители это проглотят. Но я, хотя, может, и не отличаюсь устойчивостью ума, питаю некоторую слабость к оттенкам. Чтобы иллюзия стала правдоподобной, ей следует придать хоть каплю достоверности. Твое навязчивое стремление быть не таким, как все, твоя чрезмерная любовь к эффектам размывают твою личность. На свой лад ты раб нормы или, наоборот, того, что ей прямо противоположно. Ты существуешь в отрицании, а отсюда недалеко до небытия.
– Вот уж откровения ни к селу ни к городу. Избавь меня от самодовольных рассуждений молокососа, рядящегося в тогу мудреца. Нет ничего зануднее тщеславных вундеркиндов, еще не выпутавшихся из пеленок. Они позволяют себе судить обо всем и свой писк принимают за изречения оракула. В твоих словах выспренности больше, чем проницательности. Ты путаешь норму со скукой. Я чураюсь именно скуки. А ты наводишь на меня скуку, старина. Глубочайшую скуку. Стало быть, ты поймешь, почему я удаляюсь.
Он повернулся и ушел. Мне хотелось окликнуть его, я был убежден, что в нашей перепалке роковую роль сыграла риторика агрессии, что моя обвинительная речь, в которой, преувеличив некоторые склонности Алана, я поставил под сомнение самую его личность, совершенно несправедлива, что у нашей ссоры нет никаких серьезных причин, хотя меня и удивляло, что он так болезненно воспринял мое решение, – я не понимал, как глубоко он им уязвлен. Но я удержался и не окликнул его из гордости и потому, что сам стал жертвой свойственной нашему возрасту черты, которую вменил в вину Алану: неспособности пренебречь оболочкой, пусть даже совершенно показной, а может, как раз именно потому, что она деланная и обманчивая, во имя сути без прикрас.
Целый день Алан со мной не разговаривал, а вечером после ужина мы в том же состоянии духа встретились в клубе выпускных классов – он играл в карты, всячески, на мой взгляд даже несколько слишком, подчеркивая свое хорошее настроение, а я, одиноко расположившись в удобном кресле, без особого успеха пытался уследить за причудливыми похождениями Нестора Бурмы1, усердным читателем которых я обыкновенно был. В клубе, размещенном на первом этаже колледжа, находились курилка и бар, где подавали безалкогольные напитки. Мечтой всех учеников младших классов было переступить однажды порог этого освященного дистанцией заповедника, этого своеобразного мирского храма, где можно было держаться с небрежной раскованностью, непринужденной элегантностью и свободой обхождения, которые здесь открыто поощрялись, и тем самым подтверждать, что ты достиг высшей стадии ученичества, предвосхищающей твое приобщение к миру взрослых. Кое-кто из нас доходил в этой пародийной роли, не столько предосудительной, сколько смешной, до вершин нелепости. Алана, который здесь, как, впрочем, и повсюду, играл первую скрипку, никогда не прельщали подобные дурачества, возможно потому, что его зрелость, действительная, а не мнимая, уберегала его от такой наивности; более того, Алан и другим мешал насладиться этой иллюзией, потому что все боялись его едкой иронии, которой он пользовался щедро, ни для кого не делая исключения и вынуждая окружающих соблюдать почтительность и осторожность.
Как раз в этот вечер один из учеников, по имени Орас Пюппе, разыгрывал этакого мужчину с опытом. Он пользовался в колледже известным авторитетом, не потому что отличался незаурядными умственными способностями – хоть он Нестор Бурма – частный сыщик, персонаж детективных романов французского писателя Лео Мал-ле. и был самым старшим из учеников, он не без труда удерживался на уровне требований колледжа, и преподаватели уже не раз заговаривали об его отчислении, – а из-за довольно шумной самоуверенности, не столько осмысленного, сколько громогласного краснобайства, неслыханно развитой мускулатуры, которая в его собственных глазах являла собой пес plus ultra (Высшую степень) мужского обаяния, щегольской одежды, более дорогой и крикливой, нежели элегантной, и репутации погубителя женских сердец, которую он тщательно поддерживал; она зиждилась на его уснащенных подробностями рассказах, но подлинность ее внушала по меньшей мере сомнения. Добавим к этому, что семья Ораса была несметно богата и всячески стремилась это подчеркнуть, в частности снабжая его карманными деньгами, сумма которых ослепляла самых простодушных, а наиболее трезвым казалась неприличной и вызывала презрение. Стоя возле бара в окружении своих обычных слушателей, Орас с напускным безразличием, но достаточно громко для того, чтобы никто из нас не упустил ни слова из его речи, излагал свое приключение с замужней женщиной – на то, что она замужняя, он в особенности упирал, считая, по-видимому, это обстоятельство самой пикантной приправой всей историйки, излагал с обилием подробностей, делавших честь если не богатству, то дотошности его воображения. Прихвостни Ораса слушали его с упоением, остальные волей-неволей – кто равнодушно, кто раздраженно, но почти все с чувством неловкости. Вдруг Алан отложил в сторону карты, встал и подошел к пустомеле.
– Орас Пюппе, – сказал он с невозмутимым спокойствием, – отвратительное повествование о твоих жалких подвигах мешает мне играть в карты. До сих пор люди более или менее достойные (заметим в скобках, таких здесь немного) были настолько снисходительны, что терпели безвкусицу, составляющую самую суть твоего существования. Но ты злоупотребляешь их благодушием. Из чувства элементарной благодарности тебе следовало бы стараться быть как можно более незаметным. Ты же не просто продолжаешь существовать, что, по-моему, само по себе неприлично, ты еще и разглагольствуешь. Ты кстати и некстати испускаешь звуки, которые заменяют тебе голос. Содержание этого гула, на мой взгляд, заслуживает кое-каких комментариев. Твои родители, наверняка разбогатевшие лавочники, не внушили тебе, что по отношению к женщине, какой бы она ни была и что бы ни делала, порядочный человек в присутствии третьих лиц подчиняется категорическому императиву сохранения тайны. По твоей озадаченной физиономии я вижу, что ты не имеешь понятия о значении слова «порядочный», которое я упомянул. Если бы в твоем лепете проявлялось хотя бы не лишенное красочности воображение, наклонность, пусть даже ничтожная, к извращению. Но куда там. Чувственности в тебе не больше, чем в высохшем пне. То, как ты повествуешь о своих успехах, неважно, подлинные они или мнимые, свидетельствует о том, что эротика была и остается для тебя недоступной. Совершенно очевидно, что главное для тебя не наслаждение, а страх обнаружить свою мужскую неполноценность. Ты думаешь не о том, как вкусить упоительную радость игры плоти и духа, а как придать хотя бы некоторую отверделость никчемному привеску, болтающемуся у тебя между ног. Случай почти классический. Чем громче слова, тем сильнее страх, а дела, если уж они имеют место, ничтожнее. Никогда не пробудить тебе ни в одной женщине, да и в самом себе, подлинную жажду наслаждения. В крайнем случае ты сгодишься для воспроизводства себе подобных. Ты во всех отношениях животное.
Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?






































