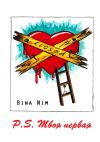Текст книги "Пойди туда – не знаю куда. Повесть о первой любви. Память так устроена… Эссе, воспоминания"
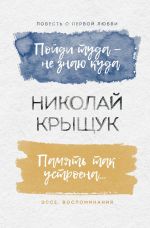
Автор книги: Николай Крыщук
Жанр: Современная русская литература, Современная проза
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 12 (всего у книги 29 страниц) [доступный отрывок для чтения: 8 страниц]
1914 год. Первое впечатление от Ахматовой. История их отношений, сыгравшая огромную роль в жизни обоих, случится через много лет. Примечательно, однако, что эту запись в разгар их отношений Пунин покажет Ахматовой, что та подтвердит своей росписью. Удивительное свойство обоих. Но об этом позже.
«Сегодня возвращался из Петрограда с А. Ахматовой. В черном котиковом пальто с меховым воротником и манжетами, в черной бархатной шляпе – она странна и стройна, худая, бледная, бессмертная и мистическая. У нее длинное лицо с хорошо выраженным подбородком, губы тонкие и больные, и немного провалившиеся, как у старухи или покойницы; у нее сильно развиты скулы и особенно нос с горбом, словно сломанный, как у Микеланджело; серые глаза, быстрые, но недоумевающие, останавливающиеся с глупым ожиданием или вопросом, ее руки тонки и изящны, но ее фигура – фигура истерички; говорят, в молодости (Ахматовой в ту пору едва минуло 25 лет. – Н. К.) она могла сгибаться так, что голова приходилась между ног…Она умна, она прошла глубокую поэтическую культуру, она устойчива в своем миросозерцании, она великолепна. Но она невыносима в своем позерстве, и если сегодня она не кривлялась, то это, вероятно, оттого, что я не даю ей для этого достаточного повода».
В женщине Пунин старается видеть не столько безупречность, сколько характерность. Возможно, поэтому трезвый, раздевающий взгляд может содержать в себе одновременно и восторг, и влюбленность. Вот еще один портрет – Лили Брик, с которой у Пунина был короткий, но бурный роман: «Зрачки ее переходят в ресницы и темнеют от волнения; есть наглое и сладкое в ее лице с накрашенными губами и темными веками, она молчит и никогда не кончает… Муж оставил на ней сухую самоуверенность, Маяковский – забитость, но эта „самая обаятельная женщина“ много знает о человеческой любви и любви чувственной. Ее спасает способность любить, сила любви, определенность требований. Не представляю себе женщины, которой я бы мог обладать с большей полнотой. Физически она создана для меня, но она разговаривает об искусстве – я не мог…»
Живописный портрет у Пунина всегда переходит в психологический, даже идеологический, оттого он так подвижен и, несмотря на законченность, не выглядит приговором, как, впрочем, и фиксацией сиюминутного впечатления. Зоркость здесь соседствует с любовью, на которую, как известно, обречен всякий автор. Это портрет, с которого романист может начинать роман.
О каком бы художнике Пунин ни писал, создается ощущение, что он невольно характеризует собственный литературный стиль. Так бывает. Например, в книге «Западно-европейское искусство» о Ван Гоге: «…художник не отдается всецело тому непосредственному впечатлению, которое производит на него натура; он привносит в свои восприятия сложный комплекс идей и чувств».
В таком ключе Пунин пишет и автопортрет: «Я… не люблю своего отражения и не люблю смотреть в зеркало; моя наружность возбуждает во мне – может быть, не всегда, но чаще всего – не очень сильное отвращение: в особенности не нравится мне лицо и на нем – щеки. Не люблю также своей неуклюжей, вытянутой и неосмысленной тени. Но не в этом только дело. Отсутствие вокруг меня тени вполне бессознательно рождало во мне чувство уверенности и покоя».
Отсутствие тени Пунин наблюдал в эвакуации в Самарканде, где почти сразу после восхода солнца тени исчезают, окружающее становится «пластически устойчивым» и человек чувствует себя «просто, как бывает дома». Так легче было сознавать, что он один, а человек и должен быть один, и ощутить «полное, крепкое, всеохватывающее счастье» оттого, что тебя окружает природа.
Пунин признавался, что такое счастье ему приходилось испытывать редко. И (очень важное признание): «Оно похоже на то чувство, которое бывает, когда прямо, честно и по существу ответишь на какой-либо вопрос. В сущности, не так часто приходится в жизни без всяких оговорок, в особенности без оговорок для себя, отвечать „да“. И это было прекрасно – всегда отвечать „да“ земле».
Лет двадцать назад он непременно в такой ситуации заговорил бы о единении с Богом и о красоте. Но запись сделана в 44-м году, и он говорит о правде и честности.
Переход к более объемному, сострадательному восприятию жизни был предрешен уже опытом символистов. Так же как и крайности, сопутствующие этому переходу. Тут еще не умудренность, а всё те же мятежность и максимализм, в данном случае этический. «Я хотел бы видеть в искусстве больше серьезности, – пишет Пунин в 1916 году, – я хочу утверждать, что за последние десятилетия мы все слишком переоценили красоту. Искусство прекрасно, но оно не только прекрасно. Во всяком случае, русское искусство велико именно тем, что менее других прекрасно, но более других… что? – героично, духовно, трагично, таинственно – нет, ни одного из этих слов я не беру – оно более других человечно и более других серьезно, дельно». В реальности «дельно» обернулось новой попыткой «отрыва от шара земли», у футуристов, например.
Между прочим, эти предреволюционные размышления лишний раз свидетельствуют о том, сколь психологически готова была большая часть интеллигенции к радикальным социальным изменениям.
Анализируя творчество молодых художников Митурича, Альтмана, Тырсы, Пунин отказывается признать их импрессионистами, время которых, по его мнению, уже прошло, но: «Относительно этой группы меня беспокоит другое: я боюсь, что они слишком и только прекрасны; я боюсь их большой формы, их замкнутости и их мастерства».
Революция активизировала начавшийся задолго до нее пересмотр культуры. Кумиры покинули свои пьедесталы и, демократически повинуясь требованиям эпохи, согласились на равных участвовать в пасьянсе, который раскладывал вечерами всякий думающий человек: «На мой взгляд, именно Гете и Пушкин – величайшие скептики, и в силу этого так ясны, жизнерадостны и динамичны их мысли. Между тем всякий пессимизм и всякое сомнение, все эти Достоевские, Бодлеры и прочие…»
Такое тотальное перетряхивание культуры прошлого – признак неблагополучия. Ясный дух, посещающий во время одиноких медитаций, при столкновении с картинами террора сменяется у Пунина помутнением разума, вновь охватывает «чувство робости перед чем-то неизбежным и какие-то отрывочные представления, как черепки битой посуды». Заметим, не «чувство ужаса», а «чувство робости». В неизбежном еще хочется отыскать логику, будущее еще как будто обещает надежду: «Разрушается сложенное нами, растет врожденное в нас…» Заявление довольно туманно. Если по Фрейду, то нас и ждет царство Зверя, если по Ленину – благоденствие и мир.
Надежда есть, есть… Недаром Пунин с такой страстью берется за организационную работу. В 1917 году он работает в Народном Комиссариате по просвещению под руководством Луначарского, является членом Петроградской Коллегии по делам искусств и художественной промышленности. В годы гражданской войны – комиссар Русского музея, Эрмитажа, заместитель Луначарского в Коллегии по делам музеев и охраны памятников искусства и старины, редактор газеты «Искусство коммуны» и журнала «Изобразительное искусство». В 1919-1920-х годах работает в Петроградском Совете.
Но есть уже в нем подтачивающее изнутри ощущение бесплодности усилий и догадка о том, что брачные узы, которые он заключил с властью, – плод односторонней и, скорее всего, умозрительной, вынужденной любви. После встреч с молодыми московскими художниками Пунин пишет жене: «Татлин прав, время разговоров настолько в прошлом, что кажется декадентством. Где же это будущее или настоящее, обозначенное действием?… Для того ли пришли мы, чтобы уйти, поиграв во власть?»
Попытки приспособить искусство к требованиям новой жизни сменяются осознанием того, что искусство в новой жизни попросту никому не нужно. Запись 1925 года об идиотизме и нищете современной России Пунин заканчивает словами: «Об искусстве – ни слова, никто, нигде; его нет…»
Впервые удушающую любовь этой власти он ощутил на себе в 1921 году, когда вместе с Гумилевым был арестован по так называемому делу Петроградской боевой организации. Чем это обернулось для Николая Гумилева, мы знаем. Пунина спасло ходатайство и поручительство Луначарского.
Этот первый «семейный» конфликт тогда, не считая месячной отсидки, закончился курьезом. Выйдя на свободу, Пунин пишет заявление на имя Комиссара Особого яруса тов. Богданова: «При освобождении 6 сентября мне не были возвращены подтяжки, т. к. их не могли разыскать. Вами было дано обещание разыскать их к пятнице 9-го. Если они разысканы, прошу выдать. На подтяжках имеется надпись: „Пунин (камера 32)“. Резолюция гласит: „Тов. Пунин, по-видимому, Ваши подтяжки по ошибке были переданы другому лицу. К сожалению, других на замену нет“».
Политкорректность с обеих сторон – водевильная.
Пунин всегда жил в состоянии притяжения-отталкивания. Вообще говоря, противоречивость подобного рода – верный признак живого ума и характера. Можно говорить лишь о степени интенсивности и контрастности этих переживаний, а также о том, какое за ними кроется содержание.
Так относился он к женщинам, к тому или иному затеянному с его участием предприятию, к власти, к художественному направлению, писателю, художнику… Замечу попутно, что это не было следствием какого-то эволюционного движения (от притяжения к отталкиванию или наоборот), тем более не являлось оксюморонным единством. Чаще диктовалось ситуацией и состоянием. Единственным развернутым во времени оксюмороном представляется мне отношение Пунина к Александру Блоку.
Блок и его поэзия были частью того духовного обихода, в котором выросло поколение Пунина. Поэтому и отсылки к нему носят часто обиходный характер. Например: «На обратном пути в Новой Деревне в чайной против перевоза пили чай. Чайная напомнила нам обоим Блока».
Но иногда и в таком, как будто нейтральном упоминании слышится некий упрек: «Проходя мимо лихачей на углах, всегда вспоминаю Ан.(одно из домашних прозвищ А. Ахматовой. – Н. К.): „Я ведь тоже хочу с Ан. на лихаче“. Отчего лихач – тоже какая-то, и не слабая, форма выражения любви? Всегда думаешь: взять бы ее, закутать в мех, посадить и везти в снежную пыль. Какое в этом освобождение? Это блоковская тема, на которую он, как и вообще на все, ничего не ответил, только тосковал».
Уже в этом «Я ведь тоже хочу с Ан. на лихаче» слышится какая-то детская обида, вроде: «Дяденька, возьми меня с собой покататься, я тоже хочу». Но дяденька не берет. И тогда на смену детской обиде приходит якобы взрослая претензия: ни на что не может дать ответа.
Претензия очевидно абсурдная. С таким требованием обращаются не к поэту, а к кумиру. Поэтому и упрек этот, на мой взгляд, свидетельствует лишь о силе магнетического влияния Блока на современников, которое предполагает непомерность требований и неизбежно вызывает по времени такой же силы отталкивание. Властитель дум всегда, в конечном счете, оказывается обманщиком, и человек восстает, не вполне сознавая, что бунтует уже фактически против себя самого.
Надо сказать, правда, что упрек этот был подогрет высказыванием Ахматовой, которое Пунин за несколько дней до этого аккуратно занес в дневник: «Ахматова сказала о Блоке (разговор шел о способности удивляться жизни, о свежести восприятия): „Он страшненький. Он ничему не удивлялся, кроме одного: что его ничто не удивляет; только это его удивляло“».
Однако еще и задолго до этого разговора Пунин производит самостоятельный анализ творчества Блока. Собственно, это и не анализ даже, а попытка приговора или сведения счетов, может быть. Во всяком случае, здесь не одно только революционное стремление к пересмотру всех и всяческих репутаций. С такой безжалостностью и страстностью говорят о сугубо личном и больном.
Написано это как будто в полемике с кем-то, кто по-прежнему любит и превозносит Блока. Но никаких следов споров о поэте, которые бы этой записи предшествовали, в дневнике нет (да и кто превозносил Блока в 1922 году?). Скорее, это нетерпеливое желание убедить самого себя: «Нет, с существующей оценкой Блока не согласен. По форме он – замок на пушкинской эпохе, конец классической (ренессансной, как я говорю) формы – во что выродился Пушкин, можно бы так сказать. По содержанию – романс, отчаяние, пьяные ночи, тройки, цыгане, рестораны, седое утро, все надрывы Достоевского, приведенные в петербургской влюбленной попойке, весь старый, весь буржуазный мир с брезжащим образом Дамы не то в прошлом, не то в предчувствии. Весь старый мир. И никакого отношения к революции, ни слухом, ничем ее не почувствовал и не понял… Я ничего не говорю, он большой человек, но его роль не та, которую стремятся придать ему сейчас, он – конец, прошлое и отчаяние».
Однако тут-то и берет начало тот драматический парадокс, который имеет отношение не столько к посмертному существованию Блока в сознании читателей, сколько к самому Пунину и его жизни.
Многие в свое время были пронзены лирикой Блока, но Пунин был к тому же весь ею пронизан, выстроен ею. Она была его системой общения с миром и с самим собой, способом переживания и мысли, которым неосознанно пользовалась его повседневная рефлексия, особенно если речь шла о ситуациях любовных. С помощью блоковской эзотерической фразеологии Пунин поднимал себя над бытом и пытался придать некий порядок чувствам и явлениям, которым в обыденной речи места нет.
Так, например, в одном из писем к Ахматовой он называет ее – «моя невинная предательница». Оксюморон блоковский. С точки зрения психологической, оксюморон и вообще наиболее короткий и верный способ разрешения необъяснимой ситуации.
Часто Пунин открыто обращается к текстам Блока, гимназически пытаясь с его помощью уяснить происходящее: «Средств выражения не дано. Наиболее полное выражение, которое может встретиться на земле, – сгорание (Блок)». Или: «Как я обозлился, а потом – горькая обида. Куда ты ушла? Мне снится плащ твой синий». Характерно также это блоковское смешение несовместимых объектов: «Кто эта недостижимая и единственная? Дама Луны? – нет. Это, может быть, революция?»
Разумеется, совершенно неверным было бы представить Пунина этаким бытовым эпигоном Блока, так же как невозможно сказать, что Блок своей жизнью инсценировал сюжет «Фауста». Тут связи более глубокие и содержательные.
Язык дают нам поэты, и это ничуть не умаляет нашей индивидуальности. Но случается, что этот язык, всецело владеющий нами, вступает в острое противоречие с собственным опытом и новой исторической реальностью. К реальности адаптироваться легче, нежели найти для нее язык. Нечто подобное и произошло с Николаем Пуниным. Он не столько борется в себе с блоковской эзотерикой и его навязчивыми образами, сколько с романтической театрализацией жизни, которая проникла в него через поэзию Блока: «Выдумать себе лицо и его искать – лучшее, конечно, средство оправдывать все встречи и измены всему, что было. Милая блоковская формула!»
Дело, конечно, не собственно в блоковских образах и фразеологии, да и не в самом Блоке даже. Просто, заглотнувший наживку романтизма – уже не может быть спасен. От романтизма избавляются вместе с жизнью, даже если кажется, что преодолели его суровостью мысли и экстремальным опытом. Возможно, это объясняется просто каким-то особым психическим устройством, не знаю. Пунин однажды записал: «Никогда ты не выгоришь, романтика».
При этом всякий романтик мучительно переживает свое состояние и обыкновенно страдает комплексом неполноценности. В одной из дневниковых записей читаем: «Романтизм, что же это такое? Доколе будет продолжаться это желание того, чего нет, и чего не должно быть, и что путается в исканиях того, что истинно». (Хочу заметить, что здесь незаметно для большинства, а возможно, и для себя самого, Пунин внедряется в заочный спор между Бальмонтом и Блоком. Бальмонт: «Тоскую о том, чего нет». Блок: «Я ХОЧУ ТОГО, ЧТО БУДЕТ… Если кто хочет чего, то то и случится».)
Пунина, как и большинство романтиков, влечет к себе «здоровая классически-реальная простота». Но и романтическая мечта по «невозможному женскому лицу» не отпускает. Оставалось признать, что «оба они – желания, и, как желания, они одно, противоречивое, смятенное, беззаконное и единственное одно». Выбрав в который раз оксюморон, сознавал ли он, что ни на шаг не сдвинулся с позиции романтика?
Так, «болтовня» у Пунина всего лишь псевдоним рефлексии, которая в болтовню превращается только в минуты кризиса, когда кажется, что она мешает некоему реальному действию, простому поступку. В практической жизни эта запутанность чувств скрывает слабодушие и отводит на себя удар.
Однако Пунин и после этих открытий и упреков по-прежнему чувствует неистощимую потребность давать самому себе отчет во всех мимолетных состояниях и поступках, даже не совершенных. Не для того ли и нужен ему дневник? Более того, он показывает дневниковые записи (часто далеко не лестного свойства) тем, кому они посвящены, усугубляя тем самым и без того запутанную ситуацию. (Ахматова некоторые из записей, ей посвященных, впоследствии аккуратно из дневника вырезала; этот романтический ритуал, судя по всему, ничуть не казался ей искусственным или неприличным, но перед вечностью все же надо было быть прибранной.)
Язвительно отвергая блоковскую театрализацию жизни, Пунин сам невольно вносил в отношения с женщинами театральность, не говоря уже о том, что его отношения с Ахматовой в силу многих обстоятельств и в силу той роли, которую каждый играл в их общей среде, были публичными, а значит, не могли быть вовсе лишены элемента театральности. Иногда в духе не столько Блока, сколько Достоевского.
И уж конечно (что особенно интересно), из всего дневника Пунина выстраивается удивительно стройная классификация разных типов любви. Это вовсе не было теоретическим решением проблемы, но как бы само собой возникало из описания конкретных опытов на протяжении всей жизни. Просто тот, кого преследует «романтизм женского лица», в жизни естественным образом оборачивается невероятным педантом.
Художница Лидия Сергеевна Леонтьева на страницах дневника чаще всего упоминается под именем Дамы Луны. Возникает это имя уже в ретроспекции. Время Дамы Луны и вообще по большей части прошедшее время.
Книга начинается с дневника 1910 года, поэтому первая встреча с Лидой, происшедшая в 1906 году в Павловске, знакома нам уже по воспоминанию.
Они давно слышали друг о друге и шли у матерей под кличкой «разочарованные» (романтически мечтательные, должно быть). На домашние спектакли к Пуниным Лида не приезжала, несмотря на приглашение, так как не любила ходить «в гости».
Николай, узнав, что она гуляет где-то в глубине парка, в лесу, бродил там целыми днями в надежде ее встретить. Наконец, увидел их с сестрой на лодке. Познакомились и в это лето, кажется, больше не виделись.
Дальнейшая история их отношений нам неизвестна, если она вообще существовала. Скорее всего, это была знакомая всем по первой романтической любви история томления, что легко реконструировать и из позднейшей записи Пунина: «Первый день в Павловске. Новая дача. Кажется, что и новая жизнь начнется. Больше уже не в той маленькой комнате с коричневыми, квадратиками, обоями, где были мечты, печаль, тоска, страдания, вдохновения, радость, любовь – все, все от Лиды».
В дневнике мы читаем уже о встрече, которая произошла на одной из петербургских улиц 4 февраля 1910 года. Никчемный разговор выдает волнение обоих. Примечательно, что это единственный случай, когда Пунину отказывает художническая острота взгляда при попытке дать портрет возлюбленной: «…я посмотрел на нее сбоку – те же брови, те же черты лица; в это время солнце позолотило ее волосы, они были совсем золотистые, светлые, вьющиеся длинными змейками; шляпка на ней была коричневого плюша и вуаль, спускавшаяся до кончика подбородка. Лида говорила по-прежнему чистым грудным голосом, и нотки печали были у нее те же».
Среди прочего она произнесла забавную фразу о том, что «хотела бы сделать жизнь сказкой, но ведь для этого надо много денег». У нее уже был муж, который увлекался бильярдом и с которым она скучала. Но уйти не решалась, «жаль как-то сделать это человеку, который многим соединен с ней». И – «даже ни за кем не ухаживает, хоть бы влюбился один раз».
Они шли, не замечая пути. В трамвае Николай мало что понимал из окружающего от счастья. Дома ему пришла мысль о символичности нынешней встречи: ведь прошлый раз они так же случайно встретились на Литейном ровно год назад – 4 февраля.
Эротическое переживание его так полно и всеобъемлюще, так мечтательно и до такой степени, в сущности, не связано с предметом, что осознается им как переживание исключительно духовного порядка. На следующие сутки ночью Пунин записывает в дневник: «Лида не говорила ничего особенного, но вот с ней я словно тихо сплю. Вещи теряют свою ценность, когда я возле нее. Мир и покой исходят от ее души, и серьезно и молчаливо колеблется не в ответ ей моя душа. Кажется, словно в ней нет женского тела, так хорошо, – не взволнован и не приподнят, а все же медленно движешься по путям мира, теряя землю, земное созерцание».
Однако, когда 16 апреля Лида зовет Пунина проститься перед ее отъездом («как обещала однажды»), ему ехать к ней «горько и одиноко». На вопрос, любит ли он ее, Пунин отвечает «нет», потому что она некогда просила у него необыкновенной любви, а он в себе ее сейчас не чувствует. Они вновь расстаются на четыре с лишним года.
Встретились 4 августа 1914 года. В стране уже объявлена всеобщая мобилизация. Первая мировая война для России начнется через две недели. Пунин изменился, в частности успел разочароваться в футуристах. Хочет идти добровольцем на фронт.
Эту встречу в самых саркастических тонах он описывает в письме к своей будущей жене. Тут впервые, кажется, возникает имя Дама Луны. «Она была в Париже, познакомилась с футуристами и жила чуть не со всеми с ними вместе, теперь она красит свою мордочку и подводит брови. Все это меня страшно рассмешило и, представь – я взял и сказал ей это, похлопал ее по плечу, назвал авантюристкой и сообщил о том, что я прихожу в восторг от ее… глупости… На этот раз я особенно хорошо понял, что она не то чтобы совсем глупа, но вульгарна, полуумна, хотя есть искреннее желание все понять».
Эту саркастически разоблачительную зарисовку нельзя объяснить только контекстом. Так не оскорбляют женщину, тем более в глазах другой женщины. Так насмехаются над тем, что некогда было идеалом, и, в напрасной надежде на необратимость поступка, расстаются с дорогим воспоминанием.
Через восемь лет, тоже в августе, когда вновь мелькает перед ним образ «недостижимой и единственной», Пунин в первую очередь вспомнит – Дама Луны? И хотя тут же ответит себе «нет», это тоже не будет означать окончательного прощания с милым образом.
Тут-то он и цитирует строчку Блока про синий плащ. А еще через несколько дней записывает: «Во мне два человека. Я ничего не понимаю из всех этих цитат Блока теперь; что со мной было, это же болезнь. И я вспоминаю, что всю жизнь у меня эти два человека были. Один – болезнь. Тоска, ходишь, как отравленный, присмертный и близко к небу и против неба, грешный и все более грешащий, и мрачный, безверный, отчаянно-бесшабашный, пьяный и готовый пьянствовать и разнуздываться, а другой светлый и спокойный, но первый – без разума и воли, второй – без души».
В который раз это раздвоение между романтически гибельным и «простым» образом жизни не явно, но несомненно решается в пользу первого. Жить без разума и воли мучительно и скверно, но все же как-то возможно, а как жить без души? Удовлетворительной альтернативы не видно.
Примечательно, что он подробно рассказывает о Даме Луны сначала Аренс, потом Ахматовой. Ахматова отвечает безукоризненно выверенной, убийственной репликой, как и положено женщине, которая хочет расчистить путь от соперниц, даже если они живут только в воспоминании: «Эти женщины всегда так, если не любят, то рассудительны и такая заботливость, что деться некуда, а когда та же любит, трепаная в три часа ночи прибежит мимо тысячи препятствий…»
Но, похоже, здесь даже она переоценила свои силы – просиявший в юности образ неистребим, потому что нельзя истребить память о потрясении, о котором, а не о конкретной женщине, только и речь. И сама Ахматова в сознании Пунина будет мериться этой мерой. Через несколько месяцев в письме к жене: «Что же тогда А. А.? Не знаю, одно только скажу и, вероятно, скажу этим много, она напоминает мне Даму Луны, в своем прошлом она – слепок с Дамы Луны».
При очередной встрече он рассказывает Леонтьевой про Ахматову, а Ахматовой передает отзыв Лиды на их с Ахматовой любовь, которая «не по мерке земли»: «Вспоминаю часто также Лиду, которая сказала об этом примерно то же самое, когда я рассказал о тебе. Как она это поняла, лучше меня, больше меня – я все-таки удивляюсь!»
Удивляться, в сущности, было нечему. Ведь если он однажды испытал «самый полный, какой он только мог дать, всплеск через эту женщину, но и падение полное», то и она не могла не знать, как выглядит «любовь не по мерке земли». Тут – родственное соприкосновение двух сюжетов. Но про любовь к Лиде он однажды понял и сформулировал окончательно: «Лида (Дама Луны) – ведь только романтика, только любовь воображения – я же почти ее не видел, а когда видел, если верить дневнику, не любил; там было больше меня, чем ее». Любовь же к Ахматовой происходила вся в земных владениях и была вся в настоящем.
Короткая встреча с Лилей Брик произошла, как казалось Пунину, с опозданием и только поэтому не имела продолжения. Она и действительно как бы выпадает из основного сюжета, но занимает все же в нем место важного эпизода: «Наша короткая встреча оставила на мне сладкую, крепкую и спокойную грусть, как если бы я подарил любимую вещь за то, чтобы сохранить нелюбимую жизнь. Не сожалею, не плачу, но Лиля Б. осталась живым куском в моей жизни, и мне долго будет памятен ее взгляд и ценно ее мнение обо мне. Если бы мы встретились лет десять назад – это был бы напряженный, долгий и тяжелый роман…»
Пунин чрезвычайно правдив в своих любовных отчетах, даже если хочет что-то скрыть от себя или просто еще не вполне владеет ситуацией. Как про Даму Луны написал он, что душа его колеблется «не в ответ ей», так и здесь выдал себя, сказав про «любимую вещь». И тут же стал рассуждать о смысле измен и плотской ненасытности: «Что же такое эти короткие связи, эти измены жене? Разве я понимаю. Еще двух недель не прошло, а кровь уже томится, горько, темно и безысходно. Под каждые ресницы смотришь и все ищешь, ищешь ненасытно. Ищешь не находя, смотришь – одиноко. Красота не канонична, приму всякую форму, живую и трепетную, но формы шляп живее форм лица, а платья – больше тела, чем само тело. Между рядами голодный, как одинокий, иду мимо; долго ли мимо, иду один – живой, иду насквозь один, несовершенный, весь знающий нового человека и весь старый человек».
В сущности, место этой встречи уже определено: в ряду. Главное здесь не философствование, не укоры совести тем более, а метание, страх потерять все, потребность в пристани и все то же желание «простой» жизни. Уже на следующий день в письме к жене Пунин очень тонко и тактически верно выбирает цитату из своей предыдущей записи: «Если бы мы (Л. Б. и я) встретились лет десять назад – это был бы напряженный, долгий и тяжелый роман, но как будто полюбить я уже не могу так нежно, так до конца, так человечески, по-родному, как люблю жену». Дескать, вот, абсолютно объективно, не для нее же писано. В действительности не только жену пытается убедить, но и себя уговаривает. О безысходности измен ни слова.
Через несколько дней они с Лилей снова встретились. Она говорила о своих днях после его отъезда. «Когда так любит девочка, – записывает Пунин, – еще не забывшая географию, или когда так любит женщина, беспомощная и прижавшаяся к жизни – тяжело и страшно, но когда Лиля Б., которая много знает о любви, крепкая и вымеренная, балованная, гордая и выдержанная, так любит – хорошо… Но к соглашению мы не пришли…»
Пунин сказал, что она интересна ему только физически, и, если она согласна принимать его таким, они будут видеться, если нет… «Не будем видеться», – ответила Лиля. Такая постановка вопроса и не предполагала, надо думать, другого ответа.
В первой же записи о Лиле Пунин отметил: «…она молчит и никогда не кончает». И: «она разговаривает об искусстве – я не мог…» Да, ему знакома блоковская «печальная власть бунтовать ненасытную женскую кровь». И с Ахматовой это было, и именно в связи с ней он вспоминает эту строку. Но представить себе в отношении Ахматовой последнюю претензию уже невозможно.
Скорее по природной склонности, чем по расчету, Лиля еще пытается иногда забрасывать силки (ироническая манера при этом служит надежным способом защиты в случае неудачного поворота сюжета). Так в деловое письмо Пунину вдруг вставляет домашнее: «У вас есть что-то маленькое? Ком-Футик? Он? Она? Как зовут? Ужасно интересно! Такой же прелестный, как вы и Анна Евгеньевна?» А может быть, тонкая издевка? Но еще и при встрече через несколько лет говорит ему о живом чувстве и как много ревела тогда из-за него. И не понимает, что он уже давно «разлюбился, что вообще ничего не могло быть без влюбленности, какая бы она, Лиля, ни была».
Вот, собственно, и все. Не только он теперь был к ней камень – и она давно уже была вся в других отношениях. Но, видимо, такие похмельные разговоры нужны, особенно женщине.
Перед лицом сильной любви все другие отношения с женщинами выстраиваются в потоке какого-то одного, общего желания, теряют свою характерность и индивидуальность. Как-то Пунин рассказал Ахматовой сон: они ходят вместе в чужих городах, между людьми, между открытыми скамейками театра; и среди всех этих людей ему все время попадается одна женщина, к которой ему нужно идти, а он не идет. То она Галя, то Лиля, то под утро вдруг стала Дамой Луны: «Ты всех их знала, а они тебя не знали; вид у тебя был гордый, в новом твоем костюме, и шла ты рядом и мимо, так именно, как ты идешь в самой жизни».
В первый период знакомства с Анной Евгеньевной Аренс Пунин обрушивает на нее целый каскад писем, очень примечательных. Первое, что бросается в глаза, – они насквозь литературны. Автор словно отпускает себя в них, пользуется образами и метафорами не самого высокого вкуса так изобильно, так раскованно, что хочется сказать – развязно. «Маленькое облачко над крышей Строгановского училища (?) бежит к северу, может быть, оно выплачет каплю росы над Адмиралтейством»; «Я несу тяжелый шлейф Вашего византийского одеяния»; «Завтра встанет солнце, завтра грустная золотистая пыль будет возбуждать мои ноздри… Но оно уже пришло – это утро и расцвело, как гигантский желтый тюльпан» и так далее.
Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?