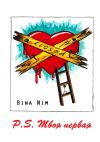Текст книги "Пойди туда – не знаю куда. Повесть о первой любви. Память так устроена… Эссе, воспоминания"
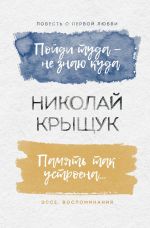
Автор книги: Николай Крыщук
Жанр: Современная русская литература, Современная проза
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 16 (всего у книги 29 страниц) [доступный отрывок для чтения: 8 страниц]
«Где угодно», значило и в подходе к искусству в том числе. Образцы новой критики Мандельштам давал в своей прозе, ввергая, по выражению Берковского, в прозаический абзац «улицу, культурную эпоху, смену музыкальных династий – из „широкого“ факта приготовляется аббревиатура, стиснутый в малом пространстве отвар специфического» (О прозе Мандельштама).
Отвергнув символизм и обратившись к новым объектам, метод импрессионистической критики Мандельштам перенял именно у символистов. Берковский утверждал даже, что и стихи Мандельштама – «художественная критика», на темы театра, архитектуры и поэзии". Статья Берковского опубликована в 1929-м году. Сегодня мы знаем, что предметом прозы и стихов Мандельштама было отнюдь не одно только искусство (как полагал тот же Блок). Но метод был таков: из широкого факта приготовлялась аббревиатура. Метод культурологический, который он наблюдал не только у символистов, но и у Розанова, например, считая его отношение к русской литературе "самым что ни на есть нелитературным» (О природе слова).
Литература первой половины ХХ века, объявив о «конце романа», родила новый жанр, определения которому нет до сих пор, если не считать вполне безответственный и свидетельствующий лишь о растерянности термин «эссе». «Повествование, – писал в предисловии ко второму тому американского собрания сочинений Мандельштама Б.А. Филиппов, – лишенное – в старом смысле слова – фабулы, но повествование всегда многоплановое, полифонически построенное, да вдобавок еще – со старой точки зрения – „смешанного жанра“: не повесть и не очерк, не эссей и не новелла, не путевые записки и не художественная критика: все или почти все это – в одном произведении, условно носящем название „проза“».
Одна из книг Д. Максимова называлась «Поэзия и проза Ал. Блока». Педантизм ученого борется здесь с темпераментом современного исследователя. В названии раздела книги заключен уже итог компромисса: «Критическая проза Блока». Локализация предмета не снимает, однако, вопроса о правомерности понятия «проза». «Прозой» Блок называл и свои публицистические статьи, и очерки, а также дневники, которые собирался использовать в печати. Что уж говорить об этюде «Ни сны, ни явь», написанном как будто в чеховской традиции: «Мы сидели на закате всем семейством под липами и пили чай. За сиренями из оврага уже поднимался туман». Через несколько абзацев становится очевидным, что чеховская повествовательность – обманный прием символиста, у которого иной предмет и иная, по выражению Мандельштама, хватка: «Всю жизнь мы прождали счастия, как люди в сумерки долгие часы ждут поезда на открытой, занесенной снегом платформе…Усталая душа присела у порога могилы…Душа мытарствует по России в двадцатом столетии…»
Однако, назвать «прозой» всё, что Блок написал не в стихах, Д.Е. трудно. Он видит в этом проявление модернистской вольности и испытывает смущение. Работа начинается с оговорки: «Наше право называть все это „прозой“ основывается не только на том, что другого подходящего собирательного понятия мы не имеем. Когда мы условно именуем очерки и статьи Блока „прозой“, мы характеризуем их своеобразие, отмечаем их эстетическую значимость, их принадлежность к искусству, иначе говоря, подчеркиваем ту их особенность, которая не часто и не в такой мере встречается в критических и публицистических сочинениях других авторов». Как видим, определение «проза» так и не может вырваться из кавычек: только условно, только за неимением другого определения, то есть в виде исключения.
Таковым было реальное состояние научной мысли, во всяком случае, в советском литературоведении. Максимов преодолевает этот «консерватизм» в себе и одновременно борется с устоявшейся традицией. Начав с почти извиняющейся оговорки, он становится все настойчивей и определенней: «Статьи Блока за редкими исключениями – лирические статьи, в которых интуиция и непосредственное синтетическое восприятие имеют огромное значение и часто превалируют над анализом». Он отстаивает художественную самостоятельность предмета. Спорит с Ю.Н. Тыняновым, «который считал, что в создании образа Блока, поэта и человека, его проза не принимает участия», не соглашается с Д.П. Мирским, утверждающим, что «художественность» блоковской прозы «в конечном счете паразитична по отношению к стихам Блока». Нет, показывает Максимов, «когда Блок переводил образный язык своих стихов на язык прозы, он не столько заменял эти образы логическими построениями, сколько превращал один художественный ряд в другой, часто такой же художественный, а иногда почти полностью и почти без изменений переносил стиховые образы в прозу».
Это был определенный прорыв. Лирическая проза об искусстве объявлялась не просто отходами, излишками поэтического производства, не просто объяснялась особенностями личности, но признавалась самоценным художественным продуктом. Хотя окончательной решительности нет и здесь. Это сказывается в несколько механистическом моделировании процесса рождения прозаического текста: «переносил стиховые образы в прозу». Речь, как мы видим, идет не о взаимопроникновении поэзии и прозы, что было бы естественно, а о полном доминировании одной над другой, и, стало быть, о «вторичности» прозы. В то же время, собственно художественные особенности блоковской прозы, такие как «сгущенная и не всегда внятная для широкой аудитории метафоричность мысли и языка», оцениваются только как издержки символистского эзотеризма.
Мандельштам, а также Цветаева и Пастернак (характерно, что в этом списке нет Ахматовой) сделали следующий за Блоком шаг и в значительной мере определили пути развития прозы в двадцатом столетии. Лирическая проза об искусстве, о личной биографии и биографии эпохи, философская, мемуарная не только нашла свое место на полке мировой прозы, но своевольно внедрилась в чужие для нее жанры – рассказ и даже роман.
4
Первое последствие моего соприкосновения со стихами и прозой Мандельштама, а также обсуждения на семинаре, было для меня важным. Я ощутил свободу, утвердился в поиске, ветерок чернильных суждений уже не мог свалить меня с ног. Стихи и проза Мандельштама образовали горизонт, то есть обозначили направление с вечно недосягаемой целью. Эта обретенная уверенность позволила мне выпустить первую книгу о Блоке в том виде, в котором она была задумана, несмотря не столько на сопротивление, сколько на недоумение редакции. Книга, кстати, понравилась Дмитрию Евгеньевичу, и он даже написал мне рекомендацию в союз писателей, отметив, кроме прочего, ее прозаические достоинства. В письме к своей английской корреспондентке АврилПайман он выразился, правда, несколько осторожней: «Посылаю книжку моего быв. ученика Н.Крыщука о Блоке. На мой взгляд, в ней – художественное дарование (признаки его), смелость…»
Книгу эту между тем нельзя назвать научным исследованием. В ней то самое смешение жанров, о котором говорил Б.А. Филиппов в американском томе Мандельштама.
С перспективой научной работы было покончено в сущности уже на том семинаре. Колебания, конечно, оставались, для их ликвидации требовался какой-то внятный жест, необратимой поступок. И после окончания университета, получив рекомендацию в аспирантуру Пушкинского Дома, я ей не воспользовался, а ушел отбывать положенный год в армии.
Писать мне приходилось потом в разных жанрах, писал в том числе эссе, в том числе о литературе – обо всех, кроме Мандельштама. На эту тему существовал какой-то запрет, который мне до сих пор трудно объяснить.
Читал я его постоянно, но как человек, имеющий дело с сочинительством, а не как филолог. Филологические догадки, конечно, возникали время от времени, однако я их даже для памяти не заносил на бумагу. Многие из этих догадок встречал потом у других, испытывал, конечно, легкую досаду, как обворованный на небольшую сумму гражданин, но не более того.
Из научного гнезда я выпал давно, добровольно и окончательно. Писать о Мандельштаме в паузах между другими литературными заботами я не решался. Он требовал честной и длительной сосредоточенности. По-настоящему, ему следовало посвятить жизнь. Многие так и поступили. Что же мне пристраиваться к ряду этих достойных людей со своими эпизодическими дилетантскими откровениями.
Помню, еще в разговоре с Дмитрием Евгеньевичем я пытался сравнить стиль прозы Блока и Мандельштама со стилем Герцена. Соединение в одном обороте эмблемно исторического и индивидуального, а у Блока и Мандельштама еще и метафизического, рождало особого рода метафору, которую, очень приблизительно, можно назвать культурной или интеллектуальной. Максимов засмеялся со своим шумным носовым вдохом, но был, кажется, доволен, по крайней мере, тем, что кто-то думает в этом направлении. И вот, спустя лет двадцать, нахожу похожие рассуждения в книге Александра Гладкова «Поздние вечера». Гладков, правда, сравнивал прозу Герцена не с прозой же, а со стихами Мандельштама, воспользовавшись примером того, что генеалогию поэзии Ахматовой сам Мандельштам выводил из русского психологического романа: «Если поискать подобного рода сравнение для его стихов, то первым приходит на ум Герцен. Ни у кого другого нет такой способности к сверкающим ассоциативным столкновениям, такого чувственного весомо-грубо-зримого ощущения духовной культуры, такого живого, пульсирующего здоровой, разночинной кровью историзма».
Если бы не совпадение (единственное, встретившееся мне в этом пункте), я бы от этого пассажа Гладкова отмахнулся. Слишком литературно, слишком общо и неточно. Правда, и в моих давнишних рассуждениях была похожая приблизительность. Но в данном случае меня укололо: значит, в этом что-то и правда есть! С другой стороны: ну да, что-то есть. Типа: в вас что-то есть. На такую барскую похвалу обычно хочется ответить: или нет. Или есть, но не то. Так что: следует либо браться за дело, либо кончать попусту сотрясать воздух, который не по-мандельштамовски «дрожит от сравнений», а фельетонно захламлен ими. В настоящее же время эта мысль только так – полено для розжига.
Иногда, впрочем, бывало жаль упущенного первенства. Хотя речь обычно шла всего лишь о маленькой детали или недоказуемой, как и обычно при разговоре о стихах, версии. Возьму, пожалуй, одну из таких. Наудачу.
«С миром державным я был лишь ребячески связан…» Строфа вторая:
С важностью глупой, насупившись, в митре бобровой
Я не стоял под египетским портиком банка,
И над лимонной Невою под хруст сторублевый
Мне никогда, никогда не плясала цыганка.
Я давно знал, что в этих четырех строках присутствует не названный Блок. Давно, и только ждал случая, чтобы поделиться с читателем. И вдруг в замечательном эссе Самуила Лурье: «Полстрофы – как бы кисти Серова /…/ А другие полстрофы – не с чем сравнить, но нельзя забыть, – потому что ветер с моря, и бубен лязгает, – и тяжелое дыхание нетрезвых, праздных, безумных, – и чуть ли не Блок в их толпе…»
Самуил Аронович тему не развивает и доказательств не ищет – эссе о другом. Просто поделился догадкой, явно ею обрадованный. Но можно ведь попробовать и развить.
У Лурье речь о последних двух строках. Теснота пребывания стихов в памяти, как в камере, от пробуждения и переворачивания одного ведет к пробуждению даже самых дальних. Первым поворачивается, конечно, блоковское: «А монисто бренчало, цыганка плясала И визжала заре о любви». Пробуждается и спрятанный в строках Мандельштама упрек: перед Блоком плясала, и он даже счел нужным поделиться с нами; не чувствует, сколько в этом важном, публичном созерцании скрыто самодовольства и символистской пошлости. Он там стоял, а я нет.
Блок наследовал литературно и кровно Х1Х век, потому и цыганка у него эта не единственная. Еще:
Когда-то гордый и надменный,
Теперь с цыганкою в раю,
И вот – прошу ее смиренно:
«Спляши, цыганка, жизнь мою».
…
То кружится, закинув руки,
То поползет змеей, – и вдруг
Вся замерла в истоме скуки,
И бубен падает из рук.
Кстати, бубен в реплике Лурье из этого стихотворения Блока (скрытая отсылка), в стихах Мандельштама его нет. И, конечно, зима и заря (Лурье: «Измятый снег, залитый вечерним закатом…»). И заря непременно вечерняя. У Мандельштама: «над лимонной Невою». Сама же зима обозначает себя «митрой бобровой».
Так стежками зимы скрепляются первая и вторая части строфы Мандельштама будто в одну сцену. В содержательном смысле это действительно одна сцена, а потому и в первых двух строках чудится присутствие Блока. Хотя жесткая синтаксическая конструкция «я не стоял» – «мне не плясала» к этому, конечно, не обязывает.
Но сначала еще о цыганке. У Мандельштама она и возникла не из уличного наблюдения, а из стихотворения Блока. Иначе, что бы вдруг заговорить, что ему никогда не плясала цыганка. Вопрос: а кому плясала? Ответ: Блоку. Мысль о Блоке присутствовала несомненно еще в бродильном растворе стихотворения, до первых, быть может, строк. При расчетах с прошлым его имя было из важнейших для Мандельштама. Стихотворение о детской надсаде, горе, обиде, отчуждении:
С миром державным я был лишь ребячески связан,
Устриц боялся и на гвардейцев смотрел исподлобья —
И ни крупицей души я ему не обязан,
Как я ни мучил себя по чужому подобью.
Возможно, Блок по широкой дороге обиды попал в стихотворение с зимней фотографии 1911-го года. В зимнем пальто и в шапке, так напоминающей митру. И выражение значительности на лице. Вряд ли, конечно, позировал он Серову для портрета мецената, но волна обиды ведь уже пошла, и Блок уже есть в замысле, то есть, внутри этой волны.
Стихотворение не научный отчет, не исторический очерк на тему, например: «Основные социально-политические черты царской России накануне революции». Но так закрепилось, что под «египетским портиком» стоял именно меценат, воротила, новый русский. А что следом за этим идет цыганка из стихов Блока, а не из уличного наблюдения никого не смущает. И что на воротиле епископский головной убор, надеваемый при полном облачении – тоже. Ну, тут еще понятно: сатира. Потому что епископ при полном облачении вряд ли мерз на глазах прихожан. Блок мог, но тоже – с чего бы? Все это пустое. Социальная характеристика портрета, так же как и топонимика различаются сквозь замерзшее стекло.
Существует, однако, еще одна версия, гораздо более содержательная, чем версия о меценате: в «митре бобровой» показан важный для акмеистов, и для Мандельштама в том числе, русский философ Константин Николаевич Леонтьев. Андрей Арьев первым отметил, что стихотворение (1931) написано в год столетия философа. Он же приводит цитату из «Шума времени», где дан поразительный по сходству со стихотворением портрет: «Под пленкой вощеной бумаги к сочинениям Леонтьева приложен портрет, в меховой шапке-митре – колючий зверь, первосвященник мороза и государства».
Отличие, конечно, тоже бросается в глаза: у «колючего зверя» вряд ли могло быть чисто человеческое выражение «важности глупой». Кроме того, как замечает сам Арьев, Леонтьев для Мандельштама не был развенчанным пророком, но оставался фигурой актуальной. В сущности, поэт жил в том мире, который был предсказан и описан философом. Почему бы ему оказаться в ряду тех, кого автор стихотворения отвергает? Блок гораздо больше подходит на эту роль, хотя бы потому, что Мандельштам принадлежал к поколению преодолевших символизм. Но были причины и более глубокого, интимного, психологического свойства, что опять же больше соответствует тональности стихотворения. Согласимся на то, что высказываемая мной версия является психологическим, бессознательным подтекстом стихотворения и в этом качестве сосуществует с утвержденным портретом Леонтьева. Поэтому вернусь к ней.
Интересно, видел ли Мандельштам ту фотографию Блока? Впрочем, что гадать, когда они могли просто встретиться на улицах зимнего Петербурга, и Блок был именно в этом головном уборе. Да и это не столь важно. Блок принадлежал к тому «взрослому» Петербургу, о котором стихотворение. А насупленным, стоящим на ступеньку выше, скрыто раздраженным Мандельштам мог его видеть не раз. Вот, например, строчки из «Записных книжек» Блока: «Вечером почему-то… приходил Мандельштам. Он говорил много декадентских вещей, а в сущности, ему нужно было, чтобы я устроил ему аванс у Горького, чего я сделать не мог». Отказ в способствовании получению денег – знаковый эпизод для памяти вечно уязвленного Мандельштама.
Есть в этой части строфы и еще одна говорящая деталь: «египетский портик».
Предполагаемый адрес нашел я в эссе Алексея Пурина – Большая Морская. Но, что важнее, Пурин, как и я, считает, что бытовые реалии не самое главное в этих стихах: «Между прочим, „египетский портик банка“… отчетливо корреспондирует с монументально-египетскими барельефами Азово-Донского банка, выполненными скульптором Кузнецовым. Прочтем эти мандельштамовские стихи непредвзято – увидим: дело здесь, разумеется, не в соблазне финансового могущества, не в бобровой азиатской митре предпринимателя-нувориша, не в крупнокупюрном хрусте и не в пляске цыганки.
Все это, скорее, претензия к литературе – например, к Блоку. Или к Ахматовой – с ее „устрицами во льду“. Претензия к литературному романтизму, граничащему с душещипательной „водочкой“ бытописателей и лакейскими „ананасами“ футуризма… Претензия к массовой культуре – даже в таком благообразном, как у Ахматовой или у позднего Пастернака (хвоя в новогоднем салате, „всех водок сорта2“, „музыка во льду“ – чем не „устрицы“?), облике…»
Да, добавлю я, еще обида на «взрослых», которые в этом державном мире кушали и выпивали, для опрятности и благообразия пользуясь салфеткой романтизма. И Блок, конечно, Блок прежде всех.
Поэтому и египетский портик – не только каменные барельефы Кузнецова. Быть может, портик только удачно скрепился с прилагательным «египетский»: именно этот звук просился в строку назойливо и самостоятельно.
Потому что Египет это тоже момент размолвки с Блоком. У Мандельштама в «Египетской марке»: «милый Египет вещей», одна из его утопий предметно обустроенного рая. В стихотворении «Египтянин», например:
Я выстроил себе благополучья дом,
Он весь из дерева, и ни куска гранита…
…
В столовой на полу пес растянувшись лег,
И кресло прочное стоит на львиных лапах.
Я жареных гусей вдыхаю сладкий запах —
Загробных радостей вещественный залог.
Именно здесь он находит вожделенное «телеологическое тепло» вещей, обещающее одомашнивание бытия через быт, поэтому так важна для него, в частности, философия Бергсона.
У Блока Египет – это восковая Клеопатра в паноптикуме и Снежная Дева, которая «пришла из дикой дали», и «родной Египет» снится ей и «сквозь тусклый северный туман». Египет и север здесь словно мужская и женская рифма к вариантам страсти. Кроме заказной пьесы «Рамзес» 19-года, все стихи Блока, в которых есть мотив Египта, а также очерк «Взгляд Египтянки» так или иначе связаны с любовной темой, которая у Мандельштама появится уже в третьей строфе обсуждаемого стихотворения, и именно как причина «надсады и горя».
Тут может быть самое главное – блоковский и мандельштамовский сюжеты с женщинами, реальный и литературный. Что может быть более несходного? Блок – певец Прекрасной Дамы, поклонник актрис, рыцарь, «потомок северного скальда», Дон-Жуан, соблазнитель, завсегдатай борделей, романтик и циник. И мучительный Мандельштам, городской сумасшедший, выбиравший Ахматову в конфидентки при каждой новой влюбленности. Писавший жене письма, напоминающие всхлипывающий, умильный стиль Макара Девушкина: «Родная моя Надинька, у меня все хорошо. Сейчас еду в Детское. Детка моя, не жалей на себя ничего – у меня хватит денег на мою родную. Надюшок мой Надик, как тебе там на пустом берегу? Пиши мне подробно-подробно. Няня твой всегда с тобой». Ахматова вспоминает: «Осип любил Надю невероятно, неправдоподобно. Когда ей резали аппендикс в Киеве, он не выходил из больницы и все время жил в каморке у больничного швейцара». Сравним еще отношения с женщинами его двойника Парнока: «С детства Парнок прикреплялся душой ко всему ненужному, превращая в события трамвайный лепет жизни, а когда начал влюбляться, то пытался рассказать об этом женщинам, но те его не поняли, и в отместку он говорил с ними на диком и выспреннем птичьем языке исключительно о высоких материях».
Все это требует отдельного разговора. Интересно понять, в частности, в каком соотношении здесь находятся между собой претензии литературные и чисто человеческие, в данном случае мужские. При всех литературных претензиях к нему, Блок всегда оставался для Мандельштама поэтом несомненной высоты. Так, закончив стихотворение «Нынче день какой-то желторотый…», О.М. по свидетельству Н.Я. Мандельштам сказал: «Блок бы позавидовал», вероятно, вспомнив: «Когда кильватерной колонной вошли военные суда». У Мандельштама: «Тихий, тихий по воде линялой Ход военных кораблей». Сравнение шло постоянно. Но на этом поле они играли все же одну партию и были равны. Сравнения по жизни, надо полагать, были жестче и болезненней.
5
Если представить, что Мандельштам именно на этих смыслах построил стихотворение, то все это кажется малоправдоподобным. Рационализм есть во всяком толковании, он смущает даже в работах крупных ученых. В одних случаях это толкование упрощенное, стирающее метафору до расхожего суждения, в других – поэту навязываются значения, которых он вполне возможно не имел ввиду.
Навязывать, разумеется, ничего нельзя, как ни за одну версию нельзя поручиться, что она последняя. Важно только, на мой взгляд, понимать, что стихотворение не строится, а вырастает, и процесс этот неуследим, в том числе, для самого поэта. Поэтому мы и не можем быть уверенными в том, что верно отсканировали этот рост. Физики говорят, что в квантовой механике можно проанализировать процессы неопределенности, но вообразить их практически невозможно (поле, волна, частица приравнены). В поэзии же и для анализа не существует точных инструментов, и ученые, уважительно ссылаясь на работу коллеги и частично сходясь в аргументации, нередко выстраивают концепцию полярного толкования текста.
Кроме того, точный инструмент, какими представляются некоторые методы, близкие к математике, точны только в пределах поставленной задачи, драгоценные особенности текста являются лишь рабочим материалом. Поэт остается неузнанным. Таким делом могут заниматься и люди, полностью лишенные поэтического слуха. Выяснить это легко, как только они, отложив инструменты, заговорят своими словами. Для них текст не горяч, он давно остыл, тут самое время ударить себя по пальцам, которые тянутся к перу. Но – профессия, каменный лик которой символизирует былую страсть. То, что у героев являлось фамилией, у них – название профессии: Мандельштам, Пушкин, Бродский. Специалисты узкого профиля.
Однако и эмоциональный подход таит в себе опасность невольно внести в чужой текст свой способ думать и воображать, свой опыт, то есть впасть в субъективность и произвол. Об этой опасности предупреждают обычно при изучении этноса. Как бы тщательно мы ни реконструировали историческую обстановку и психологию, привнесение исторически и индивидуально своего, приводящее к аберрации, неизбежно. Предупреждение не запрет, конечно, но призыв: «Осторожно!»
В сущности, каждое исследование – это реплика в нескончаемом разговоре, после которой ракурс взгляда на предмет смещается на долю градуса. Мандельштам, таким образом, по закону дальнего собеседника формирует свое сообщество, свою референтную группу. Быть может, группы, собранные таким способом, сегодня наиболее устойчивы, действенны и содержательны и пока еще не подпадают ни под какой юридический закон.
Вот, между прочим, буквальная иллюстрация к этому несколько прекраснодушному утверждению. Четыре года назад вышла книга: Осип Мандельштам «Египетская марка». Пояснения для читателя. ОГИ. Москва. 2012 (составитель О. Лекманов и другие). Замечателен способ составления книги. В Живом журнале было создано сообщество, в котором день за днем вывешивались фрагменты повести с подробными объяснениями. Они обрастали новыми примечаниями, некоторые из которых переносились в итоговый вариант книги.
А реплики каких замечательных собеседников, если продлить идею сообщества, так или иначе звучат в книге: Тынянов, Аверинцев, Жолковский, Гаспаров, Тарановский, Лидия Гинзбург, Тименчик, Омри Ронен…
6
Трагедия была далеко. Оставалось еще более двадцати лет до того момента, когда чужие люди войдут в его дом, будут ходить по выкинутым из сундучка рукописям, а потом увезут в неизвестном направлении. Девятнадцатилетним юношей он как будто предчувствовал этот момент.
Как кони медленно ступают,
Как мало в фонарях огня!
Чужие люди, верно, знают,
Куда везут они меня.
Впрочем, везли его, конечно, не в карете, а в известном всей стране «воронке», и не ночью, а уже под утро. А потом, спустя годы, везли в далекий, как оказалось, последний путь в эшелоне, набитом зеками. Главное же, в те далекие годы он еще легко доверялся этим чужим людям, легко отдавался им, как может только ребенок.
А я вверяюсь их заботе,
Мне холодно, я спать хочу.
Подбросило на повороте
Навстречу звездному лучу.
Детскость, ребячливость, потребность прислониться. Так немного ему было надо от быта. Он обещал согреться спичкой. Более злой шутки придумать нельзя, как бросив его в объятия чванливо-бесцеремонного, бесноватого режима, а потом и ГУЛАГа.
Кажется, что от одиночества и его тоска по мировой культуре, «цитатная оргия», желание вернуться в до-бытие («И много прежде, чем я смел родиться, Я буквой был, был виноградной строчкой, Я книгой был, которая вам снится»). Мольба об имени – от этого. После себя надо оставить совершенные формы. Причин этой раритетности не поняла молодая Лидия Гинзбург.
Куда никогда ему не хотелось вернуться, так это в косноязычную пустоту, в «хаос иудейский» своего детства. «Семья моя, я предлагаю тебе герб: стакан с кипяченой водой. В резиновом привкусе петербургской отварной воды я пью неудавшееся домашнее бессмертие».
Страх Бога, страх судьбы, страх смерти. На мгновенье отчаяния он готов был представить раем даже колхоз и улицу. Приодеться и истереться до облика случайного прохожего: «Смотрите, как на мне топорщится пиджак, Как я ступать и говорить умею!» Не понимал, что так распознают легче всего.
По-верблюжьи запрокинутая гордая голова.
Может быть, ему и Зощенко нужен был для того, чтобы проникнуть в смысл «трамвайных перебранок»? И в роковом стихотворении он ведь сердится, ругается, выбирает слова покрепче (глазища-голенища), а в памяти возникает страшилка Чуковского.
Тогда в мае 34-го Пастернак отправился просить за Мандельштама в «Известия» к Бухарину. Ахматова бросилась в Кремль к Енукидзе. За что? Никто не понимал. Первым, аппаратным своим умом сообразил Енукидзе. Спросил вежливо: «А может быть, какие-нибудь стихи?»
Во время ареста за стеной играла гавайская гитара.
«…У него были ложные воспоминания: например, он был уверен, что когда-то, мальчиком, прокрался в пышную конференц-залу и включил свет. Электричество хлынуло таким страшным потоком, что стало больно глазам, и он заплакал» (Египетская марка).
2016
Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?