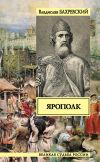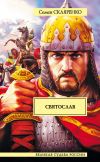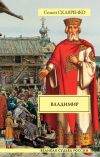Текст книги "Юрий Долгорукий и византийская принцесса"

Автор книги: Павел Загребельный
Жанр: Современная зарубежная литература, Современная проза
Возрастные ограничения: +12
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 24 (всего у книги 35 страниц) [доступный отрывок для чтения: 9 страниц]
Были устроены пышные ловы, разосланы гонцы с приглашением в гости половецких князей и лучших людей от торков и черных клобуков; князю Владимиру, который был в Киеве словно бы доверенным своего брата Изяслава, почти велено было перебраться на Красный двор, и Владимир, располагавший дружиной намного меньшей, чем Ростиславова, молча подчинился. Трапезы на Красном дворе длились теперь круглосуточно, не имели они ни начала, ни конца, потому-то слова Петрилы о том, что князь Ростислав кличет Дулеба на обед, следовало бы понимать так: надобно ехать, а когда – это не суть важно.
Кого не сдержишь, того не спасешь. Дулеб пожалел, что у него не было ни силы, ни возможности своевременно сдержать Ростислава; теперь, когда там уже толклось, наверное, все боярство киевское, о сдерживании зазнавшегося суздальчанина не могло быть и речи, однако Дулеб не привык отказываться от малейшей попытки предотвратить болезнь, пока она еще не овладела всем телом.
– Я передумал, – сказал он, входя к Иванице, который уже разлегся после утомительных блужданий по киевским околицам. – Не станем откладывать на завтра, поедем к князю Ростиславу сегодня же.
– Вот уж! – хмыкнул Иваница. – На Красный двор? Да в Зверинце нас туры разметают! Среди ночи в такую даль?
– Сдается мне, приходилось тебе ездить еще дальше, но ни туры не разметали тебя, ни медведь не загрыз.
– А ежели спит твой князь?
– Спит – разбудим. Скажем так: не привыкли, княже, откладывать на завтра то, что можно и надобно сделать сегодня.
– Вот уж – не привыкли. Но мог же ты отложить кое-что для Иваницы чуть ли не на целый год. Сидел возле тебя в яме, ездил на коне, будто с мешком на голове. Ничего не знал, не видел. А к князю не терпится поехать.
– Или хочешь, чтобы нас уже по-настоящему бросили в поруб, теперь в киевский?
– Вот уж! Да пускай кони хоть овес съедят, – покряхтел Иваница, вставая без особой охоты, потому что замечал в себе неуклонное исчезновение мечтательной готовности на все, к чему бы ни призывал его Дулеб, и началось это в ту ночь, когда узнал, как скрывали от него все, что происходило в Суздале, и когда позднее, еще и не раздевшись как следует, уснув, быть может, с неосознанной горечью в сердце, должен был проснуться лишь для того, чтобы испить эту горькую чашу до дна: проснулся и увидел Ойку, которая пришла если не к Дулебу, то, во всяком случае, не к нему, Иванице, ибо не обрадовалась его появлению, а лишь бесстыдно подняла брови в удивлении и исчезла бесшумно, как дух.
Некоторая ученость, которую можно было бы без преувеличения назвать чрезмерно-неуместной, мешала Дулебу понять состояние Иваницы, точно так же, между прочим, как и определить границы, до которых дошло безрассудство Ростислава. Но все равно дела эти не поддавались исправлению, потому что Иваница, несмотря ни на что, по-прежнему тянулся к диковатой Ойке, а Ростислав не стал бы слушать предостережений или предположений о поражении, ибо даже неудачи причислял к своим победам, как это было, к примеру, в момент, когда новгородцы прогнали его с княжения и когда он расценил это по-своему: дескать, он ушел оттуда, потому что не хотел больше сидеть среди этих дымопускателей, оставив их догнивать в болотах. И вот тут-то ученость Дулеба сделала его до странности слепым, по-детски упрямым, кое-что даже им самим истолковывалось как честность и последовательность в поступках. Он верил, что успеет еще предостеречь и уберечь князя Ростислава, верил также, что Иванице все это дорого не меньше, чем ему самому, ибо разве же они не товарищи во всем злом и добром?
На Красном дворе никогда не приходилось быть ни Дулебу, ни даже Иванице, хотя известно, что для Иваницы не существовало никаких тайн и ничего недоступного. Но так уже случилось. Поэтому было полнейшей бессмыслицей среди темной ночи отправляться из Киева, двигаясь через яры, через мрачный Зверинец, кишевший дикими зверями, напуганными и разъяренными непрерывными княжескими ловами. Дулеб долго расспрашивал охранников у Софийских ворот, но закончилось тем, что довелось просить одного из тех, кто знал дорогу, чтобы он сел на коня и за хорошее вознаграждение провел запоздавших гостей в далекий и заброшенный Красный двор.
Назвал этот двор Красным его основатель и строитель – великий князь киевский, сын Ярослава Мудрого Всеволод. Суровый быт первых киевских князей его не привлекал. Беспутства Владимира, который выстраивал целые дворцы для сотен своих наложниц, повторять не хотел, золотого дворца Ярославова ему казалось мало. Он возжаждал соорудить нечто наподобие дворцов ромейских императоров, некую смесь Магнаврского и Большого дворцов Константинополя с их потрясающей пышностью, бессмысленным богатством и редкостной безвкусицей.
Подражание всегда обречено на посредственность, на измельчание, на потерю первоначального назначения, которым нераздельно обладает образец; когда же подражание одновременно является также попыткой перенести образец из одних условий в другие, пересадить в новую землю дерево, укоренившееся в земле далекой и чужой, тогда оно становится смешным, а то и просто жалким.
Так было с теми русскими князьями, которые, сбросив надоевшие и, как им казалось, слишком обременительные и заурядные меха, попытались нарядиться в ромейские дивитиссии, сшитые из александрийского полотна и из легких шелков, не заметив при этом, что дивитиссий, прикрывая туловище и еще кое-что, оставляет голыми ноги, которых не имели намерения щадить русские морозы.
Красный двор Всеволода напоминал вот такую непривычную и непригодную для русских холодов ромейскую одежду. Поражал неприспособленностью, неустроенностью, полнейшей непригодностью для жилья. Стоял среди снегов, неуклюжий в своих украшениях, оголенно-замерший, бессмысленный на этой земле, то суровой, то щедрой, – на земле, которая удивляет пышностью, но одновременно приучает человека и к сдержанности и осмотрительности, напоминая этим жизнь людскую, в которой после яркого солнца нередко надвигаются тучи, а теплые дожди сменяются метелями и яростными морозами.
Вокруг дворца на Красном дворе были посажены заморские растения, которые должны были украсить здание, придав ему точно такой вид, как у царьградских дворцов. Но все заморское давно уже было выжжено половцами шелудивого Боняка, а на месте чужеземных растений тянулись из почвы киевские, растущие, как известно, с быстротой просто неистовой, забивая и заглушая все чужое, неприспособленное, нежно-утонченное. Киевские деревья, разросшись за несколько лет, начисто изменили вид восстановленного Мономахом Красного двора, в самом дворце, не приспособленном к русским морозам, пришлось, ломая заморские мраморы и дорогие мозаики, ставить простые печи для обогревания; печи наполнили палаты дымом и копотью, князья бродили в сизом мраке, чихали, мерзли, кроме того, боялись полнейшей беззащитности Красного двора, который поставлен был вдали от Киева, за Лаврской горой, за Зверинцем; потому-то после Всеволода никто из князей надолго там и не задерживался, лишь Мономах, человек мужественный и непритязательный, побыл там некоторое время, все же отдавая предпочтение Ярославову двору возле киевской Софии.
Ростислав не выбирал для себя двора: взял то, чего не хотел никто. Тут он не раздражал своих супротивников, потому что не был в самом Киеве. Одновременно ублаготворял свою гордыню, ибо Красный двор все же считался принадлежностью Киева и служил время от времени великим князьям, которые отсюда осуществляли свою власть. Одиночества он не боялся, потому что имел возле себя верную дружину, кроме того, уверен был, что придут к нему многие, ибо голова у человека устроена таким образом, что там всегда найдется место для княжеских призывов, приглашений и обещаний.
Успокоительное безделье привлекало людей в самые тяжелые времена. За несколько дней на Красный двор набилось такого люду, какого не было здесь с момента основания. Толпились, болтали, пили, обжирались. Уничтожая яства, прожигали дни и ночи в пустой похвальбе и притязаниях, уничтожалось, попросту говоря, пожиралось время – единственная вещь, исчезновение которой люди не замечают, легкомысленно забывая, что время утраченное – невосполнимо и непоправимо.
На Красном дворе длилось бесконечное пиршество. Чего не съел князь и бояре – доедала старшая дружина, чего не доедала старшая дружина, съедали отроки, после отроков подбирали слуги, – каждый старался урвать кусок полакомее, приберечь неприкосновенным более жирное и сладкое, стащить, еще и не донеся до стола, спрятать, еще и не показывая на ясные очи, – каждый уголок дворца стал местом тайных пиров, скрытого обжорства, ненасытных посягательств. Слова «обед», «трапеза», «ужин» утратили свой смысл, они употреблялись здесь как простые и бледные, кстати, заменители того безбрежного, непрерывного, сопровождаемого простыми человеческими деяниями – сидениями за столом, беседами, спаньем, – возвеличения Ростиславова, которое должно было предшествовать окончательному переходу власти над Киевом и всеми русскими землями в достойные руки, а в чьи – этого уже не мог вспомнить и сам князь Ростислав, забывший об Изяславе, которому недавно клялся в сыновней верности, забывший про собственного отца, который послал его сюда не для глупых величаний, а для того, чтобы показал красоту и спокойную силу суздальцев и их открытое сердце. Ослепление своим происхождением и положением достигло у Ростислава, казалось, высочайших вершин; мог ли в этих условиях какой-то там незначительный человек, простой лекарь, которому пристало лишь ощупывать потные лбы и животы немощных, вырвать Ростислава из его разбега к власти, напомнить о подлинном назначении, невыполнение которого угрожало концом всему, прежде всего – самому князю Ростиславу, – мог ли, а следовательно, и смел ли?
Ясное дело: князь мог урывать для своих восхвалений и возвеличений какую-нибудь там часть ночи, но вообще ночь все-таки отводилась для сна и отдыха. Будить князя для двух пришельцев из Киева, гостей нежданных и весьма странных, никто не захотел. Княжеские сны предназначены для успокоения и наслаждения, а не для возмущения. Поэтому возмущение неминуемо должно было бы обрушиться на тех, кто отважился прервать сон.
Бледнолицый тысяцкий Ростислава, человек таких же неопределенных намерений и ощущений, как и его князь, вышел навстречу Дулебу, выслушал его спокойную речь, не сказал ничего, словно соглашаясь с лекарем, но и не сделал ничего, дабы ускорить его свидание с князем.
– Так как же? – спросил его Дулеб.
Тысяцкий еще какое-то время смотрел через его плечо, ничего, собственно, и не видя, затем промолвил бесцветным голосом, который очень напоминал княжеский голос:
– Надобно спать.
– Проспите с князем всё.
– Ночью все равно ничего не происходит. Припекло тебе.
Он пошел, не позаботившись даже о том, чтобы Дулеба устроили где-нибудь в этом задымленном, загроможденном дворце, но лекарь все равно не имел намерения спать, Иваница тоже не рвался ко сну, не столько из предупредительности, сколько из-за любопытства. Постепенно отдаляясь от Дулеба, он теперь словно бы присматривался к нему со стороны, и получалось, что это даже как-то разнообразит тебе жизнь, все едино как если бы ты увидел красивую женщину и следишь, куда она идет, и куда она свернет, и что с нею случится.
Ему только неожиданно захотелось есть. Причиной того послужил, видно, самый дух Красного двора, эти вороха объедков, обглоданных мослов, среди которых рычали и храпели ничтожные бездельники, блюдолизы и подхалимы.
– Вот храпят так храпят! – словно бы даже позавидовал Иваница. Говорил князь Юрий, бог Адама выгнал из рая за то, что тот храпел вот так и не давал всевышнему выспаться, как следует, а князь твой, Дулеб, где-то спит, и ему, стало быть, не мешают эти храпаки.
– Адама, сказывают, изгнали за кое-что другое, – отделался шуткой Дулеб.
– Ну, за то не выгоняют, потому как бог и сам грешит потихоньку. Вон сколько ангелов расплодил вокруг себя, там тебе и шестикрыльцы, и трехкрыльцы, и с двумя крыльцами.
– Ангелы – не женщины.
– А кто же они? Ты читал много книг, разве где-нибудь написано, что ангелы – мужчины? А раз не написано, получается – женушки. А съел бы я сейчас какое-нибудь свеженькое жаркое. Может, поищем, где они оленя зажаривают для князя, да урвем там по кусочку?
– Нам бы князя не прозевать. А то как обсядут его за трапезой, невозможно будет и слова молвить.
– Вот уж! Разве тут словом что-нибудь поделаешь? Взять бы дубину да разогнать этих дармоедов, а князю твоему…
– Не забывай: ты должен быть благодарным ему за свое освобождение. Так все считают, и так должно быть в дальнейшем. Негоже, если станешь к своей благодарности примешивать угрюмость или, еще хуже, неосторожным словом раскроешь нашу тайну. Знаем об этом только трое: ты, я и князь Ростислав. Не забывай об этом, Иваница.
– Одни помнят, другие забывают – вот и вся справедливость, которой ты прожужжал мне уши, лекарь.
Потом они бродили молча. Среди величественной неуютности и непривлекательности дворца, запущенного и обезображенного, они имели вид неприкаянных, но не грешников, а чистых праведников, забредших сюда с намерениями, быть может, очистительными, но растерялись, не зная, с чего начинать, и кружат в этом царстве сонной захламленности без надежды выбраться отсюда когда бы то ни было.
Князь Ростислав спал долго и крепко, как человек, не обремененный сомнениями и тревогами. Еще дольше он одевался, с помощью своего спальника, ибо не полагалось посторонним видеть князя не во всем величии и славе его высокого достоинства, подчеркиваемого надлежащими одеждами и дорогим оружием; поэтому Дулеб добрался к Ростиславу, уже сам, как и Иваница, проголодавшийся и изрядно-таки разозленный.
– Здрав будь, княже, – поздоровался он и не выдержал, добавил: Спишь хорошо, дым не душит, а, видно, лишь щекочет. А дым не только в этом дворце, но и над всей землей Суздальской – не забудь.
– Ну, – поморщился Ростислав, – при рабе пробуешь упрекать князя?
Красные пятна нездорового оживления еще больше оттеняли обычную бескровность его лица. В голосе улавливалась нескрываемая брезгливость, когда бросил свои оскорбительные слова об Иванице.
– Не раб, – твердо молвил Дулеб. – Товарищ мой Иваница. И ведаешь про то вельми хорошо, княже. Отец твой…
– Я тут князь, – прервал его речь Ростислав, – и с рабами не…
– Останемся оба, – в свою очередь не дал ему договорить лекарь, останемся оба или же…
– Ну, – вскинул брови, изображая изумление и испуг.
– Или бросим тебя и уже не возвернемся никогда!
– А!
– Увлекся слишком собою, княже, и забыл…
– А!
– В твоих руках намерения всей жизни князя Юрия, за ним же стоит весь народ наш…
– А!
Потерпев поражение с Иваницей, Ростислав теперь мстил Дулебу этим своим бессмысленно-равнодушным «А!», отталкивая от себя, напоминал, что, даже стоя рядом, ты должен чувствовать: он князь – и ты должен держаться на почтительном расстоянии, которое никому из смертных не дано преодолеть, ибо это – расстояние происхождения и рождения, неистребимое и неодолимое, поэтому сблизиться с князем – это все равно что дотянуться до бога.
– Как условлено было с князем Юрием, ходили мы с Иваницей к киевскому простому люду и можем уже сегодня сказать, что киевляне ждут Долгорукого, хотят увидеть его в своем городе…
– А!
– Ты же тем временем, княже, проявляешь неосторожную неразборчивость, допускаешь к себе людей, которым верить нельзя, и этим угрожаешь…
– Угрожаю? Кому же?
Он привык спрашивать, не слушая ответов, ибо счастье для всех, как он считал, было уже в самом княжеском расспрашивании. Поэтому не стал слушать ответа Дулеба, а сразу же и добавил:
– Ведаю, что делаю.
– Петрило – враг твой и князя Юрия, а ты его пригрел.
– А!
– Петрило – доверенный воеводы Войтишича и игумена Анании.
– Войтишич? Его здесь не было. Игуменов – не было. Еще?
– От Войтишича и игумена послан гонец к Изяславу. Сказано о тебе и обо мне. Гонца снаряжал Петрило.
– Откуда ведомо тебе?
– Это мое дело.
Ростислав еще не хотел выдавать своей встревоженности, однако по всему было видно, что слова Дулеба его задели.
– Как знаешь, с чем поехал гонец?
– Знаю – и уже достаточно. Знаю еще и то, как похваляешься ты, что хоть сегодня можешь сесть в Киеве князем. Даже князь Юрий был бы опечален такими твоими похвальбами, что уж говорить про Изяслава, ежели узнает?
– Не твое рабское дело.
– Так слушай, княже. Ежели еще раз услышу от тебя про раба, не увидишь меня больше никогда. Запомни себе. Окромя того…
– Ну?
– Окромя того, ты должен извиниться перед нами с Иваницей за свою грубость.
– А!
– Ждем, княже.
Ростислав посмотрел на них обоих так, будто только что увидел этих людей.
– Что-нибудь еще сказать намерен?
– Ждем извинений.
– Ну, лекарь, прости. Не выспался. В этом Киеве и выспаться не дают.
– Ты еще не в Киеве, княже. И никогда в нем не будешь. А хуже всего то, что и князь Юрий вряд ли попадет сюда, ибо ты все испортил, вместо того чтобы помочь. Не выдержал ты, княже, испытания Киевом.
– Что можешь ты знать в сих делах высоких?
– Знаю, что кличешь к себе бояр киевских, так, словно ты уже великий князь тут. Разослал гонцов к черным клобукам и торкам, будто ждешь их с повинной головою, что ли.
– От кого узнал?
– От твоих врагов, не от друзей.
– А!
– Не веришь – так поверишь. Попытайся сделать так. За обедом скажи, что дал грамоты черным клобукам, торкам и берендеям, половцам, мол, точно так же готовишь. А потом и пошли своих людей тайком вослед за торками и черными клобуками, когда они от тебя пойдут. Грамот же не давай, а лишь пустые пергамены.
– Ну?
– Увидишь, что будет нападение на торков, чтобы отнять твои грамоты у них, дабы иметь доказательства супротив тебя для князя Изяслава.
– А ежели не нападут?
– Попробуй, княже. И помни, что я тебе сказал про киевлян. Теперь поедем.
– Вот уж! – удивился Иваница. – Так и поедем?
– Здоров будь, княже, – сказал Дулеб, не обращая внимания на своего товарища, которому, наверное, все же хотелось отведать еще и киевского оленя.
Кто бы мог выпустить из своего жилища гостей не накормленными, без передышки? Ростислав отпустил. Забыл про них, не замечал больше, углубленный то ли в хлопоты, которые причинил ему своей встревоженностью Дулеб, то ли в зазнайство свое, из которого не было у него выхода, от которого не имел спасения, неподвижно-застывший в своем величии, недоступный никаким человеческим чувствам.
– Вот это князь! – ворчал Иваница. – Вот это пригрел, и накормил, и напоил! Еще и не владеет ничем, а уже!
– Хуже всего, что забыл он даже про своего родного отца, про человека неоцененного, – рассудительно, словно бы обращаясь к самому себе, говорил Дулеб, покачиваясь на коне, который, казалось, тоже не полакомился княжеским ячменем, потому что шел быстро, охотно отдалялся от Красного двора, имея свои конские надежды на теплую конюшню и добрый овес на дворе Стварника. – Ростислав в своей зловредной забывчивости действует словно бы по предписанию святого письма, где сказано, что живой пес дороже мертвого льва. Ежели так, то сколько же тысяч псов можно убить, дабы лев остался живым?
– Не хочу быть ни львом, ни псом, а хочу есть, – заговорил снова Иваница. Он как-то отошел душою, уже не злился на Дулеба, снова потянулся к нему сердцем после глупого разговора, свидетелем которого только что был; он не мог лишь понять, зачем же нужно было им так далеко ехать темной ночью, среди снегов и мороза. – Вот ты сказал там ему что-то. Он слушал или не слушал, но все равно ничего толком не промолвил. С князьями всегда так. На ловах ты ему указываешь, в какую дичь целиться, когда же он промахнется, виноват тот, кто указал, а не тот, кто стрелял.
– Горек опыт битых, но еще более горек тех, кто бьет. Опасен человек, который вовсе не имеет горького опыта, – с прежней рассудительностью промолвил Дулеб.
– А вон и опытный, – негромко произнес Иваница, потому что навстречу им скакали три или четыре всадника, впереди которых развевалась долгополая, отороченная бобровым мехом, хламида Изяславова боярина Петра Бориславовича; боярин этот был в маленькой бобровой шапочке, с маленьким мечом на длинной, драгоценной перевязи, с коротенькими ручками, весь какой-то словно бы то ли усохший, то ли укороченный.
– Малое спешит к великому, но только где же великое? – добавил насмешливо Иваница, которому достаточно было один лишь раз увидеть высокоученого боярина, чтобы ощутить его надменность и пренебрежение и теперь платить ему той же монетой.
– Будьте здравы, будьте здравы! – не без удивления замахал холеной ручкой боярин Бориславович, высвобождая ее ради вежливости из пушистой рукавички, обращаясь, разумеется, не к обоим, а лишь к Дулебу, дважды же его «приветствия» промолвлены были не из расчета на количество встречных, а для придания веса своему слову, которое, как известно, от повторения не портится, а соответственно усиливается.
– Здоров будь, боярин, – ответил Дулеб и хотел проехать мимо Петра, но тот придержал своего коня, остановились также и отроки, сопровождавшие боярина; волей-неволей пришлось остановиться и Дулебу.
– Не ведал, что ты торопишься к князю в гости, а то подождал бы тебя.
– Вельми возлюбил я тебя, лекарь. Так мало в нашей земле ученых людей. Землю пахать да ездить на ловы – это доступно также и рабам, а мечом может размахивать каждый дурак. Наука же – лишь для избранных. Потому и радуешься, встречая человека…
– Казалось мне, ты имеешь высокоученого собеседника – игумена Ананию, – напомнил Дулеб.
– В нем достаточно красноречия, да мало мудрости.
– Да в этом ли дело! Таких много… Ученики Христа были темнейшими людьми в Галилее, как ведомо тебе, но благодаря этому стали избранниками неба. Ты тоже, боярин, не ищешь мудрого собеседника в Киеве, где, сам говоришь, мог бы найти, а скачешь в неблизкий княжий двор, хотя, видно, и не надеешься ни на красноречие, ни на мудрость его нынешнего обитателя.
– Неужто князь Ростислав не принял тебя на Красном дворе? – не поверил боярин.
– Поедешь – узнаешь!
Дулеб тронул коня, махнул Петру на прощание рукавицей. Тот, как человек вежливый, поднял руку без рукавицы, уважал своего собеседника, ощущал за собой силу непоколебимую, потому и мог позволить себе роскошь играть в вежливость даже на трескучем морозе.
– Вот уж! Обманул ты его! – восторженно вскликнул Иваница. – А поверит?
– Не поверит, пусть у князя спросит.
– А тот ему свое «А!», да и только.
– Тем лучше для нас с тобой.
– Что для меня лучше, ты уже и не ведаешь, лекарь.
– А ты сам?
– О том скажу себе самому.
Трудно, невозможно рассказывать о том, чего нет, ибо для исповеди существует лишь то, что названо словом, если же слово еще не родилось, если не появились те вещи, которые просятся в слово, тогда мы искренне и бесстрашно провозгласим свое незнание и разведем руками, если и не беспомощно, то, по крайней мере, в надежде на более благоприятный случай. Тем временем, чтобы не сойти с ума от подробностей, которыми неминуемо наполнена жизнь двух одиноких мужчин, одиноких, скажем прямо, не только в Киеве, но, наверное, и на целом свете, ибо причастность к человечеству дается каждому из нас прошлым, а Дулеб и Иваница без особой охоты уходили мыслями в прошлое, ведь один, собственно, и не имел еще там ничего, а другой имел одну лишь горечь; так вот, повторяем, чтобы своевременно и уместно избежать невыносимых, иногда, быть может, тягостных подробностей, пройдем мимо того незначительного количества дней, которое отделяло зиму от весны, и сосредоточим свое повествование на событиях, принесенных теплыми ветрами и быстрыми водами.
Весна ударила такая дружная и неожиданная, что растопила глубокие снега, пробудила ручьи еще до того, как на реках тронулся лед, и вот неистовые мутные воды пошли поверх льда по Днепру и Почайне, в одну ночь яростно бросились на берега, в одну ночь затопили русла, подмыли запруды, снесли преграды, разрушили жилища, разметали строения; люди гибли в разбушевавшихся разливах безмолвно и безнадежно, потому что даже те, кто испокон веков жил возле воды, кого заливало каждую весну, кто каждый раз кричал отчаянно: «Спасайте, добрые люди!» – теперь не успели подать даже голоса и либо погибли вместе со всеми неопытными, неосмотрительными, доверчивыми, равнодушными, либо успели спастись, вырвавшись из дикой стихии кто в чем был.
Кричко принадлежал к тем, кто спасся, но одна ночь отняла у него все, что он имел: разъяренная волна уничтожила его жилище, доменицу, забрала все запасы руды, извести, дров, угля; куда-то в черную безвесть было унесено его небогатое хозяйство; он пришел на рассвете к Стварнику во двор полураздетый, промокший, злой на все на свете.
– Даже небо против простого человека! – кричал он посреди двора и не хотел зайти переодеться и обсохнуть. – Благодарение Днепру – хоть добавит Киеву нищих и мертвецов, потому что бедолага Изяслав как ни старается, а не может пустить наш город с сумой по свету!
Дулебу все-таки удалось завести к себе Кричка, но тот не унимался, сверкал глазами, был неистов, порывался куда-то бежать, кричал:
– Поднимать люд надобно! Колотить! Возмущать! Против всех на свете, против самого бога! Пойди, лекарь, за ворота Киева, посмотри, что творится у подножия валов, тонет Киев, утопает. А что деется тут, на Горе?
Гора была равнодушной к тому, что творилось там, внизу, в глубинах, где в скользкой грязи теснилась беднота, поставленная лицом к лицу супротив стихии, незащищенная, привычная к жертвам. Чем больше страданий обрушивалось на низ, тем спокойнее чувствовала себя Гора, тем увереннее держала себя, поставленная не для мелочного замечания всего неизбежного и низкого, а лишь для просветления, дальновидения, для осведомленной предусмотрительности.
Гора видела, как в дальней дали перед полками Изяслава Суздальская земля пала ниц, как захватили они в полон челядь, скотину, коней, как рвались к самому Суздалю, творя по пути такое, что для описания его не хочется тратить слов.
Гора не в состоянии была удержать размах своих посягательств. Она словно бы даже через леса и пространства вопила своему удачливому князю: «Мало! Мало! Мало!» – и тот гнал воев дальше и дальше, но и в тех краях ударила неожиданно ранняя весна; уже на вербное воскресенье, точно так же как возле Киева, пошла вода поверх льдов по Волге и по Мологе, кони барахтались в этой воде по брюхо; пришлось прервать поход, так и не повстречавшись с главными силами Долгорукого, который где-то притаился за реками и лесами и не выходил навстречу Изяславу, то ли напугавшись, то ли, быть может, презирая своего разбойного племянника.
Тем временем Гора слала своему князю гонцов, слала их одного за другим, и вести везли они не столько недобрые, сколько загадочно-тревожные.
Есть люди, обладающие нестерпимым свойством все видеть, все подмечать. Такие не могут жить спокойно сами и портят жизнь другим. Для них жизнь разделяется на две части: вовремя подмечать и вовремя доносить обо всем замеченном. Они всегда безымянны, словно бы и бестелесны, но вездесущи; правда, их нет при рождении и смерти, потому что они непроизвольно сторонятся от этих конечных событий, зато они заполняют собой тот промежуток, который, собственно, и называется жизнью, превращая по возможности ее в муки.
Вот такими людьми и было замечено, что к князю Ростиславу на Красный двор тайком приезжали посланцы от торков и черных клобуков, замечено, однако не доказано, потому что и торки и черные клобуки слишком уж ловкие всадники, чтобы кто-нибудь в состоянии был их догнать, перехватить, устроить на них засаду; они умели найти дорогу в полнейшей темноте, для них не было расстояний, они издалека чуяли малейшее дыхание врага и мгновенно поворачивали коней; пришедшие из далеких пустынь, они обучены были ценить и уважать каждую человеческую душу, встреченную средь пустынной безбрежности, но при этом разбирались и в людском коварстве, и ловить их было безнадежным делом. Но к Ростиславу приезжал и посланец от берендеев. Берендеи же, как известно, отличаются добродушием, которое наполняет тело человека леностью, поэтому, возвращаясь от князя, берендей выбирал себе не ночь, а день, потому что ночью добрые люди спят, а не слоняются туда и сюда. День же, к счастью, выдался солнечный, – кажется, это был первый по-настоящему солнечный и теплый весенний день, не воспользоваться таким случаем было бы грешно и глупо, вот почему берендей где-то прилег на солнышке, уснул сладко и беззаботно, и, пока он спал, из-за пазухи у него выскользнула грамота, данная берендеям князем Ростиславом; а поскольку неподалеку оказались, как это и надлежало, зоркие глаза, то сонный берендей и грамота при нем были замечены; грамоту то ли прочитали, то ли просто похитили непрочитанной и привезли туда, где должны были бы ее прочесть. Княжеская Гора встревожилась, желтоглазые Николы прибежали к боярину Войтишичу, молодого князя Владимира подговаривали, не дожидаясь возвращения Изяслава, заковать Ростислава в железо, а суздальцев перебить; или же сначала перебить суздальцев, а уж потом заковать и самого Ростислава. Снова помчался гонец за леса, держа путь в Смоленск, а другой – в Новгород, а третий – через вятичей.
Тем временем люди, испорченные невыносимой наблюдательностью, не придав значения беде, которую творил дикий преждевременный паводок на Подоле, обратили внимание князя Владимира и его тысяцких и тиунов на вещь, казалось бы, малоприметную, если не иметь в виду того, что происходило это у подножья княжеской Горы.
Что же было замечено? На днепровском острове напротив Красного двора в одну ночь неожиданно и загадочно выросла новенькая баня. Остров этот выходил из воды лишь летом, а весной воды заливали его, каждый раз нанося перемытый песок, и только высокие вербы обозначали своими зелеными верхушками место этого островка на Днепре. На этот раз разъяренная вода, идя поверх не вскрывшихся еще льдов, также затопила остров, оставив лишь узенький песчаный гребешок; и вот на этом гребешке таинственные и опасные люди, каким-то образом перебравшись через клокочущую холодную воду, перевезя туда необходимое дерево, за одну ночь изловчились поставить баню и до утра исчезнуть оттуда, потому что даже самым наблюдательнейшим не удалось заметить какого-либо живого следа на острове.
Баня переполнила чашу встревоженности среди киевского боярства. Теперь уже речь шла не о неподкрепленных притязаниях Ростислава на Киевский стол – пахнуло духом самого Долгорукого, поползло по Киеву очень страшное для многих богатеев слово, которое с такой силой прозвучало зимой на подворье Десятинной церкви: «Долгорукий!» Киев зашелестел, зашептал, забурлил: «Долгорукий», «Долгорукий», «Долгорукий!» Четыре Николы, перепуганные насмерть, ночью прискакали к Войтишичу, подняли на ноги весь его двор, вытащили воеводу из пуховиков, желтооко таращились, требовали совета, действия, отпора. Ибо поставлена баня, а ведомо, для кого ставят баню в неприступных местах. Сегодня баня, а завтра появится здесь и Долгорукий со своими полками, а тем временем князь Изяслав где-то замешкался на Волге, а брат его Владимир еще слишком юн и недоверчив, а Ростислав – вот он, у самых киевских ворот, с суздальскими разбойниками.
Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?