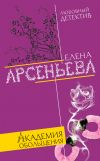Текст книги "Самозванец. Кровавая месть"

Автор книги: Станислав Росовецкий
Жанр: Боевое фэнтези, Фэнтези
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 18 (всего у книги 21 страниц) [доступный отрывок для чтения: 6 страниц]
Глава 23
Незваные гости Чернеца Евстратия
И чернец Евстратий проснулся той судьбоносной ночью задолго до света. Он привык подниматься в этот час, чтобы успеть на заутреню, и не считал, в отличие от многих в монастыре, сию иноческую обязанность обременительной. Ох и славно же было, выходя из Успенской церкви, встретить, зажмурившись, первые лучи солнышка! Это при хорошей погоде, а в сумрачные дни можно было обернуться и полюбоваться красавицей церковью. Скудно освещенная изнутри, она выныривала из ночи, как прельстительная русалка из чистой днепровской воды, она брала за сердце своей загадочной прелестью, которая, по мере того как трезвый свет дня побеждал тьму, сменялась сухою, строгой красою творения четырех греков, церковных мастеров, прилетевших из Царьграда на облаке. Сегодня ночь стоит темная, беззвездная, и рассвет, следственно, будет трудный, медленный. Да и есть ли на что здесь смотреть, когда развиднеется?
Отец Евстратий боялся теперь леса, как местности враждебной. Даже днем, под сияющим где-то над верхушками деревьев солнцем, когда выползал он из избушки по нужде, казалось ему, что дубы сплетаются ветвями-руками и надвигаются на него, чтобы закрыть ему путь назад, а узловатые их корни, будто огромные змеи, перекатываются под палой узорчатой листвой, норовя подставить ему подножку, и все в лесу, что только может рвать одежду, колоться и кусать, цепляет, вонзается и царапает. Ночью же из лесу, проницая непрочные стены избушки, накатывали черные волны ужаса, и боялся чернец ночью заснуть, чтобы не проснуться уже в аду.
Вчера в сумерки отец Евстратий протапливал избушку, но за ночь не только остатки дыма вытянуло из щелей, но и все накопленное тепло. Он закутался, во что только смог, не побрезговал и невыделанной оленьей шкурой. Все бы ничего, да только непонятно ему было, отчего обожженные ноги болят сильнее на холоде. Мазь добре помогла ему вначале, потом он и сам намазывал ею ноги, однако меньшую пользу обрел – потому, быть может, что без заговора лечился, ведь не умел он заговаривать, да, если бы и умел, не стал бы шептать, как колдун, хозяин избушки.
Хотел отец Евстратий отвлечься и оздоровиться душою, припомнив и пропев, что поется на утрене, однако оказалось, что ни одного прокимна не помнит он твердо, ни одного тропаря. Поэтому решил пропеть, как сумеет, пару псалмов, а начать, и с особым тщанием, с пятьдесят шестого: псалом сей ему, как вынужденному часто общаться с лукавым мирским людом, посоветовал заучить и часто повторять отец архимандрит Елисей. С горьким и светлым чувством личного сопричастия вывел отец Евстратий грубым, надтреснутым своим голосом строки: «И избави душу мою от среды львов, ибо заснул я среди сынов человеческих, зубы их – оружие и стрелы, и язык их – меч остр». Умиленно, вечными словесами псалмопевца царя Давида восславил он Бога и уверенно продолжил будто про себя самого сочиненное: «Сеть уготоваша ногам моим и унизили душу мою, ископаша пред лицом моим яму…» И вдруг замолчал. Словно острые ножницы отхватили ему в памяти конец псалма! Отец Евстратий ужаснулся: дело нечисто. Ведь сей псалом он еще позавчера оттарабанил бы без запинки, даже разбуженный посреди ночи. Увы, опасения оправдались. Не помогло ему крестное знамение, для чего пришлось вытащить руку на холод из-под вонючей шкуры, и трижды прочитанный «Отче наш» не помог.
В лесу раздался недовольный медвежий рык. Отец Евстратий замер. Затрещали сухие ветки под мягкой, но тяжкой поступью. Сомнения нету: шаги приближались, а это значило, что огромный зверь в предрассветной тьме безошибочно нашел избушку и идет к нему. Трижды сотворил крестное знамение отец Евстратий и принялся убеждать себя, что напрасно испугался: если добрый и работящий Михайло Придыбайло, навязавшийся ему в друзья, решил навестить больного приятеля, как сему воспротивишься? Ничего страшного! Ведь не девочка же он Маша в самом-то деле… Придется перетерпеть как-нибудь медвежьи нежности, а ублажить зверя заветным куском медовых сотов, припрятанным под скамьей.
И не успел чернец успокоить себя, как с треском распахнулась закрытая на деревянную щеколду дверь избушки, и на месте темного отверстия явилась еще более темная, черная, собственно, клубящаяся какая-то громадина из меха и клыков. Клыки же угадал он в темноте, потому что медведь раскрыл пасть, щелкнул зубами и заревел в полный свой звериный голос. Зверь сунулся вперед, и смрадное его дыхание наполнило избушку. Внутри попытался он встать по-человечески, однако крыша затрещала, и его передние лапы тяжело ударились о земляной пол. И тогда отец Евстратий с ужасом понял, что его посетил не услужливый Михайло Придыбайло: тот знает размеры избушки и легко помещался в ней.
Между тем меховая громадина засопела. Отец Евстратий замер: лесной исполин вынюхивал себе добычу. Тотчас же сопение сменилось оглушительным недовольным ревом, и зверь принялся когтями передних лап крушить все, что нащупывал внутри. Скамья, на которой лежал чернец, опрокинулась, он полетел на пол, и теперь медведь громил избушку, топчась по отцу Евстратию. Трещали плотницкие орудия и заготовки, собранные хозяином, звонко лопнул горшочек с целительной мазью, а чернец обеими руками прикрыл себе голову и постановил больше, что бы с ним ни происходило, не шевелиться. Притвориться мертвым – а что еще ему оставалось?
А тут и медведь замер, словно играли они с чернецом в детскую игру. Услышал тогда отец Евстратий звонкое причмокивание, будто вылизывал нечто лохматый исполин, потом мирное, довольное ворчание. Затем зверь начал пятиться, теперь уже передние его лапы прошлись по спине монаха. Тот потерял, наверное, сознание от боли, а когда очнулся, от медведя в избушке остался один только запах. Тихо было и в лесу, над избушкой повисла особая, гулкая предрассветная тишина.
Причитая сквозь зубы, отец Евстратий ощупал себя: все тело ныло, с обожженных ног содраны были, казалось, остатки кожи, однако кости остались целы. Он нащупал и вернул на место скамью, из последних сил сумел на нее забраться. Дверь осталась открытой, и, кто знает, не сорвана ли она совсем с ременных петель. Странно, однако теперь отец Евстратий не чувствовал холода. Хотел он было помолиться, поблагодарить Бога за чудесное избавление от нахождения зверя лесного, да забыл слова молитвы, хотел хоть перекреститься – рукой, до того вполне здоровой, не смог пошевелить. Чернец зашелся в беззвучном плаче, поняв, что бесы продолжают с ним свою адскую игру. И если рассвет все не наступает, это тоже неспроста.
И тогда в лесу замелькал огонек. Присмотрелся Евстратий – а там идет человек с факелом, возможно что и с фонарем. Хотел было чернец закричать, попросить помощи у прохожего – и одумался. Это же не Киев тебе: откуда в лесу взяться под утро прохожему? Кроме того, огонек приближался, и вдруг пахнуло с той стороны таким жестоким холодом, что у бедного отца Евстратия заслезились глаза. А когда удалось ему изгнать из своих глаз непрошеную муть, увидел он, что фонарь несет хромой человек, одетый в черное. Подошел поближе хромец, и удалось разглядеть, что одет он по-городски, в немецкое платье, а на залихватски надетом модном берете имеет короткое цветное перо, как будто страусиное. В отличие от медведя, шел он тропинкой почти бесшумно, не наступая на всякий сушняк, хотя как будто и под ноги не смотрел.
Как-то уж очень быстро, мгновенно даже, очутился незваный гость в дверях избушки. И не подумав поздороваться, гаркнул:
– Евстратий, сядь!
А когда чернец послушался, протянул с порога руку, немыслимо вдруг удлинившуюся, отодвинул Евстратия, будто пустой туесок, на правый конец скамьи, а сам скользнул внутрь, повесил фонарь на крюк и уселся, ногу на ногу изящно положив, на левой, ближней к двери половине скамьи.
– Ты, Евстратий, не обижайся, – заговорил темный ликом гость по-свойски, будто старый знакомый, – что я не назвал тебя отцом. Как я могу величать тебя отцом, если я старше тебя на… постой-постой… на шесть тысяч девятьсот семьдесят три года, два месяца и четыре дня?
– Да я вовсе не обижаюсь, – пустил петуха отец Евстратий и прокашлялся. – Я ведь не ошибаюсь, ты – тот самый, о коем я подумал?
– Он самый, он самый… Меня и князем мира иногда называют. Вот только не нужно кланяться мне в ноги, как это у вас, русских, водится. Я не люблю публичного поклонения, потому что от него у меня случается понос. Ты, конечно же, спрашиваешь себя, Евстратий, зачем я к тебе пришел? А я пришел к тебе попросту, навестить нового соседа.
– А я думал, что ты в Риме, у людей латинской веры живешь…
– Я живу везде, – гордо ответствовал черт. – А здесь у меня имеется недвижимость, старая мельница, которую мы держим на паях с местным Водяным. Вчера там случилась славная драка между лесными парнями и заезжими молодцами – любо-дорого посмотреть! Однако же ребята безобразно намусорили в лесу, а за собой не убрали. Дверь мельницы подожгли и закоптили, на красавце-дубе оставили висельников, при этом одного в совершенно непотребном виде, посреди поляны вырыли яму, оставили в ней дохлую кобылу – ничего себе подарочек! Водяной говорит, что без починки мельницы не обойдешься, да только где в этой глуши найти плотников?
– Д-д-да, – вынужден был отозваться чернец, потому что гость уставился на него черными, без белков, глазами, ожидая, черт его знает зачем, подтверждения. Выпуклые эти глазки годились бы скорее медведю или нетопырю, чем человеку, однако ведь черт и не человек вовсе.
– Я предпочитаю, чтобы меня сравнивали с быстроглазой серной, – небрежно заметил гость. – А у тебя здесь много плотницкого инструмента, да и дерева припасено, так не подрядишься ли заменить дверь на мельнице?
– Да это не мое все, а хозяина избушки. Я и не плотник вовсе. И обезножел ведь.
– На нет и суда нет, Евстратий.
– Однако же мне, чую я, все равно предстоит поплотничать, – поведал чернец, будто кто его за язык тянул. А ведь нет смысла молчать, таиться, если черт все равно мысли твои читает. – Боюсь, придется мне сколотить да поставить крест над колодцем на сожженном хуторе. Уж как выйдет тогда, так выйдет. Но это уже, извини, когда ноги заживут.
– Вот креста не нужно, – строго заявил черт. – Тоже мне взяли моду совать в землю где ни попадя кресты. А что там поставить, я тебе потом скажу.
Не очень понравилось чернецу, что черт ему будет указывать. Быстро сказал он о совсем для себя не любопытном, только чтобы на иное перевести разговор:
– А пан ловко говорит по-русски.
– А я все языки знаю, – польщенный, черт показал острые желтые зубы. – Мой век проживи, тогда, хочешь не хочешь, все нужные тебе языки узнаешь. Правда, не всегда успеваю за языками, они ведь меняются.
Отец Евстратий только вытаращился на собеседника. Что за чушь?
– Да, поверь мне, и языки стареют, как люди. Мне одна молоденькая ведьма попеняла недавно, что я говорю на старонемецком. Я подумал, кое-чего вспомнил и согласился. Впрочем, она хотела ко мне подольститься: вот я какой, дескать, образованный.
Чернец и на это ничего не смог ответить. Меж тем собеседник его продолжил задумчиво:
– И не все ли было ей равно – образованный или необразованный я? Разве бабам этого от нас нужно?
– От меня бабам ничего не нужно, – огрызнулся отец Евстратий, неизвестно на что обидевшись. – Равно как и мне от женок. Я обет принимал.
– Не один ты, многие обет безбрачия принимали, да мало кто его придерживается. Я бы на твоем месте не зарекался, ты ведь мужик в полном соку. Уж точно не зарекался бы, Евстратий. Сам, впрочем, увидишь. Да и… Вот ты скажи, кому ты обет безбрачия давал, когда принимал свои дурацкие монашеские обеты?
– А почему же все-таки дурацкие?
– Да потому… Вот ты отрекался от мира и всего, что в нем. А чем ты сейчас занимаешься? Разве ты не в мирских заботах больше времени проводишь, чем в своей келье?
– Такое уж у меня послушание.
– Ладно. Тогда отвечай на мой вопрос!
– Какой? Ах да… Обеты я давал Господу Богу своему и господину отцу архимандриту Никифору, вот кому.
– О первом твоем Начальнике, – черт непочтительно ткнул перстом в потолок, и оттуда просыпалась труха, – о Нем промолчим. А второй – ты же о покойном Никифоре Туре? Да? Допустим, он в монашестве и выполнял обет безбрачия, однако постригся пан Никита Тур сорокалетним шляхтичем, в мире остались у него жена и дети, да и любовниц предостаточно. Сам посуди, разве его можно приравнять к таким, как ты, что и не попробовали женской сладости? Разве справедливо это?
Отец Евстратий пожал плечами. Очень убедительно излагает нечистый, однако этому знаменитому обманщику поддаваться нельзя.
– А теперь посмотри на мой замечательный фонарь. Сработан он в Гамбурге из лучшего золингенского железа. Рукоятка деревянная, чтобы не обжигал хозяина, жаркий воздух выводится здесь сквозь дырочки и рассеивается этой вот круглой крышкой под рукояткой, – встав со скамьи, черт показал длинным тонким пальцем на фонаре. – Вместо стекол по бокам – отшлифованные и ограненные куски горного хрусталя. Вот эта боковина вынимается, чтобы можно было долить в лампу масло. Обычно в таких фонарях горят огарки свечей, но свечи мне о церквях напоминают, да ну их… Я сам сюда припаял маленькую масляную лампу. А теперь спроси меня, чем я ее заправляю вместо деревянного масла?
– И чем же?
– Так вот, я заправляю ее жиром, вытопленным на адской сковороде из твоего Никифора Тура. Прекрасно горит! Ярким пламенем! Одной заправки на целую ночь хватает!
Чернец отшатнулся, перекрестившись. Пробормотал:
– Таки доездился отец Никифор на своем венгерском скакуне! И вот тебе, господин отец архимандрит, твоя длинная сабля… И вот тебе сапоги со шпорами… И вот тебе твое любимое «Не мир, но меч…».
– Нет-нет! Воевал покойник как раз по делу. Осужден же за сребролюбие, за чревоугодие и за гордое убеждение, что монастырский устав не для архимандрита писан. А думаешь, ты у нас такой уж безгрешный? Тогда посмотри, будь добр, вправо.
Взглянул он вправо – и снова перекрестился. Потому что, освещенный ярким адским фонарем, стоял там, где у людей красный угол с иконой, вырезанный из дерева языческий болван, да еще и голова его поблескивала следами нечестивых поганских жертв. Откуда взялся кумир, неужто черт его успел подкинуть?
– Не смеши меня, Евстратий! И оставь эту глупую манеру чуть что – у себя перед носом рукою махать.
– Я понял, пане, понял! Идол был припрятан под оленьей шкурой, а я ночью ее стащил с него, чтобы согреться. Да и лежу я на скамье ногами к двери, и мне тот угол не виден.
– Можешь оставить свои оправдания при себе, Евстратий. Твой добрый самаритянин оказался ярым язычником, а ты принял от него не только кров, но и лечение. Между прочим, читал же ты «Номоканон»? Я напомню. «Правило одиннадцатое, Шестого собора, иже в Трулле, повелевает: аще кто в болезни дерзнет призвати евреина-врача и от него врачуется, аще убо священник есть, да извержется, мирский же да отлучится».
– Так то ж, если врач – еврей… Да и не читал я сам «Номоканона». Я же человек простой, ты же сам видишь, пане.
– По-твоему, врач-язычник лучше врача-еврея? Вот только зачем я у тебя спрашиваю… Ты лучше повтори мой вопрос своему духовному отцу на исповеди, если тебе суждено будет вернуться в монастырь, – вкрадчиво посоветовал черт. – Ведь ты оказался в чертовски опасном положении, Евстратий. Этот лес не годится для монашеского моциона. Ты во владениях Велеса, и тебе крепко повезло, что здешний Лесной хозяин увлекся войной с иноземцами, уничтожившими Серьгин хутор. Зато передо мной тебя навестил медведь, ведь я не ошибаюсь? Быть может, то и не лесной зверь был, а сам бог Велес, ведь старик обожает являться в образе медведя-исполина.
Отец Евстратий застучал зубами. Похоже, пронзительный предутренний холод все-таки его достал.
– Ты ведь не так и прост, как говоришь, Евстратий. Взять хотя бы, как ты повел себя с теми разбойниками на хуторе. Если бы ты сразу же выдал им, в каком дупле спрятал мошну с собранными для монастыря деньгами, они бы тебя сразу же и убили. Если бы ты не выдал своей казны, они бы тебя замучили до смерти. А ты потерпел-потерпел, да и сказал, где деньги. А когда эти пьяные убийцы побежали в лес искать дупло, сумел уползти.
– Я поступал не размышляя, – честно признался отец Евстратий. – Мне немного повезло тем страшным вечером. Если про это можно так сказать. Подумать, так уж какое там везение…
– А скажи, как бы ты поступил с твоими мучителями, если бы они попали тебе в руки?
– Я бы отдал их в руки судейским. Когда станут мерзавцев поднимать на дыбе, задумаются, стоило ли им мучить и калечить невинных людей.
– Да не задумаются они, разве что уже в пекле: все почти мертвы. Убиты мстителями.
– Это не по-христиански, пане.
Черт тяжело вздохнул, и показалось отцу Евстратию, что и пламя в ужасном фонаре притухло.
– Скучный ты человек, Евстратий. Потому что очень уж правильный. Ладно, теперь к делу. Предлагаю честную сделку. Простой обмен, знаешь ли: я тебе, а ты мне. Я тебе: завтра ночью за тобой прилетят две дебелые ведь… то есть молодицы из Путивля. Прежде хворых вроде тебя возили на носилках между двумя конями-иноходцами. Но так будет даже быстрее. Они возьмут тебя под руки и перенесут на пепелище Серьгина хутора. Ты кое-что обещал хозяину избушки, а они помогут тебе выполнить обещание. Только не мастери, будь добр, свой неказистый крест, а пусть они поставят над колодцем этого идола. Потом мои молодицы отнесут тебя на Бакаев шлях и присмотрят за тобой, пока не подберут тебя добрые люди. Годится?
– Ты уж извини, пане… – покачал головою чернец и вжал ее в плечи. – Да и моя бессмертная душа мне самому еще понадобится.
– Да ты дослушай сначала! Свою драгоценную душу можешь оставить при себе. Ты мне: где бы ты ни был, но на закате в последнюю пятницу каждого месяца будь готов встретиться со мною, и ты мне рассказываешь, как у твоего архимандрита идут дела с устройством типографии.
– А чем тебе, пане, не нравится сие богоугодное начинание? – заикаясь, осведомился отец Евстратий, никак не ожидавший от черта такой осведомленности: знает, эфиопская душа, что это именно его посылал отец Елисей прицениться, когда прошел слух, что во Львове намечается продажа одной из типографий, некогда принадлежавших знаменитому Ивану Федорову.
– Разве я говорил, что мне не по душе этот замысел? – искренне (а там, кто его поймет?) удивился черт. – Да я и сам, Евстратий, не знаю, что тут сказать. Когда не по душе мне типографское дело, а когда и по душе. Видел бы ты, какие угодные мне книги печатают иногда в Европе! Хотя тебе, монаху, на такое и смотреть запрещается, не то что читать… Впрочем, ты человек не книжный, вон и те прокимны, что помнил, у тебя из головы вылетели, так что едва ли ты поймешь мои парадоксы о книгопечатании.
– Как скажешь, пане.
– Ладно, Евстратий, если передумаешь, только позови меня, и я возвращусь. Не поздно будет, если и медведь уже подомнет под себя и начнет ломать, не поздно будет, если и русалка щекотать станет. Кажется, все… Ах да. Спрашивай, о чем ты хотел меня спросить.
Тогда протянул осторожно чернец грязный свой палец к адскому фонарю:
– Если столь жуткий жир там горит, пане, отчего ж не воняет?
– Увы, не помогает очистка. Пованивает все-таки, – усмехнулся черт. – Да только у тебя здесь, чистый душою Евстратий, до того смердит, что любую чужую вонь перебивает. Впрочем, таких контроверз в вашем православии хватает. Ладно, прощай. Мне еще надо тут поблизости доиграть партию в кости.
Глава 24
Ранняя прогулка под Новгородом-Северским
– Твое царское величество, изволь проснуться!
Некрасивый юноша с некоторым даже облегчением принялся выпутываться из долгого, с бесконечными повторениями сна, в котором, еще подростком, на темных улицах Люблина все пытался догнать и остановить своего отца (или дядьку, себя за его отца выдававшего), чтобы получить от него ответ о некоей неимоверно, жизненно важной для себя вещи… Временами он вспоминал, что то за вещь была, – именной, золотой с драгоценным камением, крест царевича Димитрия. Настичь нареченного отца никак не удавалось, и все более очевидным становилось опоздание в школу, и все более неотвратимым – наказание, которому подвергнет его отец Гортензий…
«Да бодал я теперь во все дырки отца Гортензия!» – напомнил себе во сне некрасивый юноша и проснулся окончательно. Он лежал, покрытый ковром, на своей походной перине в своем же шатре. Горела свечка в фонаре. Будил его Молчанов, сейчас почтительно отступивший к тщательно задернутому пологу.
– Гетман просит тебя, государь, подойти. Там уже собрались, – громко прошептал Молчанов, словно бы и не ложившийся этой ночью.
– Войдешь в шатер вместе со мною, Михалка, – приказал некрасивый юноша, успевший уже освоиться и утвердиться в яви. – Пусть Франц даст тебе мой красный плащ. Накину перед шатром гетмана. Умываться пусть не подает, я только отолью по дороге.
– Должен предупредить, государь, что ляхи с казаками уже все сами решили. Наступление уже, почитай, началось.
– Отчего же ты меня не разбудил? – И юноша-полководец всласть зевнул и потянулся.
– Пан Мнишек не велел. Ты, мол, должен отдохнуть после такой сумасшедшей скачки. Князя Мосальского вообще велели не будить, ляхи ему не доверяют. А его сотне назначили охранять тебя в дороге до Путивля, если наши… Ну, ты понимаешь, там же целая туча стрельцов из Москвы… Если прислужники хлопа Бориса их сегодня побьют.
Еще в школе отцы иезуиты научили его сдерживать природные позывы, однако не после же ноябрьской ночевки в холодном шатре и чуть ли не прямо на промерзшей земле… Снаружи было еще темно, но во тьме сновали поляной черные тени, ржали лошади. Когда некрасивый юноша отдал дань природе, ему стало еще холоднее, словно выпустил он накопленное под ковром тепло, и парадный алый плащ, накинутый на его плечи Молчановым перед входом в гетманский шатер, оказался как нельзя кстати.
Шатер был набит военными людьми в доспехах, цепляющих друг друга саблями, однако они, завидев державного юношу, потеснились, освобождая ему путь в середину, к горевшим там, на столе, свечам, еще прежде, чем раздался запоздавший возглас:
– Панове! Его царское величество!
Поляки отсалютовали некрасивому юноше, выхватив сабли из ножен и подняв их подвысь, стрелецкие головы и казаки поклонились средним русским поклоном. Он обнялся со всеми, начав, конечно же, с нареченного тестя пана Ержи Мнишека, и, как всегда, преодолевая неохоту, – с князем Константином Вишневецким, деятельным и верным своим сторонником, да вот беда: князь Константин – родной брат магната, у которого будущий царевич мыкался слугою. На любезности времени явно не оставалось, однако, чтобы показать свою осведомленность и заботу о людях, некрасивый юноша спросил:
– А где славный атаман Корела?
– Андрюха уже под лагерем, государь, убирает дозорных, – прогудел атаман Скибка.
Он кивнул, сделав умное лицо, хотя ничего не понял.
– Прошу ваше величество к карте, посмотреть диспозицию.
Это голос капитана Гонсевского, самого толкового из польских военачальников. Оную диспозицию сей капитан, конечно же, придумал, хоть гетманской булавой величается толстый Мнишек.
Юноша-полководец ошибся: не стол это посредине шатра, а изрядный барабан. Он покрыт той самой картой, склеенной из двух больших листов бумаги, на первый взгляд, затейливо вымазанных в грязи, на бумаге – подсвечник на три свечи.
– Вот он, лагерь противника, ваше величество! – ткнул умница Гонсевский пальцем в середину листа, в совершенно заумные квадратики и закорючки, покрытые каплями воска, и продолжил быстро, скорее даже нетерпеливо: – Вчера на заре князь Федор Мстиславский привел под Новогородок главное московское войско, отряженное против тебя, – ни много ни мало восемьдесят тысяч стрельцов, конных дворян и оным услужающих. Нас тут, тебе сие ведомо, и пятнадцати тысяч не наберется. Понятно, что мы, заранее осведомленные разведчиками и московскими перебежчиками о подходе князя Мстиславского, осаду города сняли и из своего лагеря отступили. Отошли в полном порядке, с пушками, сюда, в лес. Москали же в Новогородке не смогли бы все поместиться, поэтому заняли и достроили наш лагерь на месте сожженного Басмановым посада. Теперь мы нападем на них, спящих, ударим неожиданно, и действовать будем в нашем лагере, известном нам как пять пальцев…
– Послушай, пане Александр, это ты же все придумал, верно? – и в ответ на кивок Гонсевского: – И пан гетман, паны ротмистры и славные атаманы твою задумку одобрили? И войско уже, как мне доносят, выступило?
– Ты же видишь, дорогой зятек, – ответил вместо молодого капитана Мнишек, – что все ротмистры и атаманы здесь. Если ты отменишь наступление, они остановят свои роты и курени. Мы все помним, за кем в нашем войске последнее слово.
– И вот вам мое слово, благородные мои рыцари и славные атаманы! – тотчас же вскричал некрасивый юноша. – Скачите в свои роты и отряды и поступайте так, как распорядились пан гетман и пан капитан! Выступаем немедленно, чтобы застать московитов еще сонными! А ты, пане капитан, объяснишь мне свою задумку по дороге.
Топая сапогами, звеня доспехами и саблями, толпа военачальников покинула шатер. У барабана остались стоять Мнишек, князь Вишневецкий, капитаны Гонсевский и Сошальский, за спиною государя – Молчанов.
Юноша-полководец оглянулся на полог шатра. Показал подбородком на Молчанова:
– Вот, панове, мой начальник тайной службы. Осведомляю только вас. С паном Михалом все ли знакомы?
Поляки кивнули, Мнишек – последним.
– Тогда не будем терять времени. Вперед, панове! Пане Сошальский, ты со своими драбантами усиливаешь роту капитана Гонсевского.
– Но, государь…
– Меня, панове, будет охранять моя счастливая судьба!
Гонсевский взял было со стола карту, вытащив из-под подсвечника, потом скомкал и бросил на землю. Пояснил уже снаружи – скорее рассеянно, чем почтительно:
– Ах, да будет известно твоему величеству, что хорошо управляемое войско напоминает мне часы: когда их заводишь, они идут исправно, если их кто-нибудь не разобьет. А тому, кто завел часы, остается роль наблюдателя.
– Коня мне! – воскликнул некрасивый юноша и, уже в седле, обратился к Гонсевскому: – А как в ночном бою наши станут отличать своих от чужих?
– В безлунную ночь биться невозможно, иное дело – на рассвете… Наши должны были обвязать себе левые руки белыми рушниками. Однако многие приказом пренебрегли: либо не имеют полотенец, либо белыми их утирки уже не назовешь.
Поехали. Казалось, темнота вокруг еще более сгустилась, как бывает перед рассветом. Подавив мимолетную тревогу (везут черт знает куда, а вдруг прямо в московский лагерь, к первому воеводе князю Федору Ивановичу – продавать за приличную сумму?), некрасивый юноша быстро спросил:
– Так в чем же суть твоей задумки, пане Александр?
– Ах да… Войско подкрадывается к вражескому лагерю тремя колоннами, по очереди: первыми казаки донца Корелы переползают через валы и снимают дозорных, потом стрельцы и мушкетеры выходят к валам и воротам лагеря. А когда они будут на месте, панцирные гусары с криками и гиканьем врываются в главные ворота лагеря и штурмуют его середину, где пушки стоят и где шатер первого воеводы. Если повезет, захватят этого опытного лиса, князя Мстиславского, в плен. Вслед за ними стрельцы, прочие казаки и немцы-мушкетеры входят в лагерь, а там поворачивают: стрельцы идут, паля без передышки, направо, немцы-мушкетеры – налево. А казаки бросаются вслед гусарам, добивают и пленяют всех московитов, которые пересидели в наших землянках атаку гусар. Я думаю, московиты не устоят и разбегутся.
– Многие и на нашу сторону перейдут, – убежденно заметил державный юноша.
Гонсевский ответил не сразу. Слышны были только стук копыт по застывшей земле, позвякивание сбруи и оружия, а также как икает селезенка у коня кого-то из охраны.
– Я сомневаюсь, что слишком многие. Вчера, как только стемнело, больше трех сотен к нам перебежало. Думаю, те, кто хотел к тебе перейти, государь, уже с нами. А удастся ли моя задумка, один Бог знает. Я уже немало лет воюю, государь, и успел убедиться, что никогда не выходит в военном деле все именно так, как придумывалось воеводою.
– Но ты же все-таки веришь в сегодняшнюю победу?
– Не из-за моей диспозиции, нет… Просто московиты утомлены долгой дорогой по осенней грязи, а мои… то есть твои вояки обозлены ночевкой на голой земле, а перед ними – построенный ими самими лагерь с протопленными на ночь очагами в землянках.
– Главное, чтобы победили, – убежденно заявил рассудительный юноша. – А мое имя тоже воюет, ты этого, пане Александр, не забывай.
– Да разве я посмел бы забыть о главном оружии нашего войска! – с пафосом провозгласил Гонсевский и, помолчав немного, попросил: – Не позволит ли твое величество мне проехать вперед? Я хотел бы лично дать гусарам сигнал к атаке. А пан Сошальский выберет для тебя пристойное место, откуда твое величество на рассвете сможет наблюдать за течением битвы.
– Бог в помощь, пане капитан!
– Извини великодушно, государь… Гей, хлопче!
Позади раздался частый топот, и вот уже и Гонсевский погнал коня вперед и вместе с оруженосцем окончательно растаял впереди, в темноте.
– Молчанов! – гаркнул некрасивый юноша.
Рядом качнулась тень и отозвалась голосом новоиспеченного начальника тайной службы:
– Здесь я! Разреши доложить?
– Валяй, Михалка.
– Панки очень недовольны тем, что ты до сих пор не выплатил обещанное жалованье, государь. Гусары-товарищи грозятся в полный голос, что если в этой битве не возьмут знатной добычи, то уйдут от тебя, а ротмистры их речи не обрывают. А пан Мнишек, хоть и тесть твой будущий, намерен сложить с себя гетманство и уйти с ними. Почему пан Гонсевский не доложил тебе об этом?
– Капитан не хотел выглядеть доносчиком, а старый пузан просто побоялся мне сказать, – убитым голосом пояснил некрасивый юноша. – Ничего, сейчас надо Бога благодарить уже за то, что хоть перед битвой с Мстиславским рыцари нас не покинули. Скажи лучше, как мне теперь идти на Москву? То бишь с одними казаками и стрельцами…
– А по мне, государь, так скатертью дорожка. Чем меньше ляхов ты приведешь в Москву, тем лучше. Стрельцы и казаки каждый день переходят на твою сторону, а это главное. Кто его знает, может быть, сегодняшняя битва – последняя…
– Я уж начинаю жалеть, что назначил тебя на эту должность. Ишь, какой мечтатель! А я хотел поговорить с тобою о царе Борисе. Будем ли мы его выдавливать из страны, чтобы плыл в свою Англию, или будем стараться уничтожить.
Молчанов заговорил быстро, будто о давно обдуманном и даже заранее облеченном в слова:
Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?