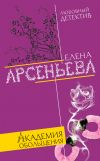Текст книги "Самозванец. Кровавая месть"

Автор книги: Станислав Росовецкий
Жанр: Боевое фэнтези, Фэнтези
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 3 (всего у книги 21 страниц) [доступный отрывок для чтения: 6 страниц]
Глава 2
Мстители трубят сбор
Сероватое скучное небо резко засинело вокруг огненного змея, когда делал он круг над пожарищем. Круто пошел бесовский летун на снижение и ударился об землю именно в том самом месте, где несколько часов тому назад гарцевал перед строем старый пан Ганнибал. Тотчас рассыпался змей снопом искр, а на его месте в облаке пепла и пыли явился золотоволосый добрый молодец, пожалуй слишком красивый для мужчины и слишком уж роскошно и чистенько одетый для такой лесной глуши. Озабоченно огляделся кудрявый красавец, и тотчас лицо его утратило несколько глуповатое, для соблазнения женского пола предназначенное, выражение.
Вдруг ноздри прямого носа красавца раздулись, он подскочил к колодцу, заглянув в него, всмотрелся – и отшатнулся. Увиденное столь поразило молодца, что на мгновение растаял он в снопе искр и блесток, но тут же снова вернул себе человеческий облик. Ибо убедился Змей, что не послышалось ему: из колодца раздались стоны, а потом и членораздельное:
– Прохожий… помоги…
Молодец метнулся туда-сюда, подскочил к обугленному «журавлю», которым поднимали ведро с водой из колодца, завязал остатки веревки в петлю, потом, легко орудуя тяжелым камнем-противовесом, опустил петлю в колодец. Покряхтел-покряхтел, прижимая камень к земле, пока над срубом колодца не показалось бледное лицо. Простоволосый мужик вцепился в верхний венец сруба и с помощью подоспевшего молодца перевалился на землю. Был он в одной рубахе, прожженной в нескольких местах и выпачканной кровью, красные от холода босые ноги связаны. Молодец только прикоснулся к узлу, пальцы особым манером сложив, – и он распался, а концы веревки задымились.
– Ты кто, спаситель мой? – сверкнул на него белками мужик.
– Да Змей я, – просто ответил добрый молодец. – А ты кто, неужто батька Проворин? Так он же, Сопун, черноволос, мне помнится, а ты седой как лунь.
– Поседеешь тут… – вздохнул мужик. – Я еще разберусь, как ты, красавчик, ухитрился с моей Проворой спознаться… Лучше бы ты мне о ней не напоминал! Лежит бедная моя Провора здесь же, в колодце, мертва да зверски поругана… Все наши мертвы.
– Замучена она, значит, голубушка моя, – протянул молодец и пригорюнился едва ли не по-бабьи. – А тебе, Сопун, как удалось уцелеть?
Мужик еле заметно отстранился от своего спасителя. Принюхался и заговорил – осторожно, будто с сумасшедшим, что завладел топором и в любое мгновение может броситься:
– О! Не человек ты, ибо не пахнет от тебя ничем человеческим. Наверное, и вправду Огненный Змей – то-то удивлялся я, с чего бы это повадился ваш брат летать над нашим захолустьем? А как я спасся? Сил моих больше не стало видеть и слышать, что тут творилось, – и я вроде как умер. Есть такие тайные слова… А я ведь ведун. Ведаю, как и ты, кое-что.
– Да нет, я как раз ничего не знаю! Летаю себе по небу да к бабам и девкам подваливаю… Даже не припомню никак, откуда я взялся и почему мой златотканый кафтан никогда не грязнится. А вот ты… Слабым моим умишком смекаю, если умер ты и ожил снова, то уже тоже не человек. Ты теперь оживший мертвец, наша косточка. Вот ты кто теперь, Сопун.
Сопун осторожно ощупал себя. Вдруг охнул и страдальчески скривился.
– Черт, да у меня же пуля под левым плечом… Проклятый немец – и свинца на меня не пожалел… Как бы мне и взаправду теперь не помереть…
– А вот в меня можно стрелять сколь угодно – хоть стрелою, хоть пулей огненного бою! – похвастался Змей. И вдруг наморщил свой гладкий белый лобик. – Ты ложись и в зубы возьми палочку какую ни есть, потому как больно будет! Вытащу я из тебя твою пулю, мужик.
Послушно растянулся на земле Сопун, но перед тем, как взять в зубы сучок, проворчал:
– Пулю вытащить – не хитрость, а вдруг затыкает она дыру в становой жиле, и я кровью изойду?
– Не бойся! А вот если сам не заткнешься тотчас же – язык как пить дать откусишь! Ну, поспеши мне на помощь, о всеблагой Симаргл!
Тут он приподнял колдуна, стукнул его легонько по левой лопатке – и в красивую и чистую, будто девичью ладонь Змея скатилась пуля. Была она большая, неровно круглая, вся в темной крови, и кровь, но уже алая, начала было заполнять дырку в груди Сопуна, однако Змей поднес к ране два своих хитросплетенных пальца. Между кончиками Змеевых пальцев и раной полыхнул огонь, и противно завоняло горелым мясом. Сопун перекусил сучок, выплюнул его и, замычав, засучил ногами по затоптанной траве.
Змей легко поднялся на ноги, присмотрелся критически к полам своего парчового кафтана, достал из левого рукава большой шелковый платок и тщательно вытер руки. И хоть рана у Сопуна продолжала пылать адским огнем, сумел он заметить, что пятна на платке исчезли прежде, чем Змей успел вернуть его в рукав. Силен, однако, девичий угодник! И, кажись, опять принялся хвастать…
– …чистое оно, пламя, и рана теперь ни мокнуть, ни загнивать не будет. Прижечь тут – первое дело… Слушай, да что это с тобой, ведун, неужто и малой боли перетерпеть не можешь?
– Да ты оглянись, оглянись, боярин! Ведь это же батя мой!
Подбоченился Змей, поднял изломом правую соболиную свою бровь и крутнулся на каблуке. Невольно присвистнул: на сей раз никакой ошибки быть не может – кем же еще, как не ожившим мертвецом, может быть этот полуистлевший богатырь, ковыляющий к ним из леса напрямик через пожарище?
Ведь кожа на лице силача в местах, серой бородой не скрытых, зеленовата была, слизи подобна, и казалось, вот-вот должна будет уже облезть. Глаза – того беловатого цвета, что у живых бельма. Голова, как рассмотрел Змей, прочно склонилась к правому плечу. Щеголял великан в испачканной глиной и гноем длинной домотканой рубахе и в таких же штанах, на ногах имел некогда белые же ноговицы и под ними босовки – на живую нитку сметанные постолы из бросовой кожи. А зачем покойнику лучшая обувь, когда обычно он из могилы не выходит? И если из колодца несло начавшей разлагаться запекшейся кровью, то приближающееся существо толкало перед собою волну запаха застарелой мертвечины. Однако Змей, хоть и различал запахи, не умел, подобно людям, делить их на приятные и противные, а Сопуна не вывернуло наизнанку, потому что смердел его родной отец.
Сопун уже стоял на коленях и кланялся.
– Здравствуй, батя! Поведай, что привело тебя сюда из могилы?
– Здравствуй и ты, сынок! А мне теперь здоровья не положено, – прогудел мертвец, остановившись в сажени от колодца и белоглазый взгляд свой переводя с сына на Змея. – И ты здравствуй, боярин, не знаю твоего имени и отчества твоего!
– Просто Змей, отец, отчества не имею, а из рода я Симарглова, – легко поклонился красавец.
– Служилый татарин, значит. Да… – Мертвец поскреб у себя в затылке, пустив по ветру прядь серых волос. – А меня живого Серьгою звали. Вопросил ты меня, сынок, и я обязан тебе ответить. Так что не сетуй, если долго буду говорить: мысли в моей голове вот уж несколько лет, как стали ворочаться медленно. А что никак не засну в своей могиле, так это мне наказание за то, что в большой голод страшно согрешил я: человечину ел. Я и прежде многажды приходил к вам, но по ночам и тайным образом. На внуков я хотел посмотреть, срубили ли конюшню, любопытно мне было, да и – чего уж теперь скрывать – за пивом.
– Вот оно что… А я, батя, на брата, на покойника Тренку, грешил.
– Покойника? Когда же он успел окочуриться, вечный недотепа? Мне бы тоже жить еще и жить, да придавило меня, боярин, не в добрый час сосною, шею напрочь сломав. А вы… Что тут скажешь, оплакали вы меня и похоронили, как положено. Грех было жаловаться, сынок. Не забыли и слабости моей, что живой прилежен был я к питию хмельному, налили пива в настоящую стеклянную бутылку, в зеленую, не пожалели сей дорогой вещи, из Киева привезенной, для старого своего отца, положили мне в колоду под правую руку. Да только маловата оказалась та бутылочка для меня, такого огромного. Вот и ходил бутылочку наливать, пока не перестало пиво меня хмелить. А сегодня под утро, когда обычно в колоде моей холодает добре, нежданно по земле тепло до меня дошло. Решил я было, что лес горит. Переждал я, пока огонь прокатится через погост, высунул нос наружу – а там никакого пожара. Ну, испугался тогда, что это вы погорели. Так оно и есть. А где остальной народ, сынок?
– Прости меня, батя, что не сберег я семью, – трудно, по-мужски, заплакал Сопун и склонил голову. – Все тут в колодце лежат, замученные. Моя вина, не сумел уберечь, старейшина хренов.
Мертвец все так же медленно подковылял к колодцу, нагнулся над ним и долго стоял неподвижно. Сопун поерзал на коленях, развернулся в сторону отца и снова застыл со склоненной головой. Змей закручинился: ему очень хотелось помочь этим, из-за бедняжки Проворы не вовсе ему чужим, мужикам, живому и мертвому. Да вот беда: только и умел он, что утешать одиноких баб, вдов да девок, потерявших жениха. Поэтому молчал красавец, порою тяжко вздыхая от полноты сердечной.
Наконец, Серьга, не отрывая взор от колодца, прогудел, как бы квакая посреди речи:
– А почему детишки… не разбежались? Кто-нибудь из твоих… или Тренкиных… Глядишь, и схоронился бы кто из малых в чаще… Хотя бы и Ксанька… всегда живая, сметливая такая… И как ты, Сопун, живой оказался… коли все там полегли?
– И я там, батя, лежал с немецкой пулею в груди. Вот этот добрый чело… добрый Змей вытащил меня и лечил, когда ты пришел. А детишек как раз матери спать укладывали, когда эти нелюди приехали на Серьгин хутор. Мы ж его в твою честь, батя, назвали. Схватили иноземцы нас с Тренкой и давай спрашивать, признаем ли мы царевича Митрия за подлинного царя?
– Это какого же царевича? Не того ли, что про него слухи ходили? Неужто и вправду объявился?
– А как же, батя, объявился Митрий-царевич на нашу голову… Спрашивают нас, признаем ли его, так я догадался промолчать, а Тренка, любимчик твой, губошлеп великовозрастный, возьми да и ляпни, что на Руси вроде царствует православный царь и великий князь Борис Феодорович. Тут-то они на нас, яко звери, и набросились. Я теперь думаю, что, признай мы царевича, они с нами так же точно поступили бы.
– Ты верно рассудил, сынок. Теперь послушай меня, – мертвец повернулся к сыну, спиной опираясь на сруб колодца. Лицо его стало теперь ужасно. Настолько ужасно, что Змей невольно отвел глаза. – Будем мстить. Нехорошо оставлять такое без кары. Я бы зубами их порвал, да только мало у меня зубов осталось… Придется руками на части раздирать, руки мои силушку еще не потеряли. А пулю прибереги, сынок: мы ею тем, кто тебя расстреливал, глаза продавим поближе к затылку.
– А у меня, батя, остались и зубы! – оскалился своими желтыми Сопун. И вдруг погрустнел. – Сперва добраться до них надо. Мы безлошадны, а они конные, уйдут далеко. Уже сейчас уехали они добре вперед, батя.
– Ничего, из этого леса супостаты смогут уйти одной только дорогой. Я уже придумал, как их задержать. А ты, боярин… Да нет, догадался я… Ты же тот Огненный Змей, что к бабам летает? Это ведь тебя, Змей, я видел над лесом получасом раньше? Надежен я, что поможешь нам… Али нет?
Змей зарделся, переступил с ноги на ногу. Сопун покосился на его сапоги – красные сафьяновые, с золотыми узорами, на высоких каблуках. Продать такие в Путивле – хватит на трех коней, да не на лошадей рабочих, а на боевых коней с седлами, еще и на телегу с конем-работягой. Да только кто в ней может быть уверен, в бесовской работе: вдруг только стянет Змей удивительные эти сапоги с ног, как рассыплются они в пыль?
– Я бы рад помочь, дядя Серьга, – развел руками Змей. – Вот только надобно мне к вечеру навестить одну смугляночку в Бояро-Лежачах, по ту сторону Черного леса. Да ладно, подождет… Иное худо: не умею я с оружием обращаться, да и нет его у меня, как видите… Эта сабелька на боку, она и не настоящая вовсе.
– Да имеется у тебя оружие, Змей, – криво усмехнулся Сопун. – Вот только, как разумею я, против баб оно.
Покраснел Змей, закусил губу и уже начал было растворяться в облаке искр, когда мертвец неуклюже поклонился ему:
– Прошу тебя, господин Змей, не обижайся на моего сына-дурака. Ты, легкий и скорый летун, очень нам помог бы, если бы хоть до вечера с нами остался. Вот, к примеру, хотел я тебя спросить: ты с нашим домовым, с Домашним дедушкой, не знаком ли случайно?
– Совершенно случайно знаком, почтеннейший Серьга, – ответил Змей, сразу раздумавший улетать. – И вот что мне сейчас в голову пришло: странно, что Старый дедушка не выполз из своей норы, как услышал твой голос, дядя Серьга. Ведь от неживого не нужно ему таиться, а любопытен чрезмерно. Прячется же он обычно…
– Да знаем мы, где его логово, Змей! – вскинулся тут Сопун и тотчас же, болезненно сморщившись, покосился на левое плечо. – Уж не сгорел ли Дедушка давеча вместе с избою?
Змей ласково надавил ему на правое плечо, заставив снова сесть. Предложил сам привести Старого дедушку, коли жив еще тот: сварлив и зол старик и, если пострадал на пожаре, может сгоряча накинуться и на неповинных людей.
Танцующей своею походкой направился Змей к печи большей из изб: закопченная, она торчала на пожарище как горькое напоминание о кипевшей еще вчера вокруг нее людской жизни. Сопун попытался было заикнуться, что сейчас им не в пример полезнее было бы ударить челом лешему, однако отец оборвал его:
– Сам ведаю, сынок. Всему свое время.
Тут возвратился Змей, принес на плече Домашнего дедушку – и в самом жалком виде, что и обнаружилось, когда положил ношу на вытоптанную траву. Был он раньше домовой как домовой, а стал теперь маленьким нагим старичком, с голой, вроде бы как лысой, головою, только черные точки на месте выгоревших волос и остались, точно так же и на лице у него, и, видать, на теле все волосы истлели в огне. Дышал хоть, слава богам, а если точнее, то натужно, не в лад, хрипел.
– Угорел, бедный, в своей печи, наглотался дыму. Ничего, на лесном воздухе оклемается, – пояснил Змей, заботливо отряхивая свой кафтан.
Живой мертвец пошевелил остатками своих кустистых бровей, трудно повернул голову к сыну. Прогудел:
– Делать нечего… мало сейчас от Старого дедушки толку… Пойдем мы пока что… Лесного хозяина вызывать… Давай поднимайся, сынок… только осторожно.
Выяснилось, что хоть и нетвердо, но стоит Сопун на ногах. Огляделся колдун, промолвил раздумчиво:
– Допустим, я до березовой рощи доковыляю как-нибудь. А чем будем березки рубить? Выходит, батя, нам так и так к моей охотничьей избушке брести. Ведь без своей волшебной лечебной мази я и загнуться могу. Ой, прости, батя…
– Пустое… На что тут мне обижаться? Но главное для нас сейчас – с лешим договориться, потому как только ему под силу не выпустить ворогов из леса. Подождет твоя избушка… А березки я и руками с корнями вырву…
– А я тебе, Сопун, помогу дойти до рощицы. Это где она тут? На восход солнца, что и дорога на Путивль? Цепляйся, друг, – подставил Сопуну свое плечо Змей.
И они пустились в путь той же дорогой, что и несколькими часами ранее иноземные воинские люди. Перед скорбным колодцем на маленькой площади, которой явно светило обратное превращение в лесную поляну, остался лежать только голый домовой. Жалкий и маленький, он скорчился, будто младенец в животе у матери. Хрипы его вдруг утихли, и Старый дедушка ритмично засопел – совсем как немолодой мужчина, спокойно заснувший в собственной постели.
Однако недолго это место оставалось безлюдным – ведь спящего домового духа с человеком можно только сравнивать, а трупы в колодце людьми, конечно же, оставались, но их безмолвное и скрытое присутствие только подчеркивало пустоту пожарища.
Сначала треск раздался в кустах папоротника и дикой смородины, и вскоре оттуда выполз на спине, локтями от земли отталкиваясь, поджарый бородач в темно-коричневой рясе. Простоволосый, босой, без дорожной сумы, без пояса и всех висящих на нем необходимых в дороге вещей, даже креста не имел он на шее – однако, судя по одежде и особой повадке, принадлежал к монашескому чину. Был это тот самый православный монах, об ограблении которого своими головорезами вспоминал пан Ганнибал. Вот только думал бывший ротмистр, что чернец лежит в колодце вместе с прочими жертвами, а тому удалось вечером спрятаться от пьяных убийц в кустах.
Пока полз чернец через поляну, едва не ткнул он локтем в затылок домовому, а тот, и в беспамятстве почуяв присутствие служителя Христова, снова принялся хрипеть. Добравшись до колодца, несчастный передохнул. На ноги встать он не мог: обожженные, в струпьях, были они обернуты сухими лопухами, а и те в большинстве своем свалились на пути к колодцу. Поэтому монах, как и колдун до него, на руках подтянулся на краю сруба, заглянул вовнутрь… Лицо его, все в синяках, сморщилось, он расслабил пальцы, повалился на бок возле колодца и громко заплакал.
Глава 3
На ложе захолустной корчмарки
Некрасивый юноша лет двадцати пяти, называвший себя царевичем Димитрием, а на самом деле неизвестно кто, давно уже не чувствовал себя таким телесно счастливым, таким расслабленным. Обнаженный, валялся он на грязной трактирной постели и прислушивался одним ухом, глаз не раскрывая, к легкому плеску воды. Это смазливая шинкарка, с которой он всю долгую осеннюю ночь пробарахтался, возилась в темном углу светлицы с кувшином и тазом. Слева сия пышнотелая наяда плескалась, белыми своими бедрами рассеивая утреннюю полутьму, а справа, на колченогом табурете у стола, была сложена его одежда, а на скамье и под скамьей у стены – латы и прочее походное имущество. Некрасивый юноша ухмыльнулся: там, в одном из дорожных мешков, лежит и лубяная коробочка с киево-печерским подарком. Не помешал ему ночью святой Моисей Угрин, и слава Богу, что только сейчас вспомнилось о частице его мощей! Возможно, впрочем, что чудотворец и чернецам помогает побороть похоть только тогда, когда его о том попросят…
– Эй! Как тебя там? Забыл я, молодуха, как тебя дразнят…
– Анфиска я, надежа-государь, вдова я…
– Не изведи всей воды, оставь мне умыться, Анфиска.
– Да я тебе теплой принесу, надежа-государь, стоит тебе только приказать. На печи чан стоит еще с вечера. Тебе ведь окатиться надо после грешной-то ночи…
Он открыл глаза и присмотрелся к белой и стройной, будто на картине «Суд Париса», обнаженной спине Анфиски, протянувшей руку к грядке, чтобы сдернуть с нее свою рубашку. Та, на картине, как ему объяснили, была прекрасная Хелена (или все-таки Венера?), и она тянулась к яблоку, которым принц Парис должен был отдать ей первенство. Картину эту любознательный юноша видел в Кракове, в столичном королевском дворце. Теперь он развесит такие картины в замшелом Московском Кремле – и кто посмеет ему запретить?
– Да ты не одевайся, Анфиска. Вернись на кровать. Поболтаем еще…
– Ой, стыдно, надежа-государь…
Тем не менее мгновенно оказалась рядом с ним – и по-прежнему в чем мать родила. Глазки так и блестят… Смешная. Простенькая слишком. Глазки те же чересчур широко расставлены. И полные грудки в разные стороны торчат.
– Что ж ночью не стыдилась, Анфиска? Заездила ты меня, право: руками-ногами не могу пошевелить…
Она захихикала, прикрывая ладошкой свои вычерненные, по московской моде, зубы. Любезный юноша присмотрелся: нет, не ошибся он – лиловый синяк красуется на тугом плечике, а еще один на левой груди. Да и на ягодицах, помнится, тоже…
– А синяки где заработала, красавица?
– Да все немцы проклятые щиплются… Бесстыдники. Однако досталось бы мне и похуже, если бы ты, надежа-государь, на меня глаз свой царский не положил.
– Будто сама не знаешь? Когда войско проходит, следует рожу сажей намазать. А еще лучше спрятаться.
– И что же мне было – с сажею на роже корчемствовать? Да кто бы со мною, замарашкой, захотел бы расплачиваться за съеденное, выпитое да зажилое? Нет уж, такая моя доля, надежа-государь, а долю конем не объедешь.
Некрасивый юноша взглянул на нее заинтересованно: его и самого пока в жизни имели чаще, чем ему удавалось кого-нибудь поиметь, – и не только фигурально, как выражался отец Лактанций из иезуитской школы в Люблине: тот и сам был очень даже не прочь – не фигурально… Однако зачем он в такую минуту о былых невзгодах? Вот кстати напомнила…
– Чуть не забыл… Возьми, красавица, на столе большой кошель, там и малый есть, а ты большой возьми. И отсыпь из него себе столько монет, сколь в ручке своей удержишь.
Он снова прикрыл глаза. Под шелест и позвякивание возле стола подумал лениво, что успел растратить колоссальное богатство – и, надо же, нисколько о том не жалеет. Добрый король Сигизмунд не только пообещал сорок тысяч злотых ежегодной субсидии, но и выдал вполне приличную сумму. Будь он и вправду ловкий мошенник, как твердят его враги, что помешало бы ему с этими деньгами удрать к туркам – сначала в Молдавию, а там и в Царьград? Только бы его и видели! А принял бы ислам, не выдали бы никогда турки. Если из православия перешел он в католичество, то из католичества в мусульманство перейти тоже не бог весть какой подвиг – в чем, в сущности, между сими confessiones разница? Если по правде, то все веруют в единого Бога, а православные, католики и мусульмане – даже и в одного и того же, к тому же в иудейского… Славно пожил бы у турок на королевские тысячи, надолго бы их хватило. Однако ему ведь не деньги нужны, деньги теперь не главное… Он усмехнулся: ему совсем не нужно было прислушиваться, не роется ли ночная прелестница в его вещах. Боже мой, до чего же изменилась его жизнь, и как сладко ощущать свое новое, независимое, поистине великолепное положение!
Ага, вернулась. Прилегла на него. Будет по-своему, по-бабьи благодарить… А он и не против.
– Ты такой сильный, надежа-государь, – замурлыкала. – Такой сильный: по мне сей ночью будто рота рыцарей проскакала… Неутомимый, словно славный богатырь Илья Муравленин, вот ты какой…
– Илья-то, слыхал я, из здешних мест?
– Да, говорят, что из Моравска.
– А Моравск добровольно перешел под мою царскую руку. Мало того, тамошние дети боярские привезли мне налоги, собранные для ложного царика Бориски Годунова, – произнес некрасивый юноша с нескрываемой гордостью, глаз, впрочем, не открывая. – И не один Моравск – сам Чернигов мне сдался. А подойду к Путивлю, и он мне ворота откроет. Мое имя сильнее оказывается, чем самые крепкие крепостные стены.
– Да ты, надежа-государь, уже сейчас славен, как древний богатырь Илья. Песен про тебя пока не слыхала, врать не буду, а вот повестей сколько о тебе ходит! Все только о тебе и говорят, надежа-государь!
– А не врешь?
– Зачем мне врать? Ты уже наградил меня по-царски, для чего мне перед тобою заискивать? Поедешь прямо сейчас, я же знаю, надежа-государь. Жаль мне, конечно…
– И чего же тебе жаль, красавица? – лениво спросил любезный юноша и зевнул.
– Жаль, что неплодная я. А то ребеночка бы тебе родила, надежа-государь, – и спрятала лицо у него на груди.
– А я и сам уразумел, что неплодная. Живот у тебя вон гладенький какой. И лучше для тебя, Анфиска, что неплодная ты. Думаешь, тебе так просто и дозволили бы родить царю ребенка?
Она замерла на его груди – от страха, что ли? Державный юноша вздохнул: ему известны были ужасные и бесстыдные способы, к которым прибегал отец, царь Иван Васильевич Грозный, чтобы его наложницы не могли забеременеть от драгоценного царского семени. Пересказывать все эти гадости сейчас простушке Анфиске значило ее без толку пугать. А зачем? Самого некрасивого юношу похабные подробности могли бы сейчас подзадорить (знал такое за собою), однако ему не хотелось больше бурных соитий, хотелось подремать в жарких объятиях молодухи. Благо тут приятно натоплено, однако не воняет дымом: печь стоит в соседней горнице, а сюда выходит только ее раскаленная стенка. Это лучшая из двух спален для проезжающих, и впредь теперь только так и будет: отныне ему всегда предстоит получать в корчмах, гостиницах, палатах и дворцах лучшие покои. Державный юноша снова зевнул и подумал, что грозный его отец вызвал бы сейчас сказочников, чтобы легче заснуть. А чем Анфиска хуже? Да ничем…
– Почему бы тебе не поведать, красавица, что ты обо мне от людей слышала?
Она встрепенулась и принялась звучно целовать его в безволосую, будто и не мужская вовсе, грудь:
– Слава Богу! – проговаривала между поцелуями. – А я уж думала, что рассердила тебя своими глупыми речами… Отчего ж не рассказать, надежа-государь?
Притаилась тогда, значит… В самом деле глупа – или прикидывается, чтобы его потешить? Опять ее затылок оказался у него чуть ли не прямо под носом: от гладких волос Анфиски пахло квасом, с которым небось она на ночь их расчесывала. Поневоле припомнились любезному юноше волосы на голове его нареченной невесты, вельможной девицы-полячки Марины Мнишек, – пушистые, воздушные, выложенные в какую-то сложную, башней, прическу, надушенные, напудренные так, что вблизи волоска и не разглядишь. Потому что не подпустит к себе так близко, семнадцатилетняя гордячка. Припомнилась ему Маринино к нему как бывшему холопу презрение, его горячность, который только недотепы-поляки могли принять за проявление пылких галантных чувств. Хер вам! Злость тогда им двигала, отчаяние! Ведь из-за строптивой девчонки могла обрушиться вся его замечательная задумка. А Марина… Говорили ведь о ней знающие люди, что отнюдь не глупа. Неужели она не понимала, когда кочевряжилась и безжалостно ставила accentus на своем полном равнодушии к нему, что тем самым закладывает пороховую мину в fundamentum их будущей семьи? И чего было кочевряжиться, спрашивается, когда обо всем давно было договорено с ее отцом, лукавым паном Юрием Мнишеком? Если бы не развеселый пан Ержи с его светскостью, обширнейшими родственными и дружескими связями, он до сих пор мотался бы по Польше, уговаривая шляхтичей выступить с ним в поход. И сам нареченный тесть поехал, не побоялся, изнеженный, избалованный судьбою, походных неудобств и опасностей войны… А с одними казаками, что запорожскими, что донскими, на регулярное войско Бориса Федоровича наступать не приходится. Иное дело – немцы-мушкетеры, иное дело – закованная в железо рыцарская польская конница… Забавно все-таки, что в его жизни есть и панна Марина, которой он много чего наобещал, и такая вот Анфиска, которой от него многого и не нужно. А если припомнить птолемееву систему, то бабы крутятся вокруг него, словно планеты вокруг Земли: панна Марина где-то далеко, за хрустальной сферой, как некая Сатурналия, а Анфиска совсем близко, и в сфере вовсе не хрустальной, а грубого стекла, да еще сальными пальцами залапанной…
– А ты не спишь, надежа-государь?
– Рассказывай, красавица, ведь обещала…
– По-разному говорили про тебя, когда еще в заграничных палестинах скитался, и сейчас, когда явился ты в Московскую державу во всей силе своей… Право, не знаю, с чего начать, надежа-государь.
– А ты поведай, Анфиска, что более на сказку похоже…
– Ой, да вся твоя история настоящая сказка!
Загадочный юноша улыбнулся. Сам он свою жизненную историю назвал бы не волшебной сказкой, а жалостной песнею об одиноком молодце, умирающем в чистом поле между трех дорог. До недавнего времени назвал бы. А теперь – разве сам он не сказку творит? Вон оставил пышной Марине заручную запись, по которой обязался не посягать на ее католическую веру и отдать ей в полное владение Великий Новгород и Псков, причем она сможет сохранить эти города за собой даже в случае неплодия. Это кроме огромных денег, а также алмазов и прочих драгоценных камней. Неужели не поняли заносчивая девчонка и ее веселый папаша, что обещанное – это вроде сказочных трех царств, золотого, серебряного и медного? Талеров и злотых он отсыплет ей щедро, а также драгоценных камней, если не растратил Борис эту казну, закупая хлеб для простонародья в голодные годы. А вот Великий Новгород и Псков… Жалким дурачком он был бы, если бы отдал вздорной полячке русские города с богатейшими землями, присоединить и удержать которые прежним московским государям удалось только великой кровью…
– И тебя неправдивый царь Бориска, обманом севший на царство, ненавидел как настоящего государя, единственного живого сына государя царя и великого князя Ивана Васильевича. И сослал он тебя вместе с малым двором твоим в Углич…
Державный юноша ухмыльнулся. Пока что Анфиска говорит сущую правду. Но он не помнит тех событий, ему тогда и трех лет не было… И в том случае, если на самом деле он есть чудесно спасшийся московский царевич, и если даже и кто иной (об этой возможности – молчок!), человек не может помнить того, что происходило с ним во младенчестве.
– А потом, когда царик Бориска решил убить тебя, чтобы не иметь в будущие времена соперника, то сначала посылал он к тебе отравителей, а потом женку-чаровницу, чтобы тебя испортила. Но рядом с тобою был верный твой дядька, и он все царевы козни… как это?.. Да ладно, скажу я по-простому: похеривал он все Борискины козни.
Странное дело, подумал таинственный юноша, теперь многие уверены в том, что Борис Годунов желал его смерти. Да откуда им знать? Ведь едва ли всевластный царский шурин, твердо и уверенно правивший вместо слабоумного Федора Иоанновича, рассказывал направо и налево о таких предосудительных своих желаниях. Борис для того слишком умен и расчетлив. И что бы о нем ни говорили, это ловкий делец и – пока еще – весьма удачливый. Захотел бы отравить мальца-царевича, так отравил бы. Все слухи одни, все людская молва… Хотя, когда он уже объявил себя, о неудачных попытках извести царевича Димитрия напоминали ему очень многие люди, в том числе достаточно осведомленные.
– И тогда Бориска послал к тебе убийц. Они приехали в Углич, однако не удержали языков, и слух о том, что тебя, невинное дитятко, намереваются смерти предать, дошел до матери твоей, царицы Марии, и до твоего верного дядьки. А они уже давно подготовили подмену – мальчика-сиротку, которого тайно передали на воспитание одной просвирне. А он был на тебя очень похож, только немного придурковатый. И вот они приводят тебя тоже тайно к той просвирне, а там надевают рубище мальчика на тебя, а его в твои шитые золотом одежды. Оставляют тебя у просвирни, а сами возвращаются с мальчиком во дворец. Накормили бедняжку по-царски и свели во двор поиграть. А тут как раз прибежали посланные Бориской убийцы и, словно лютые звери, бросились на мальчика и зарезали его. Кто-то из угличан ударил в вечевой колокол, сбежался народ и разорвал убийц на месте…
Почему никто не думает о том, что и мальчик, убитый вместо царевича, тоже был невинным дитятей, имел бессмертную душу и такое же право на жизнь, как и царевич? А за что убили тогда его, царевича, няньку и ее сына? Ладно, пусть ее сын и племянник дьяка Данилки Битяговского, присланного в Углич Бориской, были убийцы. Однако в любом случае розыск показал, что на горле мертвого царевича была одна-единственная рана. Не были ли нянька и ее сын убиты для того, чтобы не выдали тайны подмены? Розыск вели окольничий Клешнин и боярин князь Василий Иванович Шуйский, из Рюриковичей, быть может, самый родовитый из московских бояр. Они доложили Бориске, что царевич играл в детскую игру «тычку», или «ножичек», с другими детьми. Как раз тогда, когда он должен был бросить ножик от своего горла, чтобы тот воткнулся в землю, с царевичем случился припадок падучей болезни, и он сам нечаянно зарезался. Вот так. Если окольничий и боярин соврали в главном, то они не с потолка же взяли, что царевич любил эту игру или что он болел падучею болезнью? А у некрасивого юноши никогда не было приступов падучей, ему ли не знать. И хотя, пока не отдал его названый отец в иезуитскую школу, он, как и всякий русский мальчик, носил на поясе ножик, как раз играть в «тычку» никогда не любил…
Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?