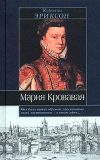Текст книги "Ловушка горше смерти"

Автор книги: Светлана Климова
Жанр: Остросюжетные любовные романы, Любовные романы
Возрастные ограничения: +18
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 1 (всего у книги 23 страниц) [доступный отрывок для чтения: 6 страниц]
Светлана КЛИМОВА и Андрей КЛИМОВ
ЛОВУШКА ГОРШЕ СМЕРТИ
Алисе
Часть первая
Мальчик
Самым страшным воспоминанием детства был для мальчика день, когда мама, приведя его из школы, толкнула незапертую входную дверь квартиры, безмолвной, словно глубокая пещера, и удивленно-нетерпеливой скороговоркой произнесла:
– Иди сними пальто, я забыла купить хлеба…
Дверь захлопнулась, и он остался один в доме. Тишина мальчика не пугала, он привык к ней за семь лет своей одинокой жизни; позже, когда у него родилась сестра, он догадался, что на детей вообще никто не обращает внимания – взрослая жизнь бурно плещется сама по себе, а ты, будто в шапке-невидимке, сидишь и наблюдаешь за ней.
Ему ничего больше не оставалось, как привычно забиться в угол короткого диванчика (он спал на нем в комнате бабушки Марии Владимировны), так и не сняв школьной курточки, ботинок, пальто и синего берета. Ранец он опустил на пол.
Еще не наступило время обеда, но в их полуподвальной квартире словно застыли вечные сумерки – свет тут должен был гореть с утра до вечера. Когда входная дверь, тяжело скрипнув, открылась, он замер от неожиданности и почувствовал, как сердце его застучало быстрее. Но это была не мама.
В комнату, натыкаясь на стулья, вошла бабушка Маша и как была, в плаще и зеленой потертой шляпке, издав горлом хриплый короткий волчий вой, повалилась – обутая – на постель.
До ее железной высокой кровати лежал, наверное, километр страха, но мальчик все-таки преодолел этот путь, потому что то, к чему он осторожно приближался, напугало его до бесстрашия.
Он подошел к кровати и пересохшим маленьким ртом громко сказал:
– Сними туфли, Манечка!
А она, встрепенувшись, снова взвыла и прижала его, притянув к своему полному бедру в плаще, пахнущем пыльной улицей, нафталином и хозяйственной сумкой.
– У-у, – всхлипнула она, – принеси мне воды, Ванюша! Мальчик пошел на кухню, которую любил больше всего в доме, налил из кувшина в стакан кипяченой воды и отнес.
– Теперь уйди, – сказала бабушка. – Пожалуйста.
Мальчик с готовностью покинул ее, снял свое пальто, залитое водой, потому что, пока он нес до краев полный стакан, руки его дрожали и часть содержимого выплеснулась на живот. Поверх пальто он повесил берет, под ними поставил ботинки и в одних носках вернулся в комнату. Бабушка неподвижно лежала на спине, по-прежнему в плаще. Крепкие ноги ее в простых темных чулках, обутые в старые туфли, напоминали две выброшенные пустые бутылки – на бледно-розовом, вчера только отглаженном марселевом покрывале.
Он замер в своем углу на диванчике.
Тихо было до невозможности. Мальчик боялся даже глубоко дышать. Но не из страха, который исчез без следа, а скорее по привычке, образовавшейся в те долгие времена, когда они жили вдвоем, никогда вечерами не мешать Манечке засыпать. Ибо засыпала она трудно, и одним из условий их совместного существования было – не мешать уснуть. Еще она задыхалась при быстрой ходьбе, поэтому он усвоил, что не нужно прыгать, бегать и спешить куда-либо. А громко говорить или смеяться мальчик как-то не привык, потому что при любом резком звуке бабушка обмирала и бледнела.
Он хотел шепотом крикнуть матери, вошедшей бесшумной своей легкой походкой в комнату: «Не буди, Маня заснула…», но не успел, так как она уже стояла у кровати.
– Что происходит, мама? Почему ты лежишь в постели одетая?
– Я умираю, – сказала Манечка совершенно отчетливо. – И мне страшно…
– Что за глупости? – Низкий голос молодой женщины прозвучал слегка раздраженно. – Опять эта твоя мнительность! Сними плащ, вставай, пора обедать.
Манечка издала каркающий смешок.
– Дай руку, – сказала она, – сейчас расстегну… Не дергайся, Полина, я не чумная. Все так просто – врач мне показал еще в прошлый раз. Вот здесь – пробуй, не бойся – опухоль величиной с орех. А-а, в том-то и дело… И уже все поздно…
– Нет, – сказала мама, и мальчик содрогнулся глубине отчаяния, прозвучавшего в этом коротком слове. – Нет. Нет. Нет. Мы поедем в Москву, нам поможет Валентин Александрович.
– Никто мне уже не поможет, – возразила Манечка так тихо, что мальчик едва расслышал ее в своем углу. А то, что громко и отчетливо она произнесла затем, он так и не понял тогда:
– Живешь, мучаешься, надеешься, и в один миг – ничего нет…
Бабушка умерла весной, но к тому времени в доме уже жил отец мальчика.
Появление этого человека несколько озадачило Ивана, потому что со словом «отец» он вначале связал другого мужчину, который посетил их подвал в январе, когда у мальчика были первые каникулы и к Новому году Маня испекла последние в своей жизни пироги.
Он, по обыкновению, сидел, поджав ноги в цветных шерстяных носках, на своем диванчике, а на улице мело и слегка завывало. Бабушка жила теперь в маминой комнате в конце узкого и высокого коридора, а здесь, в их комнате побольше, прямо напротив кухни, ничего не изменилось, кроме места для сна. Маня переехала вместе со своей периной, выкрашенной масляной краской кроватью с черными шарами, потертым ковром и тремя подушками, ею же набитыми пером, а мама перетащила сюда свой жесткий и холодный диван.
Он хорошо помнил, как увидел на кухне зарезанных кур, которых привезла из деревни в мешке Мария Владимировна. Ему было года три, и он с бесстрашным любопытством глядел на их уродливо свернутые щей и подернутые фиолетовой пленкой глаза на маленьких головках. Маня сидела на полу, на расстеленном брезентовом полотнище, и ловкими быстрыми пальцами ощипывала неживых птиц. В большой чугунной ванне, стоявшей у дальней стены, росла горка бледно-серого, пахнущего теплым пометом куриного пера. Пух слегка разлетался от дыхания Манечки, и позже его можно было обнаружить прилипшим к шершавым кирпичам, на которых стояла ванна… Мальчик, брезгливо относившийся к чужеродным запахам, так и не пересек порога кухни, где, напевая под нос и задыхаясь от пуха, ворожила бабушка. Рядом с ним, с ужасом глядя на уже ощипанных, до неприличия голых птиц, застыл кот Маркиз, живший с ними уже более года, но вскоре исчезнувший неизвестно куда…
Все подушки в доме были набиты этим пером, так похожим на летящий с неба снег, который именно сейчас шел за их наглухо зашторенным окном, уходящим до половины в промерзлую землю. На одну из этих подушек он и попробовал улечься с книжкой, когда в дверь позвонили.
Мама, взметнув в удивлении бровь, пошла открывать, потому что во второй половине дня Манечка уже не вставала со своего «крейсера» – так она звала кровать – до утра. Мальчик прислушался к скрипу невысокого заборчика под их окном, отделявшего палисадник перед домом от пешеходной части улицы. Горел только ночник над его софой, освещая плотные страницы большой синей книги о дяде Степе, которую ему положила Манечка под елку; в третий раз он собирался перечесть эти глупые стихи, чтобы понять, о чем там все-таки речь. Спросить разъяснения у матери не рискнул – у нее был еще тот характер. Вот и сейчас она сразу же, войдя в комнату и включив верхний неяркий свет, произнесла ужасные слова. Лампочка замигала и голо замерла под далеким потолком. Мать сказала, чтобы он шел в комнату к бабушке.
– Можно я не пойду? – осторожно спросил мальчик, во все глаза разглядывая большого мужчину за ее спиной.
На высоко подбритых висках мужчины истаивали последние снежинки.
– Ты сейчас же отправляешься в комнату к бабушке! – повысила голос мама, беря сигарету со стола подрагивающей рукой.
– Значит, вот какой у нас мальчик! – произнес мужчина, с любопытством разглядывая Ивана. – И ему уже семь лет, по-моему?
– Это мой сын, – раздраженно сказала мама. – Иван, ты что, не слышишь меня?
– Линочка, – сказал мальчик, – позволь мне остаться, Маня спит и так стонет. Там даже негде сесть, кроме ее кровати. – И примирительно добавил:
– Я не буду вам мешать.
Мать, как бы сразу потеряв ко всему интерес, села за стол, чиркнула спичкой и, вздернув подбородок, взглядом пригласила мужчину расположиться напротив. Мужчина мог поместиться за столом только спиной к мальчику, что он и сделал, оглянувшись еще раз на угол, где за книгой виднелась огненно-рыжая кудрявая макушка.
Мальчик читал, беззвучно шевеля губами, но голоса в комнате звучали помимо его желания ничего не слышать.
– Ты ведь раньше не курила, Лина?
– Теперь курю.
– Я долго вас искал, вернее, Марию Владимировну. Мама без интонации произнесла:
– Она вскоре уехала сюда, в Харьков.
– Почему?
– Ну, вы же знаете мою мать. С ее принципами и чувством стыда перед всем человечеством… Какие-то давние Друзья помогли ей устроиться дворником и получить жилье. В доме, где было несколько пустующих подвалов. Она выбрала один, посуше, и, пока я не вернулась, соорудила вот эту квартиру из двух комнат и кухни. Здесь есть еще одно помещение – при желании можно сделать и третью.
– А когда ты вернулась?
– Два года назад.
– Ты работаешь?
– Кому я нужна" – сказала мама, – так, помогаю чем могу…
Мальчик с опаской выглянул из-за книги. Он видел край стола, покрытого полотняной, в крупную клетку, уже несколько несвежей скатертью, тяжелую спину мужчины в отлично скроенном твидовом пиджаке и ломкую фигуру матери, очерченную тенью на противоположной стене. Сколько он себя помнил, в доме вечно что-то двигалось, строилось, гремело, замирая лишь на короткое время, пока окончательно не остановилось с приездом мамы. Но и потом Манечка была вечно занята – она брала белье в стирку, и тогда часами на газовой плите что-то кипело в огромной выварке, а ванна была до краев заполнена мокнущими простынями…
Во дворе дома, куда можно было попасть через окно на кухне, он сторожил выстиранное и развешанное белье, сидя у оштукатуренной «под шубу» стены на низкой складной табуретке – когда было тепло; в непогоду же белье развешивалось в доме, и тогда повсюду пахло серым мылом, едким отбеливателем, подвальной сыростью и еще чем-то, что мальчик позже определил для себя как «чужую жизнь».
У него не было сил и умения перетряхивать и растягивать крест-накрест шуршащее белье, как делали Манечка и мама, но, преисполненный тайной значительности, он относил стопки сложенного перед глажкой в комнату, громоздя их на стуле…
Мужчина обернулся и встретился с ним взглядом. Взгляд был внимательный и печальный, и в мальчике шевельнулось слово «папа». От немыслимой надежды, что мать признает отцовство гостя, и опасения, что его самого она снова попытается выгнать из комнаты, он спрятал лицо за книгой. Однако Лина ничего не почувствовала и не заметила, как бы напрочь забыв о присутствии сына.
– Как вы нашли нас, Дмитрий Константинович?
– Это не важно. Лина, на кого похож Ванечка? По-моему…
– На бабушку Машу, – перебила мужчину мама. Мальчик в страхе сжался, боясь, что теперь-то она обязательно обратит на него внимание и выставит вон.
Но мамин голос насмешливо продолжал:
– Мой сын вылитая моя мать: круглый, пухлый, светловолосый и страшно упрямый. Она в нем души не чает…
– Да, – сказал Дмитрий Константинович, – на тебя-то он мало похож… Ну что же, я, собственно, прибыл по делу и сегодня возвращаюсь в Москву. Ты всегда была, как бы это поточнее выразиться, несколько угловата в общении, а теперь особенно, так что разговора задушевного у нас не получается…
– А вы предполагали, что я вам на грудь с рыданиями брошусь?
– Упаси Господь, где уж нам на такое надеяться… Я просто полагал, что по прошествии стольких лет, для тебя таких тяжелых, ты будешь помягче к своим старым друзьям и пооткровеннее.
– К друзьям? Вы, Дмитрий Константинович, были моим адвокатом, а дружили мы очень-очень давно, в прошлой жизни.
– Жизнь одна, Лина. Хорошо, пусть будет адвокат. Ты сама облегчаешь мне задачу, ведь я был не только твоим адвокатом. Поэтому перейдем непосредственно к делу. Я привез тебе деньги – пять тысяч долларов, которые ты получишь на основании одного из документов, имеющихся в моем портфеле, дав взамен расписку о получении. Ясно излагаю?
– Да.
– Второе. Мне нет дела, как ты распорядишься этими деньгами: они твои.
Но у меня имеется нечто, непосредственно касающееся твоего сына. Я обязан до истечения восемнадцати лет с момента его рождения выплачивать тебе ежегодно по тысяче долларов на его воспитание и образование…
– Мне не нужно этих денег, – сказала мать. Мужчина быстро оглянулся на диванчик и, понизив голос, проговорил:
– А меня не интересует, как ты к этому относишься. Я связан, ты слышишь – связан не только обязательствами, но и Другими, более сильными чувствами по отношению к этому Ребенку. Поэтому ты откроешь счет в банке, я скажу в каком, и сообщишь мне реквизиты. Туда тебе переведут еще семь тысяч, а затем ты будешь получать в начале каждого года те деньги, которые по завещанию должны пойти на содержание ребенка. Ты любишь своего сына, Лина?
– Вы что, с ума сошли? – громко сказала женщина, и мальчик втиснулся в мягкую подушку и закрыл глаза, умоляя неведомо кого отвести ее гнев от этого мужчины и от него самого.
– Не горячись, – усталым голосом произнес мужчина, – что-то у меня сегодня с тобой ничего не получается. Дело в том, что на какое-то время я уеду.
За границу. По делу. Через год вернусь. Перед отъездом я прослежу, чтобы тебе перевели деньги. Купи мальчику одежду, игрушки, книги, наконец… Купи пианино.
Займись им, возьми преподавателя иностранного языка…
– Зачем? – У мамы был каменный голос.
– Затем, что так надо и так хотел тот, кто…
– Я сама знаю, что надо.
– Бог с вами, Полина Андреевна, – несколько раздраженно произнес мужчина. – Извини меня, я понимаю, что появился внезапно и ты была не готова к такому разговору… А где твоя мама?
– Она нездорова.
– Что случилось? Мария Владимировна…
– У нее рак груди.
– Прости, – сказал мужчина. – Она помнит меня?
– Она прекрасно к вам относится, Дмитрий Константинович.
– И то легче, – смягчая иронией напряжение, повисшее в комнате, проговорил мужчина, – передай ей мой поклон…
– Да, – сказала женщина, как бы останавливая его голос. – Непременно передам.
Мальчик не запомнил, как мужчина покинул их дом, – он был слишком обеспокоен состоянием матери, которая, возвратилась в комнату, швырнула что-то на стол, закурила новую сигарету и метнулась на кухню – и все это не глядя в его сторону, словно он внезапно стал неодушевленным предметом.
Но все это длилось только несколько минут. В кухне что-то загремело, мать вошла в комнату, нет, вбежала, оставив дверь распахнутой, и бросилась к мальчику. Он близко увидел ее мокрое от слез, несчастное, безумно красивое лицо и задохнулся от боли, когда женщина мучительно сильно обняла его.
Однако он запомнил, как она шептала, прижимая его к себе: «Ты мой, самый любимый, навсегда мой, не отдам, не отдам…», и хотя ему было нестерпимо жаль ее, плакать он себе запретил.
Он не плакал даже тогда, когда впервые в жизни увидел свою мать. К тому времени он довольно тщательно исследовал отведенное ему жизненное пространство и уже начал обустраиваться в нем. Там шел непрекращающийся ремонт, были руки, слова и запахи Манечки, а также котенок, которого он подобрал на предпоследней ступеньке лестницы, ведущей вниз к их двери. В три года он освоил счет – каждый раз, спускаясь по лестнице с ним за руку. Маня повторяла: «Будем, Ванюша, считать ступеньки. Их четырнадцать. Начали: одна, две, три, четыре…» Так что к пяти годам мальчик без особого напряжения помогал ей пересчитывать замусоленные, пахнущие ржавым железом бумажки, раскладываемые Маней на кучки:
«Один рубль, два… три… десять…» – в общем, простая арифметика; куда сложнее было успеть зафиксировать число крикливых ворон, летящих на городскую свалку, или густых молочных капель, сливающихся в тугую пенную струю, которую молочница Фрося направляла в Манечкин бидон из крана своей грязно-желтой железной «коровы».
Бочка молочницы стояла каждое утро наискось от их подъезда, около часовой мастерской, и всякий раз, когда они с Маней отправлялись за молоком, на узкой, мощенной булыжником проезжей части улицы строем стояли сонные курсанты военно-инженерного училища. Строй тянулся по направлению к учебному корпусу, что находился на проспекте. Мальчик слушал, как вразнобой гремят их тяжелые сапоги, и, благополучно дойдя до «четырнадцати», дальше всякий раз сбивался со счета: «шестнадцать… двадцать… один, два…»
Тот же путь проделывали каждое утро и тогда, когда появилась мама, – вплоть до дня переезда на новую квартиру…
Мама вернулась осенью.
Харьков в ту пору, на семидесятом году каменного стояния империи, вероятно, более, чем иные крупные города, напоминал запущенный заезжий двор, боком поставленный при большой дороге на юг. Летом он продувался пыльными ветрами, а ранней зимой и весной погружался в туманную дремоту, слякоть и грязь. Только короткая ранняя осень давала этому городу холодную прозрачность воздуха, чистые краски, темную голубизну неба. В одно такое почти морозное утро бабушка взяла мальчика с собой на вокзал.
Она была как бы не в себе – мальчик это заметил, несмотря на поглощенность предстоящим путешествием. Бабушка нервничала, поджидая трамвай, поглядывала на часики, то и дело теребила ворот своего давно вышедшего из моды широкого плаща. Одной рукой Манечка до боли сжимала его маленькую шершавую холодную ладонь, другой же то шарила по карманам в поисках носового платка, то подхватывала сползающую с плеча сумку, то вновь трясла кистью, сдвигая рукав и пытаясь усмотреть на часах точное время.
Наконец подполз нужный трамвай: полупустой, с немытыми окнами и сонным вагоновожатым. Они спешно погрузились через переднюю дверь, и мальчик сразу же сел к окну. Трамвай вздрогнул, мимо проплыло и пропало позади уродливое громадное здание Госпрома. Вагон еще раз вздрогнул, убыстряя бег, понесся по склону, резко свернул раз, еще раз и только затем размеренно и скучно поплелся к вокзалу.
Мальчик там был впервые. Однако ничего особенного, такого, чтобы запомнилось или заинтересовало, он не увидел. Теперь бабушка быстро вела его, крепко прижимая к боку, словно поклажу, мимо снующих по привокзальной площади людей. Дыхание его сбилось от быстрого шага и чужих запахов. Он не мог вздохнуть полной грудью, потому что чистый воздух кончился, как кончились золотые разлапистые листья на деревьях и прозрачное синее небо.
Однако еще более получаса им пришлось постоять на перроне. Он утомился считать вагоны и следить за лицами мечущихся туда-сюда людей. Под ногами был заплеванный мерзкий асфальт, несло гарью.
– Манечка, чего мы ждем? – спросил он наконец недовольно. – Я домой хочу.
– Ангел мой, – сказала бабушка, – мы ждем твою маму, но поезд что-то опаздывает, потерпи чуть-чуть…
Голос бабушки как-то не соответствовал возникшему в мальчике при слове «мама» волнению. И только вспомнив кое-что, он понял, в чем причина несоответствия. С такой же интонацией Манечка говорила с молодой соседкой, у которой муж был чернокожий. Дочь этой пары, иссиза-смуглая, глазастая, с пепельными губами и худыми нервными ногами, была его сверстницей.
– Как Ванечка себя чувствует? – елейным голоском запевала соседка, одновременно не давая своей кудрявой дочери приблизиться к мальчику.
– Нормально, – сквозь зубы отвечала бабушка Маня, глядя поверх ее сожженного перекисью перманента.
– Упитанный тем не менее, – ворковала дальше соседка. А мосластая вертлявая девчонка выкручивалась из материнских цепких рук, шипела и корчила рожи, будто ее поджаривали на углях.
– Почему это «тем не менее»? – отбросив дипломатию, спрашивала бабушка, теперь, в свою очередь, тоже как бы задвигая внука за спину.
– Я хотела сказать, что он не слишком рослый мальчик. Но все они в этом возрасте таковы. Ведь правда? Несмотря на то что мама у него высокая.
– Откуда вы знаете, вы же ее никогда не видели?
– Так говорят. – Соседка, понизив голос, заглядывала за бабушкино плечо, ища глазами мальчика и одновременно притискивая готовую впиться зубами в ее запястье девчонку. – А кстати, где сейчас ваша дочь? Что-то ее не видно…
– В тюрьме, – рубила Манечка, достаточно отчетливо для ушей любопытной соседки, но не настолько громко, чтобы это услышал мальчик. – Всего хорошего.
Ванюша, нам пора в магазин!
Мальчик, однако, разобрал это незнакомое для него словo, но, по неосознанной осторожности, к Манечке с расспросами не приставал. Это позже, годам к девяти, в нем появилась потребность кое в чем разобраться, и тогда он, напрягшись, попытался сложить мозаику своего безмолвного детства. Одной из картинок и была та, увиденная им на вокзале, когда оскаленная, облитая чем-то серо-черным морда тепловоза показалась совсем близко. Манечка при этом застыла столбом, забыв о мальчике, так что ему пришлось оттащить ее от края перрона к грязному боку газетной будки, чтобы гремящий зверь не зацепил ее.
Поезд застыл, дрогнув. Из его утробы начали вываливаться люди, которые волокли чемоданы, тюки и ящики, громоздя их на щербатом асфальте перрона. К ним бежали, толкаясь, другие; кроме того, вдоль поезда взад и вперед озабоченно прохаживались третьи. Это напомнило мальчику рынок, на который Манечка его как-то взяла с собой, и с тех пор он с опаской относился к любому большому скоплению народа.
Сейчас, чтобы не дать крикам, шуму и чужому возбуждению захватить его, он закрыл глаза. А когда открыл – перрон был пуст, Манечки же рядом не было.
Она стояла, маленькая и беспомощная, у облупленной тумбы фонтанчика, не источавшего ни капли воды. Навстречу медленно, с прямой спиной, неся в руке серо-зеленый рюкзак, шла высокая худая женщина в темно-синем платке, повязанном наподобие шлема. Даже издалека мальчик поразился синеве глаз этой женщины и ее неулыбающемуся ненакрашенному рту. Он подбежал к Манечке, обхватил ее руками и почувствовал, как она дрожит. Женщина опустила рюкзак в пыль и также обняла бабушку. Манечка затряслась так, что ему пришлось как бы и придержать ее слегка, чтобы не упала… Тут женщина, выгнув по-змеиному свою высокую шею, глянула на него сверху через Манечкино плечо, прямо ему в лицо брызнули слезы – и бот уже она сидит перед ним на корточках и гладит его плечи, волосы, щупает его спину, попку, коленки и шепчет: «Не хочу плакать, не буду, наконец-то, мой малыш…», а Манечка рыдает уже в полный голос…
К ним стали подходить какие-то люди, и женщина, подмяв его на руки, пошла к вокзальному тоннелю. Ее синий платок сбился на плечи, открыв коротко остриженные черные волосы, и вдавился ему в подбородок. Мальчик подвинул , губы ближе к щеке этой женщины – кожа была нежной, бархатистой, пахла грушей. Она сильнее прижала его к себе и побежала; позади с рюкзаком и своей сумкой, путаясь в длинном плаще, семенила запыхавшаяся Манечка…
Мама оказалась суровым человеком, но это как раз и понравилось ему больше всего:
– Как ты очерствела, Лина, – говорила ей с укором бабушка, – сына не приласкаешь, не погуляешь с ним, не почитаешь ему.
– Погуляешь тут, – отвечала мама. – В этой тьму-таракани скрыться негде от посторонних глаз, только выйдешь на улицу – тебя так и ощупывают с ног до головы. Щупачи… Ненавижу этот город… И зачем Ивану мои ласки – он и так знает, что я его люблю больше жизни, я продержалась эти пять лет только одной мыслью, что мы когда-нибудь будем вместе.
Они и были первое время вместе – до зимы, до весны, до лета. И так как она уже больше никуда не пропадала, он привык к ее внешней суровости и сдержанности, а также к ее отсутствию – мальчик, как и прежде, проводил большую часть времени вместе с Манечкой в этом чудном, не похожем ни на что доме…
В конце лета на кухне, допустим, солили огурцы. Вначале их привозили на тележке к подъезду из овощного полуподвального магазинчика, звавшегося «Дары осени». Затем бабушкин знакомый слесарь сносил их прямо в деревянных ящиках на кухню. Маня сваливала огурцы в кучу, а тару отправляла назад, в магазин. В это время мальчик должен был огурцы сортировать, то есть отбирать крупные и желтые, а небольшие огурчики бросать в ванну, полную холодной воды. Затем…
Затем на газовой плите грелась в двух больших кастрюлях вода, огурцы еще дважды промывались в ванне струей из шланга, а на полу выстраивались трехлитровые банки, в которые бабушка набивала пахучую жесткую траву, чеснок, еще что-то.
Затем… Он никогда не выдерживал до конца этих манипуляций – уходил спать. А Манечка допоздна гремела на кухне, которую поутру мальчик обнаруживал пустой и чистой, полной острого запаха рассола. Огурцы же в банках – строем стояли вдоль стены в темной маленькой комнатушке у входной двери, где никто никогда не жил…
Маня этими солеными огурцами впоследствии торговали на продуктовом рынке недалеко от стадиона «Пионер». на брала мальчика с собой, и эти походы относились к числу самых кошмарных эпизодов его детства. Одной рукой бабка волокла позади себя внука, поскольку тот ни за что не хотел с ней отправляться.
В другой, дрожащей от напряжения ее длани раскачивалось эмалированное ведро, до краев нагруженное огурцами в рассоле. Крышка погромыхивала в такт тяжелой поступи хозяйки, рассол выплескивался на асфальт. На рынке их поджидала соседка, не та, молодая, с дочерью-негритянкой, а другая, с третьего этажа, грузная и крикливая алкоголичка…
– К дьяволу эти твои огурцы! – сказала мама в конце лета. – Мне Ивана в школу подготовить надо.
– Линочка, у нас нет денег…
– К дьяволу! – повысила голос мама. – Думаешь, я не представляю, как все это происходило, как ты ругалась в магазине, как тащила ящики на себе, а потом с этим говном возилась, чтобы выгадать на базаре жалкие гроши… Ты ведь торгуешь поштучно! Поштучно?
– Не кричи, Лина, пожалуйста…
– А Ванька? Его небось мутит от этих твоих огурчиков… Дались они тебе… Ты ведь его с собой таскала торговать, таскала? – уже поспокойнее полуспросила мама.
– Какая же ты стала злая, Полина, – проговорила Манечка, – не я же виновата в том, что нам с Ванюшей именно так пришлось жить…
Мальчик в это время поспешно застегивал штанишки, чтобы в паузе их раздраженной перепалки незаметно выскользнуть из туалета и перебежать в свою комнату. Туалет находился тут же, в кухне, и улизнуть оттуда так, чтобы его не заметили, было делом нелегким. Покончив с пуговицами, он осторожно отодвинул ситцевую, в цветочек, занавеску и выглянул в стеклянное оконце, выходившее к газовой плите и злополучной огуречной ванне. Мама стояла спиной к столу, яростно уталкивая крутое тесто для вареников. Манечка почти полностью находилась в ванне – оттуда торчал только ее круглый зад, – отдраивала дно от ржавых пятен. Момент был подходящий, оставалось только бесшумно снять крючок и прыжком преодолеть обе наружные ступеньки, но тут Манечка выпрямилась как пружина и повернулась к маме. Мальчик понял, что они снова уставились друг на друга, так что проскочить незамеченным ему не удастся, – и замер.
– Да, да, ты не ослышалась, я иду на работу. Сколько можно? Больше года мы живем на твои деньги, но я не виновата, что меня никуда не брали в этом паршивом городе. Здесь у меня был один-единственный знакомый человек я его случайно встретила, и он…
– Случайно?
– А ты думаешь, бывает по-другому? Что я его специально искала? Мы познакомились еще шесть лет назад.
– В Москве?
– Мама, оставь этот сыскной тон! Ни в какой Москве он не бывал. Здесь, в этом Харькове, я работала два дня, тогда еще… В общем, давно, и познакомились с ним… А теперь мы встретились, у него тетя администратором в гостинице…
– Как называется?
– Не все ли равно! – вскрикнула мама. – «Интурист» называется. Это что, имеет значение для тебя?
– И кем ты намерена там работать?
– Горничной. О черт! Что ты на меня так уставилась? Ты полагаешь, что такая женщина, как я, да еще и недавно отсидевшая, может стать только проституткой? Или разливать пиво на вокзале? Ты за кого меня принимаешь, умная моя, ученая мамочка?
– Господь с тобой, Лина, – испуганно сказала бабушка Маня, – делай как знаешь… Погоди, деточка, куда же ты?..
Поняв, что нужный момент настал, потому что мама уже курит у себя в комнате, а бабушка так расстроена, что ничего вокруг себя не видит, он перепрыгнул ступеньки и, не выключая света, прошмыгнул мимо плачущей Манечки.
– Ваня! – раздался из маленькой комнаты мамин голос. – Куда ты запропастился?
Он чинно вошел. Мама курила, брезгливо держа сигарету в облепленных тестом пальцах.
– Ты где был?
– В комнате, книжку смотрел, – произнес мальчик, мысленно попросив прощения у того, кто сказал, что лгать – великий грех.
– Ты, что ли, умеешь читать?
– Давно уже, – ответил мальчик, – меня Маня в пять лет научила…
– Грамотеи, – буркнула мама, погасив окурок и вставая, – отлично. Ну а как насчет цифр? – – Считаю до двадцати…
– О Господи! – вздохнула мама. – Как подумаю, что ты пойдешь в эту школу, страшно становится. Я бы тебя всю жизнь при себе держала. Куда ты смотришь?
Прямо ему в лицо, глаза в глаза, смотрела огромная жаба, и такая она была живая и так близко, что мальчик застыл. Окно маминой комнаты находилось особенно глубоко в земле, оно было меньше соседних и почти всегда оставалось приоткрытым, так-то жаба восседала прямо перед щелью, образованной оконными створками. Мальчик видел даже, как она поеживается от тока прохладного воздуха.
Тварь была цвета мокрой пыли, с бугроватой кожей и смотрела на него влажным немигающим взглядом.
Он сразу же вспомнил, как когда-то давно впервые увидел здесь же точно такую жабу и криком позвал Манечку, поскольку не знал, что это такое за ним подглядывает. Тогда Маня его успокоила, сказав, что это обычная земляная жаба, которая ищет себе жилье на зиму, лягушка-квакушка, и что если ему это не нравится – она эту живность прогонит. «Вообще-то, – сказала тогда Манечка как бы в сторону, – существует поверье, что увидеть земляную жабу вот так – это к смерти, но в нашем случае все объяснимо: мы живем в подвале, где всякой твари хватает. Так что сейчас мы ее попросим попрыгать где-нибудь в другом месте».
Жабу изгнали, а зимой к Мане приехала племянница, тетя Тома, с крошечным ребенком, восьмимесячной девочкой. Тетя уехала от мужа из Ленинграда и прожила у них три недели, потому что девочка в поезде простудилась и умерла от воспаления легких…
– Лина, – сказал мальчик, – в народе говорят, что видеть земляную жабу – это к смерти.
– А ты не смотри, – произнесла мама, – ступай читай свои книжки.
Готовься в школу эту дурацкую. Иди, Ванька, что ты, лягушку в первый раз видел?
Некогда мне ею заниматься, у меня там вареники не долеплены… Иди. Ты вообще чересчур что-то любишь взрослые разговоры слушать, пойдем, я свет погашу – нету там больше никого за окном, нету…
Насчет разговоров она ошибалась. Были среди них такие которых мальчик слышать не мог, – так уж получалось. Уже более полугода он ходил в школу и теперь не полностью сосредоточивался на жизни в доме. Он стал живее подвижнее, но иногда так утомлялся, что мама установила для него жесткий режим: теперь к девяти вечера он уже засыпал, уложенный твердой рукой. Так что содержания одного разговора между бабушкой Манечкой и мамой он, естественно, никогда не узнал.
Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?