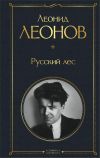Текст книги "Искушение"

Автор книги: Юрий Бондарев
Жанр: Современная русская литература, Современная проза
Возрастные ограничения: +12
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 19 (всего у книги 22 страниц) [доступный отрывок для чтения: 6 страниц]
Глава 22
Солнце клонилось к закату, качалось за вершинами шумящих на ветру лиственниц. К Чилиму шли в молчании по прогнившим насквозь настилам широкой, чернеющей старыми, еще крепкими домами улицы, до месива размытой дождями, разъезженной бульдозерами, из конца в конец изуродованной тракторными гусеницами; с пасмурным отсветом неба в наполненных водой колеях, с химической вонью навоза, сваленного около крылец, с дымящими кое-где на задах баньками.
За поселком мощно работали бульдозеры, то сбавляя треск двигателей, то густо соединяя его в сплошной накаленный рев. После разговора со следователем Дроздову не стало легче. Ему было душно и на свежем воздухе среди этой размолотой грязи, нелюдимо-мрачных домов, при виде замученного, собранного в кулачок личика Улыбышева, растерянно глядевшего за околицу, откуда доносился рев бульдозеров.
– Я прошу вас посмотреть, что они там делают, – бормотал он, близоруко моргая. – Работы идут, давно начаты, хотя ТЭО никто не утверждал. Никто.
– Давайте сначала посмотрим на реку, – сказала Валерия задумчиво. – Пойдемте на берег.
Солнце садилось по ту сторону Чилима, темно-тяжелого, студеного под осенним небом; свинцовый диск погружался, втягивался в рыхлую, вытянутую над тайгой, разваленную тучу, и предзакатный у того горного берега свет металлической полосой далеко лежал на воде так неприютно, немо, так чуждо, как будто неведомая злая земля начиналась там, связанная с этим поселком смертельным заговором. Необычно широк был Чилим и до тоски уныл и враждебен своей неоглядной водной пустынностью, чего раньше так жестоко не испытывал Дроздов ни на Енисее, ни на Оби, ни на Ангаре. С севера дуло перед вечером промозглой влагой, по берегу ходил сырой ветер, обдавал сладковато-горькой гнилью опавших листьев. И стало холодно от близкой пустыни воды, от гнилых запахов, от гула невидимых за деревьями слева моторов бульдозеров и от сумрачного и странного ощущения, что где-то здесь, в тайге, был убит Тарутин.
– Пойдемте в тайгу, я покажу вам, где они ведут дорогу к дебаркадеру, – продолжал бормотать Улыбышев. – А слева от дороги строят рабочий поселок. Я вам все покажу. Это преступление, самовольство. Они здесь как правители. Посмотрите на баржи. По воде уже подвозят и подвозят технику.
– Что за слюнтяйская чепуха! – выругался Дроздов, сбоку глянув на неласково темнеющий простор Чилима, на старый дебаркадер, где стояли мощные железные тела землечерпалок и подъемных кранов, выгруженных, видимо, на днях, и повторил с гневом: – Ерунда! Глупистика! Чепуха!..
– Вы о чем? Не верите разве? – испуганно вскрикнул Улыбышев.
– Вы свидетель преступления, а он следователь, и он навязывает вам, чего быть не могло! Идиотизм это или умышленный уход от истины, чтобы запутать дело! Почему вы так робки перед этим Чепцовым? Вы свидетель, а не он!..
– Я боюсь его… Я не смог, – залепетал Улыбышев, спотыкаясь на корневищах. – Вы знаете, он допрашивал меня так, как будто я убил Тарутина. Как будто я отравил его водкой, а он, пьяный, в костер упал…
– Вы чересчур многого боитесь! – выговорил без жалости Дроздов. – Вы боялись, когда видели, как эти подонки убивали Тарутина, вы боитесь и следователя! Простить вам не могу то, что вы не уложили этих подонков, когда все произошло! У вас ружье в руках было?
– Да.
– И на ваших глазах убили вашего друга? Так?
– Да.
– Так почему же вы не совершили акт справедливости?
– Игорь Мстиславович! – крикнул истонченным голосом Улыбышев. – Что я должен был сделать – убить их? Но я тоже был бы убийцей…
– Тряпка вы, Яшенька! – сказал Дроздов грубо и презрительно. – Нет, в архангелы с карающим мечом вы не годитесь! Предали учителя до третьего крика петуха. И еще распускаете слюни перед следователем. У него нет улик, доказательств, кроме вашего свидетельства, но он, видите ли, раскроет преступление, обвинив вас, слюнтяя, в отравлении Тарутина. Вы думаете, это трудно ему сделать? И вот вам: ваше слюнтяйство – и две жертвы, и начнут выкручивать вам руки за вашу же трусость! Отвратительны вы мне, мальчик, противны! Работать вместе с вами в тайге я бы не мог! Запомните: сейчас нужно только добро! Настало это время.
Евангельское непротивление злу покрылось архаичной пылью, милый мальчик! Вы еще не усвоили, что убийцы и балерун – не из кондитерского магазина!
– Игорь, остановись, ради бога! Ты очень резок!..
Они вошли в просеку, заполненную режущим звоном бензопил, грубым рокотом двигателей, – бульдозеры двигались и разворачивались в глубине трассы, тупо и упрямо сваливая молодые лиственницы по бокам просеки, вдоль которой трелевочные трактора тянули спиленные пихты, а справа и слева падали, ударялись о землю костры срезанных лиственниц, рассыпаясь искрами багряной хвои. Здесь, непрекращаясь, шли работы, должно быть, не первый месяц прокладывали трассу вблизи пристани к строящемуся среди тайги рабочему поселку.
«Это ничем уже не остановишь. Деньги отпущены, кто-то тайно отдал приказ, и механизм заработал. Судьба этого края решена. Обещание благ, каскады ГЭС с неокупаемой энергией. Переселение деревень, в том числе и Чилима. Затопление многих сотен километров тайги, гниющие водохранилища и постепенная гибель рыбы, воды и земли. Тарутин хотел оста-новить разрушение на Волге. Ничего не вышло. Волга превратилась в сточную канаву. „Остановись“? „Остановись“? Валерия только это сказала „остановись, ради бога!“ Почему так муторно, так тошно на душе?…»
– Остановись, ради бога, и не упрекай больше, – проговорила быстро Валерия. – Я тебя очень прошу. Ты ждал и хочешь от него жестокости? Это было бы еще хуже.
– Это был бы поступок.
– Неужели ты бы это сделал?
– Не задумываясь.
– И тебя посадили бы в тюрьму.
– Наверно, посадили бы, – согласился Дроздов, в эту секунду нисколько не сомневаясь, что выпустил бы в порыве справедливости возмездные заряды по тем двум убийцам Тарутина, что в бессилии не мог сделать его ученик.
– Не сходим ли мы с ума? Подожди, я хочу спросить тебя… – сказала Валерия, крепко взяв его за рукав. – Скажи, что мы можем сейчас сделать?
Улыбышев остановился за спиной Дроздова, тихо плача.
– Игорь Мстиславович, я клянусь…
– Вам нечем клясться.
Глава 23
Голоса гудели в спертом воздухе, табачный дым полз над столами, плыл, закручивался под потолком, обволакивая электрические лампочки, прикрытые плоскими ржавыми колпаками. Время от времени визжала пружиной, раздражающе бухала дверь, впуская и выпуская людей из переполненной чайной. Кто-то невидимый в дальнем углу пьяно пел со скуч-ной однообразностью, тянул одну и ту же фразу; «… а я люблю-у женатого-о», – и яро кричали буйными голосами хмельные парни за соседним столом; их слушала старуха, механически жевала кусочки хлеба беззубым ртом, осуждающе двигая мужскими бровями, а рядом в компании небритых мужчин, распахнувших плащи и телогрейки, возбужденно хохотала девица с бойкими глазами сороки; и вокруг проступали отдаленные чужие лица, потные, озабоченные едой, наклоненные над тарелками, над кружками пива, кислым духом которого пропахло здесь все – воздух, табачный дым, скатерти с желтыми пятнами, влажные котлеты, взятые по совету Улыбышева, сальные вилки, выскальзывающие из пальцев…
Дроздов видел и чувствовал эту тесноту чилимской чайной, запах пива, нечистой одежды, в уши толкались крики буйных парней, хаос голосов, хохоток кокетливой девицы, однотонное нытье пьяного в углу, а за всем этим шумом проходило перед ним бессмысленное, страшное, безысходное, что случилось здесь, в Чилиме, что протягивалось к Москве тоненькой паутинкой, имело какое-то зловещее отношение к нему, к той ночной встрече с Тарутиным, когда он сказал о необходимости заговора. Паутинка тянулась к скандальному вечеру у Чернышова, к той пропитанной эвкалиптом сауне, к Татарчуку, к негаданно приехавшему в «охотничий домик» Битвину. А он пока точно не увязывал, не соединял неразрывно одно с другим, но ненависть, которая окружала независимость и прямоту Тарутина, и не случайно повторяющиеся ночные звонки, шепелявый голос, дышавший оголенной угрозой, не опровергали окрепшее в нем подозрение, что тут есть связь, затянутый в Москве узел, ощутимый, как медленная удавка, как обложная охота («не для нее ли меня пригласили в „охотничий домик“?»). «Нет, смерть Григорьева, и гибель Тарутина, и ночные звонки имеют что-то общее». И, обдумывая гибель своего друга, он с твердой очевидностью приходил к выводу, что еще на похоронах Григорьева начали движение маховики многосильного и слаженного механизма распределения власти, где применялись чиновное заискивающее лукавство, ласковые обещания, угрозы, изобильная страсть оговора, мерзкого навета, липкими мокрицами выползшие отовсюду. И был пущен нужный кому-то слух о тяге Николая к самоубийству на почве алкоголизма, и, наконец, чудовищное предположение следователя об отравлении, и этот намек на участие в нем Улыбышева.
Невероятный намек походил на безумие, однако неопровержимо было то, что Тарутина окружало чрезмерно много скрытых и явных недоброжелателей, напитанных ядом, неумолимых во вражде, жестоких в злой радости и ревности к его никому не подчиняющейся позиции в жизни. И была зависть, превосходящая, как это часто бывает, и любовь, и ненависть. Но дело было вовсе не в зависти. Этот безвольный его ученик, мальчик, в страхе и умственном помрачении предал его у костра и мог, конечно, не раз предавать в Москве…
– С шестнадцати лет мечтаю пролетарием быть. И посейчас мечтаю. Очень, можно сказать.
«Кто это говорит? Ах, да, да. Он подсел к нашему столу, сказав нелепую фразу: „С антеллигенцией можно? А то местов нет“.
И Дроздов вернулся в гул, крики, запахи и тесноту чайной, сразу же отчетливо увидел напротив себя оплывшее морщинистое лицо средних лет человека в рабочей куртке, который неумеренно посыпал края пивной кружки солью, вожделенно отхлебывал, утоляя, по-видимому, сжигающую его жажду. Он говорил между жадными глотками пива, сдвигавшими его кадык на изношенной, прорезанной складками шее:
– Пролетарием быть – это не хухры-мухры, а жизнь, мечта, можно сказать, и достижения…
– И вы можете свою мечту объяснить? Как это быть сейчас пролетарием? – поинтересовалась Валерия и взглянула на Дроздова с осторожной тревогой.
«Зачем я ее взял с собой? Вот она сидит здесь, среди пьяных работяг, не стесняющихся выражений, и уже нет в ней ничего московского. Геологиня с серыми глазами. Она умеет собой владеть. Молодчина, милая».
– А как космонавты. Не дошло?
– Почему космонавты?
Морщинистый отпил пива, облизнул губы.
– А вот как, ежели не дошло. Они в такое-то время наблюдают, работают, в такое-то пищу принимают, в такое-то спят. Все у них, значит, по регламенту. Все у них ясно. Все у них казенное. Потому крепкое.
– А вы жизнь космонавтов знаете? – спросила Валерия серьезно. – Вы уверены, что космонавты именно так живут?
– Знаю не знаю – важности не имеет. А так у них должно быть. Все у них как у пролетариев.
– Так, да не так! Какая-то глупость! – неожиданно взорвался Улыбышев, до этого вяло ковырявший вилкой котлету, и обросшее личико его возмущенно взметнулось над тарелкой. – Вы думать самостоятельно не хотите, вот что! Мозгами своими пошевелить! Собственным мизинцем!..
– А для чего шевелить? Пусть другие стараются. У них для этого государственные головы дадены. А мизинцы у всех есть. Шевелим, когда команда есть. Не шуми, парень. Все одно пролетарием хочу. Мечта. Достижение жизни.
– Вы рабом хотите быть, роботом, – Улыбышев даже начал заикаться в негодовании. – Человеком кнопочного управления! Вот почему вы не хотите думать! Вот и здесь, на Чилиме, кедр вырубаете на сотнях тысяч гектаров, тайгу в мусор превращаете. Всех зверей истребили, браконьеры! Уже простой белки и глухарей нет. А сейчас без проекта начато строительство, которое всех вас, чилимских, прогонит с этих мест, а все тут затопит водохранилище, и ваш Чилим будет грязное, гнилое море, без рыбы, никому не нужное! А электроэнергия куда, вы думаете, пойдет? Не вам, не нам, а в Европу!..
«Да искренен ли Улыбышев? Растерян и разъярен. После унижения у Чепцова? Занятно…»
Морщинистый сузил запухшие глаза, потягивая пиво, затем поставил кружку на стол, с видимым удовольствием шумно выпустил ноздрями воздух.
– Все одно пролетарием я хочу. Так хорошо будет. Все казенное. Не твоя забота. Живи тихо, спокойно, хлеб жуй. А водохранилище – что ж? Море! Катера, теплоходы пойдут. На яхтах, газеты пишут, мы кататься будем. Зону отдыха в тайге откроем. На пляжах загорать, пивко попивать около водицы. Товары из центра завозить начнут, начальство обещает. А то жратвы нет, порток нет, как в берлоге амикан, лапу сосем… – И вдруг, встряхивая лихо локтями, морщинистый закричал разудалым голосом: – Что есть человеческая жизня – труд или отдых? Отдых. А зачем жить-то? Вкалывать? Мукота-а!
«Правда всегда кажется консервативной, скучной, – подумал Дроздов, не слушая, бессильно сожалея о бесполезном разговоре с Чепцовым. – А ложь всегда льстива, всегда умна и прогрессивна. Она прельстительная красавица. Она околдовывает… Она больше похожа на правду, чем сама правда…»
Что ж, Тарутин не был наделен терпеливой покорностью, какой обладало великое множество его коллег. Он поехал сюда, загодя готовый пройти и изучить Чилим до конца в своей убежденности, и лишь теперь, после его гибели, Дроздов особенно чувствовал состояние Николая в том ночном споре в его квартире, когда он сказал о единственном выходе – о необходимости заговора против преступной силы монополий, уничтожающих землю, воду и саму жизнь. И почему-то стояла перед глазами кричащая, хохочущая толпа, воспламеняемая академиком Козиным на вечере у Чернышова, где в последний раз Николай отдавал «старые долги» коллегам, и почему-то вспоминался незнакомо веселый взгляд его во время последнего разговора на бульваре перед отъездом, когда он совершил непростительную ошибку, взяв ссобой в командировку своего ненадежного ученика.
– Вы москвичи, что ль? Из столицы прибыли? Уезжайте отседова, пока целы! – послышался из сгущенного говора чайной жиденький голос морщинистого, и Дроздов увидел водянистый взгляд исподлобья. – Это не ваш ли алкаш в костре сгорел навроде шашлыка? Дал стружку москвич! Ловка-ач!..
– Пойдемте скорее отсюда! Я сейчас расплачусь, – раздался вскрик Улыбышева, и он с мучительной горячностью принялся рыться в карманах, доставая деньги, мятые трешки. – Этой клевете… этой гадости нет предела! Я не могу слушать! Я не хочу… Кто-то специально пустил слух, а люди верят, как дураки! Вы глупость говорите! – взвизгнул Улыбышев. – Откуда вы знаете? Что вы врете? Вы сами… вы алкаш, как видно!
– Это я-то вру? И это я алкаш? Я дурак? Ах, сволочь московская!..
Морщинистый жадно высосал остаток пива, кадык задвигался челноком посреди морщин на его горле, напоминавшем растрескавшуюся землю, а по усохшему бескровному лицу прошла судорога злобы.
– Ты что это лаешься, антеллигент собачий? – Он стукнул пустой кружкой о стол и, не выпуская кружку из жилистой руки, встал с яростной обрадованностью. – Ах ты блямба! Думаешь, ежели ты москвич дерьмовый, так у тебя право есть орать на рабочего человека? – угрожающе возвысил он голос и оглянулся в призывном бешенстве на ближние столики, за которыми шумели посетители чайной. – Гляди, ребята! – крикнул он. – Столичные к нам приехали и права качают, дураками, алкашами нас обзывают, вроде как тот, который спьяну в костер полез! Инспекция, видать! Инспектировать нас будет. От суки! Дармоеды! Оскорбляют рабочий народ! Издеваются!
За ближними столиками разом примолкли, старуха перестала жевать беззубым ртом, парни в телогрейках, похожие короткой стрижкой на недавних уголовников, прекратили буйный спор, глянули вопрошающе, один из них, круглоголовый, спросил с издевкой:
– Чего голосишь, сиротка, будто задницу бульдозером переехало? Кто тебя забидел? Гостей, гад, не уважаешь? Не видишь, рыло: среди гостей – классная женщина? – И круглоголовый, подчеркивая напускную вежливость, поблестел в сторону Валерии передним стальным зубом, после чего равнодушно посоветовал: – Извинись за грубость, бульдозер, перед женщиной и гостями, покажи, что не с медведями целуешься!
– Перед кем это извиняться! – закричал морщинистый, озлобленно стуча кружкой по столу. – Приехали из Москвы, а мы на задние лапки, что ли? Перед бабой извиняться? Это по какой причине? Королева, что ль? Или из артистов? Ха-ха, скаж-жи! Я на таких с прибором кладу! И фамилию не спрашиваю! Ишь, антеллигенты культурные, кровушку нашу сосете! Ха-а…
Он прервал задушенный смешок, продолжая громко постукивать пустой кружкой по столу, а плечи его конвульсивно ломало, корежило, как в припадочном танце.
«Больной он или играет припадочного?»
– И что дальше? – сказал Дроздов с веселостью в голосе, в то же время чувствуя душную волну в груди, горячую и неблагоразумно опасную, что бывало иногда с ним в минуты неосознанные. И он, не вставая, правой рукой охватил пляшущего плечами человека за жилистую руку, стискивающую кружку, с резкой силой дернул ее книзу, рывком усадил на стул, проговорил, отчетливо расставляя слова:
– Придется извиниться, молодой человек!
И, сдавливая ему кисть, отчего морщинистый ахнул, пустая кружка выскользнула из его пальцев, покатилась по столу, договорил ледяными губами:
– Иначе, уважаемый, я могу вывихнуть вам руку нечаянно…
«Кто я? И для чего это со мной? Умопомрачение!.. Доктор наук, прочитавший гору книг, и опохмеляющийся какой-то человек, неизвестный мне. Непростительно и смешно! – зазвенело проволочкой в его сознании. – А почему, собственно? И кто и во имя чего определил эти границы вежливого непротивления? Нет, просто погиб Тарутин, и я потерял равновесие. Я перестал владеть собой еще в кабинете следователя…»
– А-а, блямба московская! – рыдающе крикнул морщинистый, и в момент, когда, извиваясь, искорежив лицо, стал вырывать руку, силясь подняться, Дроздов толкнул его от стола, морщинистый не удержался на ногах, заваливаясь назад, упал спиной на ближний стол, где сидели буйные стриженые парни.
– А-а, мля!.. Убью-у курву! – захрипел припадочно морщинистый. – Размож-жу, в гроб!..
И, цепко схватив на краю стола бутылку с минеральной водой, держа ее перед грудью, как гранату, двинулся вдоль стены на Дроздова, который в эту секунду как бы увидел все со стороны: зашумевших и стихших за столом парней, настороженно-огромные глаза Валерии, омертвелое лицо Улыбышева, его разинутый для крика рот – и знакомое, жарко испытанное им в молодости чувство, узнанное когда-то в электричке при столкновении с унижением и оголенной силой, разрушительно и необратимо распрямилось в нем.
«Как сто лет назад… Как вместе с Юлией…»
– Мне еще не хватало подраться с фальшивым пролетарием, – еле внятно сказал Дроздов, призывая на помощь иронию, но мгновенно встал и вышел в проход меж стеной и столом. – Поставьте бутылку и уходите к чертовой матери! – прибавил он охлаждающе. – Так будет разумнее и лучше!
– Га-ад! Я тебе глаза… глаза вырежу! Изуродую, гад!.. – задохнулся воплем морщинистый и ударил бутылкой об стену, обрызгивая ее водой и осколками, шагнул в проходе к Дроздову, устрашающе выставив перед собой ножеобразные бутылочные острия. – Слепым я тебя сделаю, гад, мать твою в гроб!.. – выкрикивал морщинистый, приближаясь мелкими шагами.
«Значит, в родную Сибирь дошли способы и этой драки, – с горько-насмешливым пониманием мельком отпечаталось в сознании у Дроздова, и какая-то не подчиненная ему сила упредительно толкнула его навстречу этому нацеленному зазубренному орудию („Да откуда у незнакомого человека ко мне такая злоба!“) – и почти с непроизвольной решительностью он успел сверху вниз рубануть ребром ладони по запястью морщинистого, выбивая бутылку, и сейчас же не ударил („Пьян, он пьян!“), а лишь толкнул его в грудь, не рассчитав, однако, толчка, отчего морщинистый, запрокидываясь назад, опять повалился спиной на край стола, где пила водку компания стриженых парней. На столе попадали бутылки, и парни, вздымаясь, закричали дикими голосами: „Куда, алкаш, куда? Что творишь, харя?“ – и все выскочили в проход, зло подымая с пола морщинистого, а тот окровавленными пальцами хватая воздух, выборматывал комки жалких звуков:
– Избил… избил, курва… Ни за что избил… Что ж вы меня, ребята, не оборонили, а? Значит, вы меня московскому продали, а?… Милиция, участковый тут… позовите, ребята, участкового!..
– На чей хрен тебе участковый? – выругался круглоголовый парень. – Сам пер как трактор. Ну, и малость схлопотал, алкаш! А московский-то первый не лез. – И парень ободряюще и нагло подмигнул Дроздову. – Так что – квиты.
– Участкового!.. Избили меня… Московские избили!.. – голосил морщинистый, поднося к лицу измазанные кровью ладони. – Тут он, тут он… в чайной дежурит! В кровь меня, в кровь!.. Участкового сюда, ребята!
– А пошел ты, знаешь куда? – проговорил круглоголовый парень и увесисто хлопнул его по заду. – Иди, ищи, если ножки есть, пивная задница! А ну линяй отсюда!
Морщинистый, озверело оглядываясь, натыкаясь на столы, рванулся куда-то в недра чайной, по-прежнему разноголосо галдевшей в запахах еды, в табачном дыму; никто не проявил особого интереса к тому, что произошло у крайнего стола, только некоторые посмотрели отчужденно на окровавленное лицо морщинистого, потом искоса на Дроздова и снова наклонились к тарелкам.
«Пожалуй, как в Сицилии… В тайге появилось что-то новое. Но почему лицо и руки у него в крови? – с недоверием дрогнуло в груди Дроздова, и, еще не остывший после омерзительного столкновения, он сел за свой столик, уже без раскаяния сознавая, что иначе быть не могло: просто благоразумие изменило ему. Все было, конечно, рискованно в его положении. Но то, что окружало его в последнее время, лестное, соблазнительное, обволакивающее, где играло приторное и расчетливое желание постепенно приблизить, обманно поманить во всесильный стан, было теперь противоестественно, непереносимо отвратительно до тошноты. Он достал носовой платок и вытер пот со лба.
Кто-то кричал в середине столов надорванным басом:
– Всем желаю!
– Чего «желаю»? Извиняюсь…
– Кто чего хочет, того и желаю! Не извиняю! Слушай, что говорят старшие тебе!..
Чувствуя безмолвие за столом и в этом молчании тревожно коснувшийся его зрачков взгляд Валерии, он отпил глоток компота и сказал насильно спокойно, насколько возможно внушая ей, что ничего страшного не произошло:
– Здесь ничему не нужно удивляться. Знаешь сама. Здесь хороший тон – излишняя роскошь.
– Да, знаю. – Она положила руку на его рукав, с тихим усердием погладила. – Я с тобой, Игорь. Что бы ни было.
– Мы посидим еще немного. Так надо.
– Как живут? Темнота и дикость! Разве это люди? – заговорил Улыбышев, и его замученные отсырелые глаза отразили настигающую гибель. – Я ненавижу, презираю дикость, злобу!.. Эту ругань, мат. Эти драки! Почему столько жестокости в людях, Игорь Мстиславович? И вы… вы тоже умеете драться? Когда вы ударили его, у вас было такое лицо…
– Какое? – перебил Дроздов. – Не интеллигентное? Очень сожалею. Забыл про хороший тон, вежливую улыбку и слова «отнюдь» и «весьма».
– Я не хочу… я ненавижу человеческую злобу, – забормотал Улыбышев. – Так нельзя жить… мы все превратимся в зверей…
– Запоздалая ненависть, – недобро сказал Дроздов, отодвигая стакан с недопитым компотом, пахнущим плесенной затхлостью. – Ненависть хорошо пригодилась бы вам возле костра.
Улыбышев ослабленно поник, проговорил с робостью:
– Вы меня… простить не можете?
– Пожалуй.
Улыбышев мотнул отросшими волосами и, блуждая горящим взором безумного, заговорил горячо, покаянно, запинаясь от поспешности:
– Простите меня… Я виноват, я струсил, я достоин, достоин презрения… Я достоин…
И, сжав обеими руками горло, замычал, как под пыткой.
– Перестаньте, будьте мужчиной, – сердито сказала Валерия и, потеребив рукав Дроздова, показала бровями на столы. – Послушай, что говорят. Мне что-то не по себе.
С недалекого стола сквозь общий шум доходил причмокивающий голос беззубой старухи:
– Умер он, милая, три месяца назад. Похоронила я его. А потом березку у окна попросила срубить. Сижу, корочку жую, плачу, одна – в окно смотрю: может, Алешенька с кладбища домой идет. Чего ж ты смеешься, девушка? С какой такой радости?
– Обохохочешься! Это мертвый-то с кладбища? В белых тапочках? Заскок у тебя, бабка, зажилась ты, сбрендила! – звонко отозвалась девица с бойкими сорочьими глазами. – Дура ты, бабка! Из ума выжила!
– Май месяц – гремучий в тайге, люди говорили – грозы идут. Не сейчас, а раньше было. Сейчас и гроз никаких. Дожж сеет, как осенью. Как теперь вот. Всю природу перелопачили.
– А я т-тебе говорю, суп хорош, когда в нем свинья искупалась! – свирепо гудел кто-то в углу чайной. – А ты мне – гундишь: жри свинину! Резиновый сапог это, а не свинина! Я лучше стакашку опрокину заместо супа! Дерьмом вас на стройке кормят, а народ молчит, как умный.
– А русский народ испокон века безмолвствует. Потому дурак лопоухий. Ездят на нем, как на осле. После войны думали: наладится. А вышло: большой гвоздь в сумку. Воевали-то воевали, а ни хрена не завоевали!
– На пятую коммунистическую стройку приехал, а что проку? Все хужей и хужей. Ни жратвы, ни тряпок.
– Ежели б в тридцать четвертом году Сталин ушел в отставку, а Брежнев в семьдесят четвертом, то мы жили б – во как!
– Цыц, пятьдесят восьмая статья по тебе плачет! Ты тут сметану не разливай! А то по ушам – и на сковородку!
– А мне один хрен, где резиновый сапог жрать!
– Подождем официантку, расплатимся и уйдем, – сказал Дроздов. – Я устал. И мне тоже не по себе.
Он ощущал ласковую тяжесть ее руки, успокоительно лежавшей на рукаве его куртки, но уже тоска наплывала на него из гущи сплетенных криков, гама, из спертого воздуха, пропахшего нечистой одеждой, и он не мог перебороть сознание обмана, коварно совершенного перед всеми этими нетрезвыми и плохо выбритыми людьми, другими людьми, трезвыми и опрятными, обитающими в уютных, оснащенных кондиционерами кабинетах больших городов, в комфортабельных домах с охраной в просторных вестибюлях, с бесшумными скоростными лифтами в зеркалах, с заграничным кафелем и душистым мылом ванных комнат, озонаторами и, разумеется, горячей водой; совершенного обмана и людьми науки, сидящими в стеклянных небоскребах многих тысяч научно-исследовательских институтов с жирной оплатой и благами мощных ведомств, торжествующих в «охотничьих домиках», саунах, бассейнах и массажных, где обслуживают в невинных передничках девицы, выученные днем и ночью исполнять разнообразные желания гостей. Не Древний ли это Рим двадцатого века среди бедности?…
«Да, ложь, роковые проекты и обман всех, кто в этой чайной и кого я встречал на стройках и кому обещали все блага земные – электричество, дома, еду, благополучие. Что же мы дали им? Нищенское существование бродяг. Я тоже участник этой лжи и заговора против народа. На моих глазах происходило разрушение основ жизни: земли, воды, богатства. Тарутин вперед меня понял и возненавидел эту смертельную науку тайного кругового всесилия над людьми. Неужто я вот здесь, в чайной, молча отверз уста для истины? – И Дроздов усмехнулся своему запоздалому неверию, которое мучило его не первый день. – Избавиться от мелко, ничтожно, подло совершенной когда-то измены для того, чтобы теперь потерять легковесную надежду на спасение человечества технократами? И это моя гибель? Да, это так – кризис, крах…»
– Что за чудак этот пролетарий! Он идет сюда с милиционером, – сказала Валерия, слегка надавливая на запястье Дроздова. – Совсем уж странно. Ты видишь?
В тесном проходе между столиками суматошно спешил, суетился морщинистый человек, то просовываясь вперед милиционера, то пропуская его перед собой; неумытое лицо с полосами крови передергивалось, кукожилось в заискивающих гримасах, в искательном призыве сострадания, и выпучивались и юлили блеклые глаза. Лейтенант милиции, немолодой, крепкий, как грибок, шагал начальственной поступью, багровый от раздирающей рот зевоты, но его решительные губы каменно цепенели, и, скрывая муки зевоты, он пытался выкашлянуть воздух широким носом, отчего выступали слезы на веках. Видимо, за неимением происшествий лейтенант только что дремал где-то в задних комнатах чайной.
– Вот он! – крикнул морщинистый, тыкая измазанный засохшей кровью палец впереди милиционера. – Избил меня в кровь! Искровянил меня, сволочь! Набросился, как зверь! У меня свидетели есть, вот ребята со стройки сидят, видели, как он…
Шурша плащом, лейтенант милиции подошел к столу, натужным кашлем подавляя зевоту, и, уже исполненный непоколебимой официальной власти, упер взгляд в переносицу Дроздова, и тот почувствовал проникающий холодок его голоса:
– Прошу предъявить документы.
– Сделайте одолжение, – сказал Дроздов. – Садитесь, лейтенант. Вам, вероятно, придется составлять протокол. Я к вашим услугам.
Лейтенант взял паспорт и выразительно пощелкал корешком по ладони.
– Не тут, гражданин, не тут. Найдем место, где оформить. – Он обернулся к ближнему столу, где сидели стриженые парни. – Попросил бы кого-нибудь из вас пройти со мной как свидетеля избиения.
Парни глянули на лейтенанта, дурашливо осклабясь.
– А жена у него была наполовину дура, наполовину умная. Один дед в снохачах ходил… – изумленно сказал скороговоркой круглоголовый парень и, развлекаясь, загоготал. – От анекдот похабный, со смеху подохнешь!
– Ты, остриженный, памороки мне не забивай. Я говорю: свидетели пускай со мной пройдут, – командным тоном оборвал лейтенант. – Вот ты видел избиение гражданина Грачева?
– Я? Эх, начальник! – круглоголовый парень полоумно завел глаза под лоб. – Косой я на два уха. Как я увижу? Анекдоты рассказывали. «Подражни, подражни, говорит, котенка». – «А он же царапается». Эх, подначка ты подначка, все четыре колеса! «Вы, говорит, откуда, из Москвы?» «Москвич», – говорит. «А жена откуда?» – «Да тоже из Чилима. Бройлерные комары у нас. Сквозь резиновые сапоги кусают». Смешно до сшибачки! Ха-ха! Хе-хе!
– Дурака играешь? – выговорил лейтенант, с угрозой напруживая шею. – Мало тебе одного срока было? Вернулся – радуйся. А со мной ты в бильярд не играй. Я тебе не шарик. По-серьезному спрашиваю: кто видел действия хулиганства, прошу пройти со мной!
– А ну ж, ребята, вы же видели, как он меня уродовал! Да что ж вы? Я ж не чужой вам! – взмолился морщинистый, подскакивая к столу парней, затем кидаясь к столу, где склонились над тарелками беззубая старуха и бойкая девица с сорочьими глазами. – А вы, бабы, тоже ведь не слепые были! Меня, меня он бил. Меня, пьяного, бил, слабого бил! А ты, ты!.. – подтолкнул он в плечо девицу. – Ты что ж, столичным за мармелад продалась? Купили тебя?
Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?