Текст книги "Перебои в смерти"
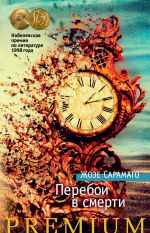
Автор книги: Жозе Сарамаго
Жанр: Современная зарубежная литература, Современная проза
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 10 (всего у книги 11 страниц) [доступный отрывок для чтения: 3 страниц]
Виолончелист взглянул на часы – время обеда давно прошло. Пес, который уже минут десять размышлял на эту же тему, сидел рядом с хозяином, положив ему голову на колено и терпеливо дожидаясь, когда тот вернется в этот мир. Неподалеку имеется ресторанчик, где можно получить сэндвич и тому подобную немудрящую и непритязательную снедь. Приходя по утрам в этот парк, виолончелист становится клиентом этого заведения и заказывает всякий раз одно и то же. Два сэндвича с тунцом под майонезом и бокал вина для себя, сэндвич со недожаренным мясом – для пса. Если погода благоприятствует – вот как сегодня, – они садятся на землю, в тени дерева, закусывают и ведут беседу. Пес, распотрошив сэндвич, самое вкусное приберегает на потом, сначала проглотив ломтики хлеба, и лишь затем, вдумчиво и неторопливо жуя, отдает должное сочному мясу. Виолончелист же ест рассеянно, размышляя о сюите ре мажор баха, о прелюдии, где есть один окаянный пассаж, на котором ему уже несколько раз случалось застревать в сомнениях и колебаниях, а это самое скверное, что может случиться в жизни музыканта. Покончив с едой, они растягиваются на траве: виолончелист ненадолго задремывает, а пес уснул минутой раньше. Потом проснулись, вернулись домой – и смерть с ними. Покуда пес бегал во дворик по большим собачьим делам, виолончелист поставил сюиту на пюпитр, открыл ее на этом заколдованном месте – ну просто дьявольское пианиссимо – и вновь впал в неумолимые сомнения. Смерти стало жалко его: Бедняга, все равно не успеет добиться желаемого, впрочем, как и все прочие люди: даже когда они подходят совсем близко, все равно остаются вдали. И тут впервые она обратила внимание, что во всем доме нет ни единого изображения женщины, если не считать портрета пожилой дамы, которая имела все основания приходиться виолончелисту матерью и была сфотографирована об руку с господином, который наверняка был его отцом.
* * *
У меня к тебе большая просьба, сказала смерть. Коса, по своему обыкновению, не ответила, а о том, что она слышала обращенные к ней слова, судить можно было лишь по чуть заметному подрагиванию, ставшему физическим выражением общего замешательства, ибо никогда еще уста ее владелицы не проранивали такие слова, как «просьба», да еще и большая. Неделю меня не будет, продолжала смерть, и мне нужно, чтобы ты отправляла мои письма, разумеется, я не прошу тебя их писать, нужно только отсылать, а для этого тебе придется отдать мысленный приказ, а потом какой-нибудь мыслью или чувством – все равно чем: лишь бы доказывало, что ты жива, – заставить задрожать лезвие, и этого достаточно, чтобы письма отправились по назначению. Коса хранила молчание, носившее, впрочем, оттенок вопросительный. Я не могу ходить туда-сюда, занимаясь почтой, я должна полностью сосредоточиться на решении проблемы виолончелиста и найти способ все-таки вручить ему это проклятое письмо. Коса молчала – теперь уже выжидательно. Смерть продолжила свою мысль: Вот я и придумала – сяду да разом и сочиню все письма за неделю, что пробуду в отсутствии, и позволяю себе это лишь в связи с чрезвычайными обстоятельствами, ну а на твою долю придется, как я сказала, лишь отправить их, тебе даже и выходить-то никуда не надо, и обрати внимание – я тебя прошу о дружеском одолжении, а ведь могла бы – и очень даже просто – приказать безо всяких, ибо если в последнее время я не пользовалась твоими услугами, это еще не значит, что ты больше не состоишь у меня в услужении. Молчание косы – на этот раз покорное – подтвердило последний тезис. Стало быть, договорились, заключила смерть, сегодня целый день буду сочинять письма, по моим подсчетам, должно получиться тысячи две с половиной, можешь себе представить, к концу работы буду без задних ног, и письма эти сложу на столе в восемь стопочек по дням, слева направо смотри не перепутай рассортировать их будет та еще морока не приведи бог если адресат получит причитающееся ему слишком рано или слишком поздно. Принято считать, что молчание – знак согласия. Коса молчала и, стало быть, не возражала. Запахнув свою простынку, сдвинув на затылок капюшон, чтоб не мешал, смерть уселась за работу. Много часов подряд писала, писала, писала: письма писала, конверты надписывала, а потом складывала, и вкладывала, и заклеивала, и кто-нибудь, пожалуй, вправе спросить, как ей это удавалось, если языка нет и неоткуда идти слюне, но так поступали в блаженно-кустарные времена, когда мы обитали в пещерах и модернизация еще только чуть брезжила, а ныне конверты снабжены такой хитрой бумажной полосочкой: отодрал ее – и готово дело, так что можно сказать, что одна из бесчисленных функций языка ушла в историю. К концу этой изнурительной работы смерть не осталась без задних ног потому только, что их у нее и прежде не имелось. Впрочем, это ведь только так говорится, и даже после того, как подобные выражения давным-давно утратили свой первоначальный смысл, мы продолжаем употреблять их. А смерть прощальным жестом заставила исчезнуть двести восемьдесят с чем-то сегодняшних писем, ибо лишь с завтрашнего дня предстояло косе вступить в должность почтового экспедитора, о чьих обязанностях было ей не так давно рассказано. Не произнеся ни единого слова на прощанье, смерть поднялась со стула, направилась к единственной в этом помещении двери – той узкой дверке, о которой мы столько раз упоминали, не имея ни малейшего представления о ее возможном предназначении, – открыла ее и, перешагнув порог, закрыла за собой. Столь сильно было испытанное косой чувство, что трепет прошел по всему ее лезвию до самого кончика, до острия. Никогда еще, сколько помнила себя коса, этой дверью не пользовались.
А время шло, и прошло его достаточно для того, чтобы родилось солнце – где-то там снаружи, за стенами этой белой холодной комнаты, где никогда не гаснут тусклые лампы, предназначенные вроде бы для того, чтобы отгонять тени от покойника, которому страшно было бы лежать в темноте. Однако время исполнить приказ смерти и выпустить на волю сегодняшнюю стопку писем еще не настало – можно еще немного поспать. Эти слова произносят обычно страдающие бессонницей, ночь напролет не смыкавшие глаз, но, бедолаги, считают они, будто смогут обмануть сон тем лишь, что попросят его прийти еще совсем на немножко, на чуть-чуть – его, и минутки покоя не даровавшего им. И коса, в полном одиночестве коротавшая все эти часы, искала объяснение тому беспримерному факту, что смерть воспользовалась дверью, которой с того мига, как прорубили ее, суждено было, казалось, оставаться до скончания века лишь декорацией. И в конце концов перестала ломать себе голову, рассудив, что рано или поздно выяснится все же, что́ за дверью этой происходит, ибо практически невозможны тайны между смертью и косой, точно так же, как между серпом и рукой, его сжимающей. И долго ждать не пришлось. Половину круга обежала минутная стрелка, и вот дверь отворилась, и в дверном проеме возникла женщина. Коса слыхала, что такое бывает, что смерть иногда принимает облик человека, обычно – женщины, исходя, должно быть, из грамматической однородности рода, но всегда считала это всего лишь выдумками, легендами, так сказать, и мифами, вроде того феникса, который возрождается из собственного пепла, или барона мюнхгаузена, который самого себя с конем в придачу вытянул за волосы из болота, или дракулы трансильванского, которого, сколько ни убивай, не убьешь, пока не вонзишь ему в сердце осиновый кол, да и то, говорят, не всегда помогает, или знаменитого камня из ирландского поверья, который кричал, когда дотрагивался до него истинный, а не мнимый король, или того эпирского источника, который гасил горящие факелы и воспламенял незажженные[27]27
По словам римского писателя Плиния Старшего (23/24–79), вода эпирского источника имела чудесное свойство зажигать погруженные в нее погасшие факелы, хотя горящие факелы при погружении в нее гасли, как в обыкновенной воде («Естественная история», II, 228).
[Закрыть], или тех женщин, которые менструальной кровью кропили возделанные поля в рассуждении повысить урожайность, или муравьев размером с собак и собак размерами с муравьев, или воскресение на третий день, ибо на второй его случиться не могло. Ты очень красива, заметила коса, и замечание это было более чем справедливо: смерть и в самом деле была очень красива и никак не старше тридцати шести-семи лет, как верно подсчитали антропологи. А-а, разверзла наконец уста, воскликнула смерть. Повод появился: не каждый день увидишь, как смерть превращается в существо враждебной ему породы. Иными словами – не потому, что ты пленилась моей красой. Отчасти и потому, но я заговорила бы даже в том случае, если бы мне, как и мосье марселю прусту, ты явилась в образе толстухи в черном. Я – не толстуха и не хожу в черном, а ты не имеешь ни малейшего понятия о том, кто такой марсель пруст. По совершенно очевидным причинам косы – и те, что предназначены косить людей, и те, что для травы, – не могут научиться читать, зато все мы – одни от травяного сока, а я вот от крови – одарены прекрасной памятью, и мне много раз приходилось слышать это имя, так что нетрудно было связать факты и уяснить себе, что это великий писатель, возможно, даже один из самых великих, какие когда-либо жили на свете, и формуляр его должен быть где-нибудь в архивах. Только не в моих, не я его убивала. Так он что же – не местный, этот мосье марсель пруст, удивилась коса. Нет, он из страны под названием франция, ответила смерть, и в голосе ее явственно слышалась печаль. Ну и что с того, что не ты его убила, пришла ей на помощь коса, не огорчайся, зато ты вон какая красивая. Я всегда знала, что ты – настоящий друг, но огорчаюсь я не из-за этого. А из-за чего. Не могу объяснить. Коса поглядела на нее несколько удивленно и сочла за лучшее заговорить о другом. А где же ты нашла все то, что на тебе надето. За этой дверью есть из чего выбрать: там нечто вроде магазина или огромной костюмерной, там сотни шкафов, сотни манекенов, тысячи вешалок. Своди меня как-нибудь, попросила коса. Что толку – ты ничего не понимаешь в стилях и модах. Да и ты, честно говоря, не сильно в этом разбираешься, сто́ит лишь взглянуть, как безвкусно подобраны разные части твоего наряда. Ты не выходишь из этой комнаты и потому не можешь знать, что сейчас носят. Тем не менее я вижу, что эта блуза очень похожа на те, какие носили в мое время. Мода – штука текучая, ходит по кругу, уйдет и вернется, а уж что я вижу на улицах, рассказать – не поверишь. Поверю даже без рассказа. И что же, по-твоему, блуза не подходит к этим брюкам и туфлям. Подходит, вынуждена была признать коса. А к этому берету, что у меня на голове. Тоже. А к этому кожаному жакету. Тоже. А к сумке на плече. Да я разве что говорю. А к серьгам, что у меня в ушах. Ладно, сдаюсь. Ну признайся – я неотразима. Это зависит от типа мужчины, которого ты намерена обольстить. Во всяком случае, тебе кажется, что я – хороша. Я ведь с этого начала. Ну, если так – прощай, вернусь в воскресенье, самое позднее – в понедельник, не забывай ежедневно отсылать письма, не думаю, что это такой уж тяжкий труд для той, кто круглые сутки стоит, приткнувшись к стене. Письмо-то не забыла, спросила коса, сделав вид, что не заметила насмешки. Здесь оно, ответила смерть, прикоснувшись к сумке кончиками тонких выхоленных пальцев, которые всякому бы захотелось поднести к губам.
И при свете дня смерть возникла на узкой, стиснутой слева и справа стенами улице на самой городской окраине. Не видно ни двери, ни ворот, через которые она могла бы выйти, нет никаких примет или знаков, по которым удалось бы восстановить дорогу, приведшую ее сюда из холодного подземелья. Солнце не слепит пустые глазницы, и по этой причине откопанным археологами черепам нет нужды щуриться в тот миг, когда внезапный свет бьет им в лицо, а счастливый ученый восклицает, что по всем признакам нашел неандертальца, хотя последующий осмотр непреложно докажет, что костные эти фрагменты складывались некогда в череп обыкновенного хомо сапиенса. Но смерть, сделавшаяся женщиной, достает из сумки темные очки и защищает ими свои человеческие глаза от офтальмии, более чем возможной у того, кто еще не привык к ослепительному сиянию летнего утра. Смерть поднимается по улице до того места, где кончаются стены и высятся первые дома. Здесь ей все знакомо: нет ни одного дома – сколько бы ни громоздилось их у нее перед глазами, сколько бы ни тянулось их до городской черты и до государственной границы – где бы ни побывала она хоть раз, и даже вон на ту стройку придется ей прийти через две недели, чтобы столкнуть с лесов беспечного каменщика, который не смотрел, куда ставит ногу. В подобных случаях принято говорить: Такова жизнь, – хотя выразились бы мы не в пример точнее и определеннее, сказавши: Такова смерть. Но эту садящуюся в такси барышню в темных очках мы не окрестим этим именем, скорее решим, что это сама жизнь, и, задыхаясь, пустимся за ней вдогонку и, если посчастливится схватить другое такси, скажем водителю: Вон за той машиной, – но это ничего не даст, потому что увозящее ее такси уже свернуло за угол и нет поблизости другого, к водителю которого смогли бы мы воззвать: Вон за той машиной. Так что теперь можно с полным правом и основанием сказать: Такова жизнь – и, покорствуя судьбе, пожать плечами. Впрочем, пусть послужит нам утешением хотя бы то обстоятельство, что на письме, лежащем у нее в сумочке, выведено не наше имя, указан не наш адрес и, стало быть, еще не пришел нам черед падать с лесов. Смерть меж тем и вопреки тому, что можно было бы предположить, велела таксисту ехать отнюдь не к дому виолончелиста, а к театру, где он служит. Не вызывает сомнений, что после цепи испытанных ею неудач намерена она действовать наверняка, но не считайте чистым и случайным совпадением, что начать она решила с превращения в женщину или, рассуждая в духе грамматическом, в тот род, который мы еще прежде сочли присущим в равной степени и женщине, и смерти, то есть женским. И несмотря на полнейшую свою неискушенность во внешней стороне бытия и особенно – в тех его разделах, где речь идет о чувствах, влечениях и искушениях, коса нашла – да нет же, не на камень, – а уместным попасть в самое яблочко, спросив смерть, к какому типу относится тот мужчина, которого та намеревается прельстить. Вот оно, ключевое слово – прельстить. Да, смерть могла бы прямиком направиться к дому виолончелиста, позвонить и, когда он откроет дверь, послать ему, одновременно сняв темные очки, очаровательную улыбку, а потом сказать, что распространяет подписку на энциклопедию, ибо эта старая и вечно юная уловка действует почти всегда безотказно, а дальше – одно из двух: либо он пригласит ее зайти, чтобы обсудить условия за чашечкой чая, либо скажет что-нибудь в том смысле, что нет, мол, спасибо, не нужно, и сделает поползновение закрыть дверь, смягчая отказ улыбкой деликатной и застенчивой: Вот если бы еще музыкальная – куда ни шло. В любом случае вручить письмо было бы легче легкого, но именно эта оскорбительная легкость не нравится смерти. Да, этот человек ее не знает, но ей-то он известен превосходно – она провела целую ночь в его жилище, она слышала его игру, а это, хочешь не хочешь, способствует установлению каких-то связей, кладет начало гармоничным отношениям, так что бухнуть с порога: Скоро умрешь, у тебя есть неделя на то, чтобы продать виолончель и отдать своего пса в хорошие руки, – было бы грубостью, неуместной в устах привлекательной женщины, в которую превратилась смерть. Нет, она замыслила другое.
Афиша, висящая у входа в театр, сообщает почтеннейшей публике, что на этой неделе состоятся два концерта национального симфонического оркестра: один – в четверг, то есть послезавтра, второй – в субботу. Будет совершенно естественно, если законное любопытство, неизбежно возникающее у того, кто с неослабевающим вниманием следит за нашим повествованием, не упуская самомалейших подробностей и ловя нас на противоречиях, упущениях, недоговоренностях и прочих грехах, побудит его настоятельно осведомиться, на какие шиши намеревается смерть приобрести билет, если не прошло еще и двух часов, как покинула она свое подземелье, где чего-то не видать было ни банкоматов, ни отделений банков. И раз уж выплыл любознательный читатель в открытое море вопросов, то непременно спросит он, с каких это пор таксисты не взимают плату с женщин в темных очках, с хорошей фигурой и приятной улыбкой. А мы, прежде чем злонамеренное предположение пустит корни, поспешим разъяснить, что смерть не только платила по счетчику, но не забывала и о чаевых. Если же вопрос происхождения денег продолжает будоражить воображение читателя, довольно будет сказать, что взялись они оттуда же, откуда и темные очки, то есть из сумки, ибо, насколько нам известно, нет такого закона, чтобы, раз уж одно взялось, другому и появиться нельзя. Зато очень даже может случиться так, что деньги, которыми смерть расплачивалась в такси и на которые собирается купить два билета на концерты, равно как и снять в ближайшие дни номер в гостинице, уже вышли из употребления. Не впервые случается нам ложиться в постель с одной монетой, а просыпаться – с другой. Будем все же надеяться, что деньги эти – настоящие и находятся под защитой действующего закона, а иначе, будучи хорошо осведомлены о том, сколь склонна смерть к талантливым мистификациям, можно было бы предположить, что таксист, не заметив обмана, получил бы от дамы в темных очках банкнот, не имеющий хождения в нашем мире или, по крайней мере, в наше время, – купюру с портретом, например, президента республики вместо знакомого изображения его величества. Кассы театра только что открылись, смерть входит, здоровается и просит два билета – на четверг и на субботу – в ложу, в первый ряд. Смерть настаивает, чтобы места на оба концерта были одни и те же и – главное, непременное условие – справа от сцены и как можно ближе к ней. Потом наудачу сунула руку в сумочку, вытащила бумажник, а из него – деньги и протянула их в окошечко, надеясь, что хватит. Кассирша отсчитала сдачу: Вот ваши билеты, сказала она, надеюсь, вам понравятся наши концерты, вы ведь никогда прежде у нас не бывали, я, по крайней мере, не припомню, чтобы раньше вас тут видела, а у меня редкостная память на лица, раз увижу – никогда не забуду, хотя, конечно, очки сильно меняют внешность, особенно если темные, вот как на вас. Смерть сняла очки: А теперь как. Нет, я уверена, что никогда вас не видела. Быть может, это оттого, что человек, который стоит перед вами, человек, которым я стала ныне, никогда не испытывал необходимости приобретать билеты на симфонические концерты, а несколько дней назад я имела удовольствие побывать на репетиции оркестра, и никто не заметил моего присутствия. Не понимаю. Напомните мне, и как-нибудь на днях я вам объясню. Когда. Когда-нибудь, когда ни будь этот день, но непременно он будет. Не пугайте меня. Смерть очаровательно улыбнулась и спросила: Скажите честно, вы считаете, что мой вид наводит страх. Да что вы такое говорите, я вовсе не это хотела сказать. Тогда следуйте моему примеру – улыбайтесь и думайте о приятном. Сезон продлится еще месяц. Какое отрадное известие, в таком случае мы наверняка еще увидимся на будущей неделе. Меня всегда можно здесь застать, у нас в театре я – уже что-то вроде мебели. Не беспокойтесь, отыщу, даже если на месте вас не окажется. Буду ждать. Отыщу непременно, и, помолчав немного, смерть осведомилась: А кстати, вы сами или кто из домашних не получали лилового письма. Письма смерти. Да, от смерти. Мы-то, слава богу, нет, а вот соседу нашему завтра выходит срок, уж он так убивается, что смотреть жалко. Что ж поделаешь, такова жизнь. Ваша правда, вздохнула кассирша, такова жизнь. К счастью, возле окошечка появились люди, а иначе неизвестно, куда и как далеко бы завел собеседников этот разговор.
Ну-с, теперь надо найти такой отель, чтоб расположен был поблизости от музыкантова жилища. Смерть гуляючи добралась до самого центра, зашла в туристическое агентство, попросила план города, быстро отыскала на нем театр, а от него ее указательный палец пропутешествовал до того квадрата, где находится дом виолончелиста. Далековато, но в окрестностях имеются отели. Один из них – без роскошеств, но с удобствами – был ей предложен. Тот же клерк вызвался забронировать ей номер по телефону, а на вопрос смерти, сколько она ему должна, ответил с улыбкой: Сочтемся. Так уж водится – люди сбалтывают что в голову придет, бросают слова на ветер и не дают себе труда минуточку подождать и задуматься о последствиях. Сочтемся, сказал служащий турагентства, с неизбывным мужским самодовольством воображая себе приятную, по всей вероятности, встречу в ближайшем будущем. А ведь он рисковал тем, что смерть, окинув его холодным взглядом, могла бы ответить: Берегитесь, вы не знаете, с кем разговариваете, – однако обошлось: она лишь рассеянно улыбнулась, поблагодарила и удалилась, не оставив визитки с номером телефона. В воздухе витал слабый аромат – смесь розы и хризантемы. В самом деле, кажется, поровну роз и хризантем, пробормотал служащий, медленно складывая план города. На улице смерть остановила такси и дала водителю адрес отеля. Она была недовольна собой. Напугала любезную и внимательную кассиршу, повеселившись за ее счет, а это уж просто переходит все границы. Люди и без того достаточно боятся смерти, чтобы она еще появлялась перед ними с улыбкой и возгласом: А вот и я, – служащим расхожим и, так сказать, домашним эквивалентом латинского: Memento, homo, qui pulvis es et in pulverem revertis[28]28
Ибо прах ты и в прах возвратишься (лат.). Бытие, 3: 19.
[Закрыть], а потом, как будто мало этого, была готова бросить этой милой женщине, которая к тому же сделала ей одолжение, глупейший вопрос, который люди из так называемых верхов общества с наглейшим высокомерием адресуют тем, кого почитают нижестоящими: Да вы знаете, с кем разговариваете. Нет, смерть недовольна своим поведением. Она уверена, что, если бы осталась в облике скелета, никогда в жизни не поступила бы так. Все эти гадости прилипли ко мне не иначе как потому, что я вочеловечилась, думает она. Бросив взгляд в окно автомобиля, она узнала улицу, по которой они проезжают, – здесь живет виолончелист, а вот и его окна в нижнем этаже. И внезапно ощутила в области грудобрюшной преграды или, как принято говорить – под ложечкой, холодок и некое посасывание – может быть, это трепет охотника, поймавшего добычу в прорезь прицела, а может быть, и какое-то подобие необъяснимого смутного ужаса, когда начинаешь бояться себя самого. Такси останавливается и: Вот и ваш отель, сообщает водитель. Смерть протянула ему деньги, полученные от билетерши, и прибавила: Сдачи не надо, – не сообразив, что сдача превышает сумму, натикавшую на счетчике. Что ж, это простительно для существа, лишь начавшего знакомство с тем, как пользуются этим видом транспорта.
Подойдя к стойке портье, смерть спохватилась, что туроператор не спросил ее имя, ограничившись тем, что сказал в трубку: Посылаю вам клиентку, да-да, скоро подъедет, – ну вот она и подъехала, эта клиентка, которая не может сказать, что ее зовут смерть, с маленькой буквы, пожалуйста, и не знает, как назваться, ах да, сумка, сумка через плечо, сумка, откуда уже были извлечены темные очки и деньги, сумка, из которой она извлечет и какой-нибудь документ. Добрый день, чем могу помочь, осведомился портье. Четверть часа назад вам звонили из бюро путешествий и просили забронировать номер. Да-да, это я с ними разговаривал. Ну так вот, я и пришла. Заполните, пожалуйста, эту карточку. Смерть сейчас уже знает свое новое имя – его подсказало раскрытое на стойке удостоверение личности – и благодаря темным очкам может незаметно для портье скопировать фамилию, дату рождения, гражданство, семейное положение, профессию. Пожалуйста, сказала она. Как долго намерены пробыть в нашем отеле. Скорей всего, до понедельника. Позвольте, я сниму ксерокс с вашей кредитки. Не захватила с собой, но я могу уплатить наличными вперед. Ах, нет-нет, в этом нет необходимости, воскликнул портье. Он взял удостоверение, чтобы сличить его с формуляром, и, явно удивившись, вскинул глаза. Дама, запечатленная на фотографии, была годами куда старше новой постоялицы отеля. Смерть сняла темные очки и улыбнулась. Совершенно сбитый с толку портье вновь воззрился на документ – теперь заснятая на нем дама и стоявшая перед стойкой клиентка были похожи как две капли воды. Где же ваш багаж, спросил он, проведя ладонью по влажному лбу. Я налегке, отвечала смерть, приехала за покупками.
Она провела в номере целый день, обедала и ужинала в гостиничном ресторане. Смотрела телевизор. Потом легла в постель и потушила свет. Но не заснула. Смерть никогда не спит.
* * *
В новом платье, вчера купленном в одном из самых фешенебельных городских магазинов, смерть сидит на концерте. Сидит одна в первом ряду ложи и, как это было на репетиции оркестра, смотрит на виолончелиста. А тот, покуда в зале не притушили свет и не вышел маэстро, успел заметить эту женщину. И не только он. Во-первых, потому, что она одна занимает целую ложу, что хоть, впрочем, и не такая уж редкость, но не часто случается. Во-вторых, потому, что красива: быть может, не самая красивая из всех женщин в публике, но в ее красоте есть что-то особенное, неопределимое, неподдающееся объяснению словами, словно стихотворение, чей сокровенный, подспудный смысл – если, конечно, может таковой содержаться в стихотворении – неизменно ускользает от переводчика. И наконец, потому, что ее фигура, от всех и со всех сторон отделенная пустотой и обитающая как будто в нигде, кажется выражением самого полного одиночества. А смерть, которая так много и так опасно улыбалась с того мига, как покинула свое ледяное подземелье, сейчас не улыбается. Мужчины разглядывают ее с двусмысленным любопытством, женщины – с ревнивым беспокойством, а она, как орлица, камнем падающая с неба на ягненка, видит только виолончелиста. Есть, впрочем, и разница. Если пернатые хищники обязаны убивать, ибо самой природой своей созданы для этого и предназначены, то взгляд этой орлицы, никогда не упускающей добычу, едва заметно туманится какой-то легчайшей тенью жалости, и кажется, что она, быть может, предпочла бы не вонзать когти в беззащитного агнца, а раскрыть мощные крылья и вновь взмыть в поднебесье – в разреженное пространство воздушной стихии, к вечно недосягаемым облачным отарам. Оркестр смолк. Виолончелист исполняет свое соло, как будто для того лишь и на свет произведен. Он не знает, что одинокая дама в ложе держит в своей совсем недавно обновленной сумочке адресованное ему письмо в лиловом конверте, – не знает и знать не может, но играет так, будто прощается с этим миром и хочет наконец высказать все, о чем молчал так долго: излить и порушенные мечты, и несбывшиеся желания, короче говоря, всю жизнь свою. Оркестранты глядят на него с удивлением, дирижер – с почтительным недоумением, публика вздыхает и трепещет, а туманившее острый орлиный взор облачко жалости проливается слезой. Вот соло кончилось, и в громадное, медленно ворочающееся море вступившего оркестра мягко погружается песня виолончели, принятая им в себя, растворившаяся в нем и рассеявшаяся, унесенная им в те пределы, где музыка воспаряет на высоту безмолвия, делается тенью дуновения, пробегающего по коже от последнего и уже неслышного отзвука, который произвела бы присевшая на медную тарелку бабочка. В памяти мелькнуло шелковистое, зловещее порхание ахерониты атропос, но смерть отогнала ее движением руки, столь же похожим на то, каким заставляла она исчезнуть лиловые письма со стола в подземелье, сколь и на знак благодарности, обращенной к виолончелисту, который, ища ее глазами в теплой тьме зрительного зала, повернул сейчас голову в сторону боковой ложи. Смерть повторила свое движение – и словно бы ее тонкие пальцы легли на руку со смычком. Виолончелист не сфальшивил, хотя сердце его сделало все, что могло, чтобы это случилось. И пальцы больше не прикасались к его руке – смерть поняла, что художнику, занятому своим делом, мешать нельзя. Когда окончился концерт и зал взорвался овацией, когда вспыхнул свет и дирижер поднял оркестр, а потом – отдельно – виолончелиста, чтобы тот принял причитающуюся ему долю аплодисментов, смерть, стоя в ложе и наконец-то улыбаясь, скрестила руки на груди и смотрела – просто смотрела – на тех, кто бил в ладоши, на тех, кто кричал «браво», на тех, кто десять раз кряду выкликал имя дирижера. Просто смотрела. Потом публика медленно и неохотно потянулась к выходу, оркестр же ушел за кулисы. Виолончелист повернулся к ложе, но там уже никого не было. Такова жизнь, пробормотал он.
Однако он ошибался – жизнь не всегда такова, и дама из ложи ждет его у служебного подъезда. Выходящие оркестранты посматривают на нее со значением, но сознают неведомо почему, что эта женщина – под защитой невидимой ограды, высоковольтной цепи, прикоснувшись к которой они сгорят, как мотыльки. Но вот появился виолончелист. Увидев ее, замер и даже словно бы собрался шагнуть назад, как будто эта женщина вблизи окажется не женщиной, а чем-то иным, существом из иных сфер, не от мира сего, с темной стороны луны. Он опустил голову, попытался догнать выходящих коллег, скрыться, однако тяжелый футляр с виолончелью, висящий на ремне через плечо, затруднил маневр. А женщина уже стояла перед ним и говорила: Не бегите от меня, я хочу всего лишь сказать, что ваша игра доставила мне истинное наслаждение. Спасибо, конечно, но ведь я – обычный оркестрант, а не знаменитый исполнитель, которого поклонники ждут часами, чтобы получить автограф или просто прикоснуться. Ну, если дело в этом, я тоже могу попросить у вас автограф, распишитесь вот хоть на этом конверте – он случайно оказался у меня с собой. Нет-нет, вы неправильно меня поняли, я всего лишь хотел сказать, что хотя мне это очень лестно, но я недостоин. А вот публика придерживается другого мнения. День на день не приходится. Совершенно верно, но сегодня – именно тот день, когда я пришла. Не хочется выглядеть в ваших глазах неблагодарным невежей, но, вероятней всего, вы уже завтра позабудете чувство, испытанное сегодня, и исчезнете так же внезапно, как появились. Нет, вы меня не знаете, я тверда в своих намерениях. И каковы же они. Намерение у меня одно – познакомиться с вами. Ну, поскольку оно уже исполнено, мы можем попрощаться. Вы что – боитесь меня, спросила смерть. Да нет, это не страх, а так – легкая тревога, не более того. Полагаете, этого мало: испытывать тревогу в моем присутствии. Тревога может быть сигналом, который подает нам благоразумие. Благоразумие способно только отсрочить неминуемое, но рано или поздно оно сдастся. Надеюсь, это не мой случай. А я так уверена в обратном. Виолончелист перевесил ремень на другое плечо. Устали, спросила смерть. Да нет, сам инструмент не тяжелый, футляр весит больше, особенно – этот, старинный. Мне нужно поговорить с вами. Как же это – уже почти полночь, все разошлись. Нет, вон там стоят еще несколько человек. Они ждут, когда выйдет дирижер. Давайте зайдем в какой-нибудь бар и поговорим. Хорош я буду с такой кладью за плечами в переполненном баре, улыбнулся музыкант, представьте, что будет, если все мои коллеги рассядутся там со своими инструментами. Мы могли бы дать концерт. Мы, переспросил виолончелист, удивленный множественным числом первого – и весьма привлекательного – лица. Ну да, я сама когда-то играла на скрипке, даже сохранились портреты, где я запечатлена с нею. Вы, наверно, задались целью каждым следующим словом удивлять меня все больше и больше. Вам решать, как далеко я смогу зайти в стремлении удивить вас. Вы не могли бы выражаться ясней. Вы ошибаетесь, я имела в виду не то, о чем вы подумали. А о чем же я подумал, позвольте узнать. О постели и обо мне в постели. Виноват. Вина – целиком на мне: будь я мужчиной и услышь я все, что здесь прозвучало из моих уст, подумала бы, без сомнения, о том же, о чем и вы, так что расплачиваюсь за двусмысленность. А я благодарю за откровенность. Сделав несколько шагов, женщина сказала: Ну пойдемте же. Куда, спросил виолончелист. Я – в гостиницу, где остановилась, а вы, вероятно, – к себе домой. И я вас больше не увижу. Ваша тревога уже унялась. А я и не тревожился. Неправда. Согласен, но – было да прошло. На лице смерти обозначилось подобие улыбки, в которой, впрочем, не было и тени веселости. И прошло как раз тогда, когда появились основания для тревоги. Иду на риск и потому повторяю вопрос. Какой. Мы больше не увидимся. В субботу я приду на концерт и сидеть буду в той же самой ложе. В той программе у меня не будет соло. Я знаю. Кажется, вы все предусмотрели. Все. И с какой же целью. Цель – в конце, а мы с вами пока – в самом начале. Показалось свободное такси. Смерть остановила его и повернулась к виолончелисту: Подвезти вас до дому. Нет, я отвезу вас в отель и поеду домой. Не нет, а да, а иначе вам придется взять другое такси. Я вижу, вы привыкли добиваться своего. Всегда. Когда-нибудь сорвется, бог есть бог и почти ничем иным не занимается. Я готова прямо сейчас показать вам, что не сорвется. А я готов к показу. Не валяйте дурака, не в такт ответила смерть, и в голосе ее вдруг прозвучала угроза – подспудная, смутная, но от того не менее ужасная. Виолончель уместилась в багажник. За все время пути пассажиры не обменялись ни единым словом. Когда добрались до первого пункта назначения, музыкант, прежде чем выйти, сказал: Не понимаю, что между нами происходит, наверное, нам и вправду лучше не видеться больше. Никто вам этого не запрещает. Даже вы, всегда добивающаяся своего, спросил музыкант, стараясь, чтобы это прозвучало насмешливо. Даже я, ответила женщина. Но это значит, что – сорвется. Это значит, что не сорвется. Водитель вылез открыть багажник и ждал, когда оттуда извлекут футляр с инструментом. Мужчина и женщина не попрощались, не сказали: До субботы, – не прикоснулись друг к другу, и все это напоминало любовный разрыв из разряда бурных, из категории драматических: казалось, они поклялись на крови и на воде никогда больше не встречаться. Закинув на плечо ремень, виолончелист двинулся прочь, вошел в дом. И вдруг замешкался в дверях, но так и не обернулся. Вцепясь пальцами в свою сумочку, глядела ему вслед женщина. Такси тронулось.
Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?

































