Текст книги "Екатерина Великая (Том 1)"
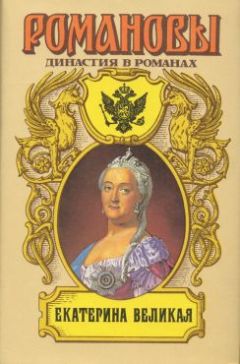
Автор книги: А. Сахаров (редактор)
Жанр: Историческая литература, Современная проза
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 31 (всего у книги 62 страниц) [доступный отрывок для чтения: 18 страниц]
– Нет, я знаю… Я всё знаю…
– Ты?..
– Да, з-знаю. Я поболее твоего знаю… В миру – Гавриил… В монастыре буду – Гервасий… Но сие всё не так… И сие неправда. Да где тебе!.. Т-теб-бе не понять!
– То-то ты хорошо понял.
– Я… Я знаю… Вот смотри, – арестант показал на свои ноги и руки, на грудь, – сие тело… Тело… Да, может статься, и точно арестантово тело, понеже вы его караулите… А сие, – с хитрой и довольной улыбкой арестант показал на голову, – с-сие – п-п-принц Иоанн, назначенный Император российский!..
Серые глаза синеют, яснеют, угрюмое, печальное лицо освещается улыбкой и на мгновение становится почти красивым. Власьев пристально смотрит прямо в глаза арестанта и говорит ему мягко и настойчиво:
– Ничего в твоих коловратных словах понять, ниже уразуметь нельзя. Ну что ты болтаешь?.. Бред один… Ложись и спи… Пойдём, Лука, что нам с ним о глупостях говорить.
Офицеры ушли за ширму Арестант как стоял у стола, так и остался стоять.
Каждый день одно и то же – и так годы назад и сколько ещё страшных, томительных, скучных, беспросветных лет впереди. Сказывали – до самой смерти… Арестант думал о солнце, которого так давно не видел, что забыл, какое оно… Кажется, жёлтое… Горит, греет, светит, жжёт… Солнце… И травы есть, деревья, луга… Он слышал, читал в Библии… Когда-то видал… Когда – он позабыл сам об этом… Когда был маленьким… Когда вчера Власьев выходил и открыл дверь в коридор, ветер принёс жёлтый, сухой листок, значит, осень уже… Было, значит, лето и прошло. Он не видал его. Ест, пьёт, а толку что… Только резь в животе.
Опять стали путаться и мешаться мысли. Ночная ясность в них стала пропадать… Свеча нагорала фитилём. Раскрытая Библия напоминала о чём-то… О невиданной женщине… О женщине воображаемой, дивно прекрасной… Зачем воображаемой?.. Он же недавно видал прекрасные глаза. Озерки Есевонские…
Арестант закрыл Библию, тяжело опустился на постель, руки положил на стол, голову склонил на руки и забылся в странном оцепенении.
Петербург начал застраиваться в государствование Елизаветы Петровны. Но при ней, в начале её царствования строили больше себе хоромы вельможи. Алексей Разумовский выбухал целый маленький город – Аничкову усадьбу, занявшую громадную площадь от Фонтанки до Садовой улицы, с воздушными, висячими, Семирамидиными садами, со стеклянными оранжереями, с манежами, казармами и флигелями для многочисленной челяди. Его брат, гетман, Кирилл Разумовский на Мойке выстроил громадный многоэтажный дворец, на Невской перспективе стали хоромы Строгановых, Воронцовых и других близких к Государыне людей.
Стройная, грациозная в своей пропорциональности итальянская архитектура, введённая Растрелли и его учениками, потребовала искусных мастеров, каменщиков, кровельщиков, маляров и стекольщиков. Эти хоромы строились уже не солдатами петербургского гарнизона, как то делалось раньше, но выписными из поместий крепостными людьми, обученными итальянцами и немцами. По окончании построек эти люди часто оставались в Петербурге, одни получали волю и становились самостоятельными строительными подрядчиками, другие отбывали барщину по своему ремеслу, устраивали артели и строили дома частным людям.
Жилищная нужда становилась всё сильнее. Сенатские писцы, асессоры и секретари коллегий, академики и профессора, художники и скульпторы, адмиралтейские чиновники, офицеры напольных полков уже не помещались в обширных флигелях Сената, Адмиралтейства, Академии наук и коллегиальных зданиях. Им нужны были частные жилища. Торговля и промыслы развивались в Петербурге, и этот новый торговый люд искал помещений.
Разбогатевшие купцы и подрядчики, вдовы сенатских и иных служащих стали ставить свои дома, образуя на месте садов и пустырей прямые длинные улицы. Так стали застраиваться Литейная, Садовая, Гороховая, в Коломне образовался лабиринт улиц, на Васильевском острове всё дальше и дальше к взморью потянулись «линии». Эти дома не были, как раньше, деревянные одноэтажные особняки с мезонинами, с садами и огородами, окружёнными высоким просмолённым забором, но фасадом на улицу высились прямые трёх– и четырёхэтажные дома, простой архитектуры, с рядами четырёх– и шестистекольных окон. Большие, глубокие ворота вели во двор, образованный флигелями и хозяйственными постройками – конюшнями, экипажными сараями, помойными ямами, навозными ларями, ледниками, дровяными сараями или просто высокими, чёрными из осмолённых досок заборами. Двор был немощёный, заваленный кирпичным ломом, с деревянною дорожкою панели к главному флигелю и к неуклюжей постройке примитивной общественной уборной. В углу, у флигеля, каменное крылечко вело на лестницу – узкую, с прямыми маршами, с широкими пролётами – места не жалели, – сложенную из серовато-белых плит пудожского камня. На лестнице большие площадки из квадратных каменных плит и деревянные, а где и железные перила. Две двери ведут в квартиры, одна посередине, из грубых толстых досок, покрашенных коричневатой охрой, с ромбовидным отверстием наверху, с простой железной ручкой, дужкой снаружи и толстым крюком изнутри, вела в уборную для жильцов. От этих дверей несло сыростью и смрадною вонью, и вся лестница была продушена этими уборными. Кучи отбросов у дверей, в корзинах, вёдрах и ящиках, собаки и кошки, бродящие по этажам, составляли непременную принадлежность таких домов. Освещения не полагалось, поднимались в темноту, цепляясь руками за скользкие мокрые перила, спускались сопровождаемые слугою или кем-нибудь ещё из домашних со свечою в низком оловянном шандале.
В этих домах отдавались квартиры внаймы и комната от «жильцов». Кто побогаче и имел своих крепостных слуг, тот устраивался прочно, обзаводился мебелью, беднота ютилась в комнатах, омеблированных хозяевами.
В новом доме, с открытыми осенью настежь окнами, пахло извёсткой, замазкой, масляной краской от густо покрашенных жёлтою охрою полов. Жилец привозил немудрёный свой скарб, рухлядишку, кровать, а чаще дощатый топчан, какой-нибудь рыночный шкаф, стол да табуретки, купленные на барке на Фонтанке, и устраивал своё жильё. Водовоз с Невы, Фонтанки, Мойки или канала по утрам привозил воду и разносил её, расплёскивая по лестнице, по квартирам, наливая в деревянные бадьи, накрытые рядном. Зимою оттого лестницы были скользки и покрыты ледяными сосульками. Дворники таскали охапки дров, хозяйки уговаривались с жильцом, как будет он жить – «со столом» или «без стола», и петербургская жизнь начиналась.
Она была полна контрастов.
Дома – вонь на лестнице и пущая вонь на дворе, нельзя открыть форточки, сырость и мрак серых петербургских дней, дымящая печка, мышиная беготня людей в густонаселённом доме, на улице – широкие красивые проспекты, дворцы вельмож, красавица Нева.
Зимою по улицам мчатся сани, запряжённые прекрасными лошадьми, скачут верховые, все в золоте, драгоценных мехах, зеркальные окна карет слепят на солнце глаза, у раззолоченных подъездов толкутся без дела ливрейные лакеи, расшитые позументом, на приезжающих гостях драгоценные кафтаны с пуговицами из алмазов, нарядные платья дам, запах духов – словом, Семирамида северная!.. Зимою по ночам полыхают, гремят пушечной пальбой фейерверки на Неве, летом богатые праздники в Летнем саду и в Екатерингофе. Если двор двадцать девятого июня был в Петергофе, всё население Петербурга тащилось туда пешком, в извозчичьих двуколках или верхом, глазело на иллюминацию в парке, на потешные огни, слушало музыку и песельников, ело даровое от высочайшего двора угощение, а потом ночью пьяными толпами брело к себе домой.
Бегов ещё не было, но вдруг зимою на набережной какой-то шорох пронесётся среди гуляющих, хожалые будочники с алебардами побегут, прося посторониться и дать место, в серовато-сизой мгле за Адмиралтейским мостом покажутся выравниваемые в ряд лошади, запряжённые в маленькие санки, и вдруг тронутся разом и – «чья добра?..» – понесутся в снежном дыму лихие саночки.
– Пади!.. Пади!.. – кричат наездники – сами господа. Нагибаются, чтобы видеть побежку любимца коня, молодец поддужный в сукном крытом меховом полушубке скачет сбоку, сгибается к оглоблям, сверкает на солнце серебряным стременем.
Народ жмётся к домам, к парапету набережной, у Фонтанки, где конец бега, кричит восторженно:
– Орлов!.. Орлов!..
– Ваше сиятельство, наддай маленько!..
– Не сдавай, Воронцов!..
– Гляди – Барятинского берёт…
– Э… Заскакала, засбивала, родимая… Не управился его, знать, сиятельство.
Ни злобы, ни зависти, смирен был и покорен петербургский разночинец, чужим счастьем жил, чужим богатством любовался.
Паром дымят широкие, мокрые спины датских, ганноверских – заграничных и своих русских – тульских и тамбовских лошадей, голые руки наездников зачугунели на морозе, лица красны, в глазах звёзды инея. Красота, удаль, богатство, ловкость… И какая радость, когда вырвется вперёд свой русский рысак, опередит «немцев» и гордо подойдёт к подъёму на мост через Фонтанку.
Свадьба знатной персоны, похороны – всё возбуждает любопытство толпы, везде свои кумиры, местные вельможи, предпочитаемые всем другим, – кумиры толпы. И над всеми кумирами царила, волновала восхищением прелестная, доступная, милостивая, милосердная матушка Царица, Государыня свет Екатерина Алексеевна!
По утрам со двора неслись распевные крики разносчиков. Сбитенщик принёс горячий сбитень, рыбаки, зеленщики, цветочники, крендельщики, селёдочницы, молочные торговки – каждый своим распевом предлагал товар.
Иногда придут бродячие музыканты, кто-нибудь поёт что-то жалобное на грязном дворе, и летят из окон завёрнутые в бумажки алтыны, копейки, полушки и четверти копейки – «Христа ради»!..
По вечерам в «мелочной и овощенной торговле» приветно горит в подвале масляная лампа, и кого только тут нет! Читают «Петербургские ведомости», обсуждают за кружкою полпива дела политические. Тут и подпоручик напольного полка в синей епанче, и старый асессор из коллегии, и крепостная девка с ядрёными красными щеками, в алом платочке и с такими «поди сюда» в серых задорных глазах, что стыдно становится молодому поручику. Лущат семечки, пьют квас и пиво, сосут чёрные, крепкие, как камень, заморские сладкие рожки. Довольны своею малою судьбою, забыли вонь дворов и лестниц, темноту глубоких низких комнат. О малом мечтают… Счастливы по-своему.
В этот простой и тихий, незатейливый мир разночинцев петербургских, в маленькую комнату над сенями, в доме «партикулярной верфи», в Литейной части, на квартиру к старой просвирне, в 1764 году подал на тихое «мещанское» житие подпоручик Смоленского пехотного полка Мирович, Ещё недавно фортуна улыбалась ему – он был адъютантом при генерале Петре Ивановиче Панине, но за вздорный характер и за картёжную игру был отставлен от этой должности.
Карточные долги его разорили. Доходила бедность до того, что целыми неделями питался он пустым сбитнем да старыми просфорами, которые из жалости давала ему хозяйка.
Среднего роста, худощавый, бледный с плоским рыбьим лицом, не в меру и не по чину раздражительный и обидчивый, он, когда не был занят службою в караулах, целыми днями валялся на жёсткой постели на деревянных досках грубого топчана или ходил взад и вперёд по маленькой комнатушке и обдумывал различные комбинации, как поймать фортуну, как разбогатеть и стать знатной персоною. Но как только смеркалось, чтобы не жечь свечи, спускался он, закутавшись в епанчу, на улицу и шёл в соседний дом в мелочную лавочку.
Куда-нибудь подальше от темноты, сырости и мыслей.
У прилавка знакомый, жилец того же дома, придворный лакей Тихон Касаткин. Хозяин хмуро поздоровался с Мировичем. Тот потребовал себе пива.
– Что скажешь, Тихон, нового?..
– Нонешним летом, сказывали у нас, Государыня в поход собираются. Лифляндские земли смотреть будет В «Ведомостях» о том тоже писали.
– Так.
– Лошадей по тракту, слышно, приказано заготовлять, на Ямбург, Нарву, Ревель и Ригу. Лакеев отбирали, камердинов, кому ехать, кому здесь оставаться.
– Что денег опять пойдёт!..
– При нонешней Государыне жаловаться не приходится, во всём сокращают где вдвое, где и больше против прежнего. Даже господа роптали, что очень скромны стали вечерние кушанья во дворце и бедны потешные огни.
– Да… Так… Был я на прошлой неделе во дворце, и после приёма все приглашённые были званы в Эрмитажный театр, пошёл и я. А меня не пустили… Мол, от напольных полков только штаб-офицерам в Эрмитажный театр доступ имеется. Как ты полагаешь, правильно это?
– Эрмитажный театр, сами, чай, знаете, маленький, где же туда многих-то смотрителей пустить? Такое правило. Вот дослужитесь, Бог даст, до штаб-офицерского чина, и вас туда пригласят.
– Может быть, твоё слово и верное, Тихон, да надо знать, кто я… Я – Василий Яковлевич Мирович… Мой дед Фёдор Мирович был генеральным есаулом при Орлике, мой прадед был переяславским полковником… Понял ты это?..
– Надо вам самому того заслужить.
– Ну… А… Разумовский?.. Орлов?.. Где, какие их заслуги?.. Какое происхождение?..
– Каждому, ваше благородие, своя фортуна положена. Они попали в случай. Вы – нет.
– Когда Мазепа и Орлик, а с ними мой дед, бежали с Украины за границу, Пётр Великий написал гетману Ивану Скоропадскому, чтобы «изменничьих» детей прислать в Москву… Изменничьих!.. Каково!.. Моих отца и деда!..
– Могло, ваше благородие, и хуже быть. Пётр Великий шутить не любил.
– Наше имение конфисковали… Теперь мои сёстры умирают с голода в Москве, а мне и послать им нечего.
– В карты много, ваше благородие, играете.
– Нет… Что карты?.. Вздор!.. Каково, Тихон!.. Мировичи?.. С голода?.. Мировичи!.. Где искать мне правды?.. Где найти милосердие и уважение?..
– Вы пошли бы, ваше благородие, к гетману графу Кириллу Разумовскому, всё ему и изъяснили бы, как и что и в чём ваша обида. Он, сказывают, душевный человек, и до вас, малороссов, вельможа очень даже доступный.
– Да… Может быть, и так… Но, Тихон, не думаешь ты, что всё могло бы иначе для нас сложиться?.. И мы сами могли стать, как Разумовские, Орловы, Воронцовы, больше их, знатнее… Почему?.. А что?.. Только переменить и новую начать жизнь…
– Надоели нам, ваше благородие, эти частые перемены. Конечно, всё ныне беднее стало, как при покойной Императрице, но только и порядка больше, и обращение к нам такое деликатное, грех пожаловаться, в каждом простом, можно сказать, служителе не скота, но человека видят.
Мирович молча пил пиво. Он больше ничего не сказал. Он заметил, как вдруг сжались у Касаткина скулы, побледнели щёки и в глазах упорство воли.
«Нет… Не свернёшь, – подумал он, – за своё маленькое счастье цепляются, большого не видят… Мелюзга!..»
– Хозяин, – крикнул он. – Запиши за мной до жалованья… Прощай, Тихон. Спасибо за совет. И точно, попробую к гетману.
Дверь на тяжёлом блоке с привязанными кирпичами с трудом поддалась. Пахнуло сырым воздухом и навозом, ледяная капля упала с крыши Мировичу на нос. Мирович завернулся в епанчу и побрёл через улицу домой.
Гетман Кирилл Григорьевич принял Мировича без промедления. У него, как и у брата его Алексея, была слабость к малороссам. Он посадил молодого офицера и дал ему вполне высказаться.
– Ось, подывиться!.. – сказал он, когда Мирович сказал всё, чем он обижен. – Претензий, претензий-то сколько!.. И все неосновательные. Что денег нет – велика беда… Проси, сколько хочешь, – дам.
– Я милостыни, ваше сиятельство, не прошу. Я ищу справедливости и уважения к моей персоне.
– Усердною службою и верностью матушке Государыне дослужись до штаб-офицерского чина – вот и уважение получишь. А справедливость, так тебе грех на несправедливость жаловаться… Могло быть и много хуже.
– Иногда, ваше сиятельство, хуже бывает лучше.
– Вот ты какой!..
– Ваше сиятельство – Мазепа и Орлик… Удайся им… Мой прадед, переяславский полковник, а мои сёстры… В Москве с голода… С голода!..
– Что же, братец… Мазепа и Орлик? Хорошего мало в них вижу… За них-то ты и платишься… Отец, дед?.. Мёртвого из гроба не ворочают… Ты – молодой человек, сам себе прокладывай дорогу. Старайся подражать другим, старайся схватить фортуну за чуб – вот и будешь таким, как я и как другие.
Разумовский подался с кресла, давая понять, что аудиенция окончена. Мирович встал и откланялся ясновельможному гетману.
Смеркалось. На Невском мокрый снег, разбитый конскими ногами, смешался с навозом и коричневой холодной кашей лежал на деревянной мостовой. Жёлтый туман клубился над городом. Из непрозрачного сумрака синими тенями появлялись пары, четверики цугом с нарядными форейторами и тройки, скрипели по доскам полозья многочисленный саней.
– Пади!.. Пади!.. Поберегись, милой! – раздавалось в мглистом тумане. Фонарщик с длинной лёгкой лестницей на плече и с бутылкой с горящим фитилём в руке проворно бежал среди прохожих. Масляные фонари жёлтыми кругами светились в сумраке и провешивали путь. «Присутствия» кончились, и петербургский обыватель-разночинец спешил к домашнему очагу.
Мирович ничего этого не видел. Глубоко запали ему в душу слова гетмана: «…старайся подражать другим…» Кому же?.. Братьям Орловым, ему – самому Разумовскому?.. У него на расшитом кафтане пуговицы из бриллиантов чистой воды… «Старайся схватить фортуну за чуб…» Как они схватили?.. Но они-то схватили её за чуб переворотом!..
И вспомнил, как в бытность в карауле в Шлиссельбургской крепости ему говорили о безымянном колоднике и о том, что тот колодник не кто иной, как Император Иоанн VI Антонович.
На Литейной фонарей вовсе не было, и Мирович, попав в густой туманный мрак, должен был замедлить шаги. Кое-где в домах светились окна. Мирович шея тихо и думал о несчастном узнике. Печатной истории этого близкого времени не было, но кое-что писалось в «Ведомостях», да из уст в уста передавалось предание-рассказ о страшных ноябрьских днях 1741 года. Народнее око точно следило за злоключениями ребёнка-Императора, и в народе убеждённо говорили о том, что таинственный шлиссельбургский узник, которого никому не показывают, который никогда не выходит из своей тюрьмы и кому стол отпускается, как принцу крови, есть не кто другой, как несправедливо лишённый престола Император. Говорили об этом ладожские рыбаки, торговки на каналах, мелкие купцы и ремесленники.
В глубоком раздумье о несправедливости человеческой судьбы Мирович вошёл в ворота своего дома. На дворе как никогда отвратительно нудно пахло помойными ямами, на тёмной лестнице было скользко, перила были покрыты какою-то неприятною слизью. Мирович с отвращением поднимался к себе. Какой это был резкий контраст с тем, что он только что видел у Разумовского! Там широкий коридор и нарядная лестница были надушены амброй и ароматным курением. Ещё не смеркалось, как уже были зажжены многосвечные люстры и канделябры с хрустальными подвесками, и стало светло, как днём. Вот что значит уметь схватить фортуну за чуб и проложить себе дорогу!
В каморке Мировича был свет. На кухне, через которую проходил Мирович, кисло пахло просвирным тестом.
– Кто это у меня? – спросил Мирович у просвирни.
– А тот… Как его, бишь, звать-то, всё запамятую… Здоровый такой, мордастый, Афицер…
– Аполлон, что ли?
– Ну во, во, он самый. Полон…
В убогой комнате горела свеча, вставленная в бутылку Приятель Мировича, Великолуцкого пехотного ножа поручик Аполлон Ушаков, дожидался хозяина.
– Ну что?.. Был?.. – спросил он.
– Да, был же!.. Слушай… Замечательно выходит, чисто как напророчил он мне. Садись и слушай. Прости, угостить тебя ничем не могу.
Ушаков был старше Мировича. Крепкий малый с простым, круглым, румяным, загорелым лицом, с чёрными бровями, резко очерченными под белым низким париком, он восхищёнными глазами глядел на Мировича. Так уж повелось с самых первых дней их знакомства. Хилый и слабый фантазёр Мирович покорил себе крепыша Ушакова, и тот проникся благоговейным уважением к товарищу. Что сказал Мирович – то и правда. Мирович писал вирши… Мирович был адъютантом у Панина, Мирович беспечно проигрывал своё жалованье, изобретал какие-то системы выигрыша, Мирович смело и резко критиковал нынешние порядки и бранил самоё Императрицу… Простоватому Ушакову казался он высшей, непонятной натурой. И тот готов был часами слушать Мировича, и Мирович знал, что Ушаков умеет молчать, что Ушаков готов исполнить всё то, что он ему прикажет.
– Послушай, Аполлон… Как много значит беседа с большим человекам, который сам сделал свою фортуну… Видал я сейчас жизнь. Не моей чета… Хоромы, полк поместить можно – один человек живёт… Каково!.. Слуги!.. В щиблетах, ходят неслышно, говорят вполголоса… И всё через народ… Надо ж нам поднять народ… Народ всё может. Покажи ему только правду, и он пойдёт за тобою.
– Какая? Где правда?..
– Правда в том, что безвинно страдает Император Иоанн… Слыхал о безымянном колоднике в Шлиссельбургской крепости? Вот кого освободить, кого вывести к народу и показать солдатам! Ведь пойдут!.. А, как думаешь, пойдут за ним, пойдут сажать его на престол?.. Что… как?..
Мирович замолчал, ожидая каких-то возражений от Ушакова, но так как тот молчал, он продолжал, понизив голос до таинственного шёпота:
– Внимай, Аполлон, внимай!.. Вот придёт моя очередь занять караул в Шлиссельбургской крепости…
И сразу вдруг всё ясно стало, как и что надо сделать, так ясно, точно видел всё, как это выйдет.
– Ты приплывёшь ко мне на лодке из Петербурга с письмом от Императрицы. И в том письме приказ арестовать коменданта крепости полковника Бередникова и выдать нам с тобою безымянного арестанта.
– Откуда же будет письмо?..
– Чудак человек, я его напишу и подпишу под Государынину руку. Мы составим с тобою манифест и принудим Императора Иоанна Антоновича оный манифест подписать.
– А дальше?..
– Дальше?.. Наденем красный плащ на плечи государевы и на лодке повезём его в Петербург, на Выборгский остров, где в артиллерийском лагере предъявим его солдатам. Я выйду к ним и скажу: «Братцы!.. Вот ваш Император!.. Он двадцать три года безвинно страдал, и ныне настало время нам присягнуть ему». Потом прочту манифест. Ударят барабаны. Народ сбежится, и как тогда она шла с солдатами и народом, с Разумовским и Орловыми, так с нами пойдёт сей Император. Мы пойдём прямо на Петербургский остров и займём крепость. Сейчас же ударим из пушек по Адмиралтейской крепости, нагоним страху на народ, арестуем узурпаторшу прав Государя… Слушай, как полагаешь?.. Должно выйти?.. Выйдет?.. Ведь – безвинно… Без-вин-но… С народом… Нар-р-род… Он поймёт… Душою, сердцем, Христом праведным поймёт и пойдёт с нами.
– Василий Яковлевич, а ты с кем-нибудь из народа говорил о сём?.. Как там, в народе-то, жаждут ли перемены?.. Есть ли недовольные, готовые на всё?..
Точно завял Мирович. Он опустил голову. Его блестящие глаза потухли, голос стал нерешителен и скучен:
– Да… Говорил… Разумеется – иносказательно… Так, в лавочке пытал я вчера придворного лакея Тихона Касаткина, знаешь, что в этом же доме живёт, надо мною. Ну он не в счёт… Кто он?.. Холоп… Придворный блюдолиз. Говорит: «Надоели нам эти перемены…» Что он понимает? Нам надо настоящий народ пощупать. Солдатство склонить на свою сторону Манифест хорошо обмозговать и составить так, чтобы за сердце хватало, в дрожь бросало и слезу вышибало.
– Да, это конечно, – вяло сказал Ушаков, – манифест – это первое дело…
В этот вечер они больше не говорили о «деле».
Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?








































