Текст книги "Imperium"
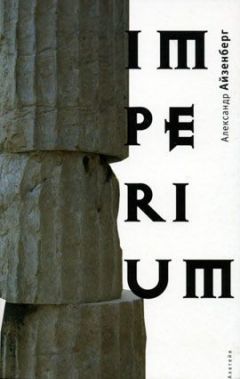
Автор книги: Александр Айзенберг
Жанр: Современная русская литература, Современная проза
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 3 (всего у книги 9 страниц)
Серебряное блюдо… Оно стоило один миллион сестерциев.
Императору было плохо. Он чувствовал спазмы в желудке.
На огромном блюде смешались печень рыбы скир, фазаньи и павлиньи мозги, языки фламинго, молоки мурен…
Жирное, нежное, сочащееся… Тающее, вкусное, волшебное… Розовое, белое, красное… Души-и-истое-е…х-хе… О-о-х…
____________________
Почему-то не спалось. Было жарко. Может, не так и жарко, но ему… Ему? Да-а… Вдруг прошел озноб по коже. Вителлий вскочил с постели, подошел к светильнику… Письмо Антония Прима всегда он теперь держал с собой… Не такой уж он дурак и обжора. Да, нет… И прекрасно он понимает, каким должен быть император.
Да… Должен быть… Гай Юлий Цезарь… Октавиан Август… Тиберий. Нет! Нет! Нет… Это-то прошло уже. Тиберий умер. Умер…
Вителлий вытер пот со лба. Неожиданно он вздрогнул. Кто-то кричал: «Спинтрий! Спинтрий! Любимая рыбка императора Тиберия! Рыбка, вильни хвостиком! Своим толстым, жирным хвостом… А-а!…» Никого не было. Император вспомнил: так кричал перед смертью центурион-отонианец…
«Что-то творится невообразимое», – думал Вителлий. Он вспомнил, что ему рассказала Триария, жена брата. Один рядовой конник заявил, что убил в последнем сражении брата и потребовал за это вознаграждения. Настроение в армии такое, что наказать его невозможно; наградить – наверное, бесчеловечно и незаконно. И ему ответили, что совершенный им подвиг заслуживает почестей, воздать которые
в походных условиях невозможно, а потому лучше отложить дело до других времен.
– О-ой… Кому он нужен, чтоб его наказывать или награждать. Если он такой скот – это его дела, – Вителлий устало смотрел на письмо Антония Прима.
«Что же делать?» – думал он. Трибуны и центурионы все чаще перебегают к врагу. Командующие Юлий Приск и Алфен Вар бросили армию. В тюрьме убит Валент.
Рядовые пока еще хранят верность. Упорно хранят. Почему?… Хотя… Разве я уже такой плохой?… Я люблю поесть. Не хочу волноваться изза кого-то. Не… Когда я был просто римским гражданином, то, может, и не всем нравился, но был таким, как все, наверное, со своими слабостями и достоинствами… Вла-асть Это – власть. Оказывается, мало быть добрым малым… Ведь ты – император? А я не знаю, я не могу… Не могу – вот что. Я знаю, что нужно мне, а им?… Нет… Легионы за меня… Они просто понимают: командиров им купят, или… А их не-ет… У них другого выхода нет. Им поздно. Уже поздно. Хотя… Но это было раньше, когда еще было можно… Да. Часть моих солдат перешла с развернутыми знаменами к флавианцам. Перешла… А теперь, им все… И остальным тоже. И они меня держат заложником. Но ведь я им тоже обещал…
Вителлий услышал голос Триарии. Он не любил эту женщину. Ему казалось, что злость бьет из нее фонтаном.
Такие, видно, фурии. Но они же есть. И она такая.
Сейчас Триария говорила своим визжащим голосом: «Он советуется со всеми, даже с рабами. Даже с этим маленьким сирийцем. Потом ужасается, потом угрожает, а потом напивается, как свинья…»
Это же она про меня… Про меня. Ну, почему я должен за них всех отвечать? Пусть они сами. Сами! А мне… А я… А мне Прим…
Вителлий нежно погладил письмо Антония Прима. Полководец флавианцев писал, что гарантирует жизнь, предлагал деньги и иное убежище в Кампанье, если он сложит оружие и сдастся.
Император вдруг бешено завопил: «Триария! Иди сюда!
– Когда та вошла и увидела его таким – властителя Рима, он продолжал кричать о том, сколько рабов он с собой возьмет, где на побережье он останется. – Не хочу! Не хочу! Не надо мне власти, я жить хочу!…»
«Жить хочу… Хочу жить… Почему она так на меня смотрит??? Начать мне на всех… Кого волнует чужое горе?… Но что же мне делать…»
По лицу пожилого толстого человека, только что со сна, смешно катились круглые слезы. Он устало сидел и вытирал их руками. И полное безразличие овладело им. Никому он не нужен… Вот так просто… Как человек… Он, оказывается, никому не нужен? Он, как человек…
У Триарии расширились зрачки. Она изрыгала проклятия: всем, ему. Кричала, что, если бы другие не помнили о том, кто здесь принцепс, сам он давно бы забыл об этом…
Она смотрела на этого жирного тупицу. Если б она могла, то загрызла бы его, вонзила ногти в глаза… Какой скот, как-кой… Ах, он думал, что ему так же легко удастся убедить всех нас согласиться на перемирие, как и его самого… Да, тогда Веспасиан вступил бы в Рим, не пролив ни капли крови… Да… Не-ет! Не будет так.
Триария – ненормальная… Дикий зверь. Они все такие. Все. Или еще хуже. Да, они и слушать не хотят о прекращении войны… Прекращение войны! На любых условиях… Все… Значит… Как человек… Как император… Как человек…
И Авл Вителлий улыбнулся. – «Ты права, Триария, – сказал он. – Перемирие поставило бы нас всех в полную зависимость от любого каприза победителей и не принесло бы ничего, кроме опасности и позора…»
Триария, открыв рот, смотрела, смотрела… А император засмеялся. Засмеялся, как в истерике и сквозь хохот выкрикивал: «Хор-ха-ха-ха-хорошо пахнет труп ха-ха-ха-врага, а еще… а еще… ха-ха-лучше-гражда-ни-на! Ха-ха-ха!…»
____________________
X
Что так долго не слышно… Сознание потерял?… Нет, приходит в себя. А игру выключил… Показалось…
– Что это ты такой?… Еще играть будешь или поешь?
– Нет, играть не буду. На сегодня хватит.
– К тебе твоя девочка приходила. Спрашивала, когда будешь.
– Ладно. Это все ладно. Помоги мне, я лягу… Я посплю…
– Спи… Спи…
____________________
XI
– Я узнала. Все эти «Римы», «Чингиз-ханы», «Тысячи ночей»-Это хуже ЛСД. Таких теперь много. Наркоманы-игроки.
– Да. Все делают, чтобы люди чем-то могли забить голову. Вот сволочи! Игрушки придумали. Надо его все же оторвать. Может, он не знает… Сынок! Сынок!
– Закройте двери! Я играю! Я играю… Так, так… Пошло… Легче стало. Пошло, пошло…
БЕГИ ОТ СТРАХА!
Стол. Его доска из эбенового дерева. Серебряный кубок, матово отсвечивающий, наполненный не доверху… Красивого зеленого цвета; в полутьме черно-зеленого… Пойло для императора Диоклетиана… Нет… Уже не императора. Просто для Диокла.

На руках бывшего августа расплылись пятна веснушек… По коричневым, сухим мозолям ладоней перекатывалась круглая с хвостиком луковица… Он сам ее вырастил… Ему было приятно ощущение золотого шелка лука… Кажется, он был на огороде, когда пришло приглашение от императоров Константина и Лициния на свадебный пир… Легионеры каждый день едят лук. Это поднимает настроение и рождает храбрость. «Хорошо быть храбрым… Свирепым и храбрым», – подумал Диокл… Он отказался. Подумал и отказался. Просто извинился, что из-за старости не имеет сил участвовать в торжестве.
____________________
Я на отдыхе… Отдыхаю… Ничего не хочу знать. Я убежал от всех. Так не трогайте меня. Оставьте в покое.
____________________
Диокл разорвал шелк, раздел луковицу. Он вспомнил о жене и дочери. Им было плохо. Очень плохо… Их убили… Лициний… А перед этим был Максимин Даза… Он слышал, что говорят про него – что он благоденствует у себя во дворце в Салоне, а жене и дочери вот-вот придёт конец.
____________________
Неправда!… Ложь! Все – ложь…
____________________
«Какое красивое слово», – подумал он. Но ведь было его письмо к императорам. Ведь он все-таки написал. А его уже не боялись. Боялся он и все же написал! Написал, чтобы их оставили в покое – всю его семью.
____________________
Жена… Дочь… Они бежали… И они бежали и от того, и другого, и третьего… Бежали, бежали… Куда-то все время бежали. Вся его семья… И я тоже?
____________________
Диокл вспомнил, как недавно у него сильно заболел живот, а он был в городе. И он хотел сесть прямо на улице и сел бы, будь он только Диоклом, но он был еще и Диоклетианом, и ему удалось сохранить уверенное выражение лица, хотя холодный пот тек по спине и по лицу, ноги дрожали, и он думал, что сейчас упадет и умрет, а умирая, не выдержит, и все поймут, почему он умер… Когда он добежал… Всего несколько шагов!… И страх, страх… И чувство освобождения… Все-е…
____________________
Что-то щекотало руку… Старый человек смотрел на бегущего по его руке муравья. Смотрел долго, а потом стряхнул его щелчком. Затем вспомнил про лук и вгрызся в него зубами. Вдруг вздрогнул и резко обернулся со свирепо-трусливой гримасой… Никого не было. Ему показалось… Глупое письмо прислали Константин и Лициний. Ну, как же не глупое! Его обвиняют, что он раньше благоволил к Мак-сенцию, к Максимину Дазе! Да что ему, не все равно? Хоть бы они все горели на медленном огне!
____________________
Они угрожают… Я хочу покоя… Тихо себе живу… Страшно, конечно… Страшно… Почему не хотят забыть обо мне… Смерть. Смерть смертью, а жить хочется… Хочется… Мда-а… Убьют, наверное… А когда?… В любой момент?… Сегодня? Завтра?…
____________________
Он поежился… Холодно… Ему все время было холодно… Смерти он боялся, понятно. Но еще больше Диокл боялся мучений… Боялся издевательств… Он боялся… И ничего не мог сделать с собой… Диоклетиан доел луковицу. Взял серебряный кубок с зеленым пойлом. Посмотрел, закрыл глаза и выпил.
____________________
Я бежал, бежал… И я убе-га-аю…
XII
– Мало! Мало!… На ручную надо перевести… Так… И держать, держать… до конца… Уйти отсюда… Со всеми проблемами. Социальные требования… Лучше забыться… Великая река… Река забвения… Ну!
ПУСТЬ ОНИ ВСЕ ЛОМАЮТ СЕБЕ ГОЛОВЫ!
Гай Цестий Эпулон – римский гражданин хоронил свою жену Атистию. Рядом с ним стоял его приятель Марк Антоний Нигр (ветеран-гладиатор, выступавший во фракийском вооружении 18 лет). Теперь он пытался обнять скорбящего вдовца – мешал огромный живот – и утешить его. Хриплый голос ветерана разносился по всему кладбищу: «Видишь дорогой мой, как здесь стало намного лучше. Смотри, уже и памятник установили. Раньше было намного хуже. А надпись какая трогательная!» – Бывший гладиатор высморкался, откашлялся и громко прочитал: «Была у меня жена Атистия, женщина достойнейшая жила, останки тела которой, все, что осталось, находится в этой хлебной корзине» – И опять слезы полились у безутешного Гая Цестия Эпулона. Марк Антоний Нигр сопел, переминаясь с ноги на ногу. Он устал. Хотелось выпить. Ветеран терпел. Он стал читать про себя надписи на соседних могилах – совсем недавно он стал дальнозорким, и ему это даже немного нравилось. На бегах он теперь четко видел момент финиша, а во время гладиаторских боев все подробности схватки. И он громко орал, что победили зеленые, а не синие, и, с силой толкая соседа в бок, сипел тому в ухо, почему сейчас фракиец не рубил, а колол. Да, и Марк Антоний Нигр и Гай Цестий Эпулон были болельщиками. Когда-то Эпулон болел за Нигра – тот выходил на арену, неся огромное тело, ревел: «Ave» – и бил. Как он бил! Теперь таких бойцов уже нет… А потом они уже болели вместе. Конечно, за фракийцев. А на бегах за Марка Аврелия Полиника. За настоящего парня, который сейчас тоже был здесь, на кладбище. Был с ними. Да, Марк Аврелий Полиник, имеющий три миллиона сестерциев, был здесь. «Выгодное Дело быть наездником», – всегда говорил он, лежа в очередной раз с чем-нибудь поломанным, – доход одного наездника равняется доходам ста юристов». Самая блестящая вожжа этого сезона тоже читала надписи. Он умел читать. Неожиданно над его головой прогудело: «Предусмотрительный человек!» – Марк Антоний показывал на соседнюю могилу, на которой было написано: «Луций Цецилий Флор, прожил 16 лет и 7 месяцев. Кто здесь справит малую или большую нужду, пусть на того разгневаются Боги всевышние и подземные». Наездник, давно переминавшийся с ноги на ногу, согласился. Затем он взял за руку отставного гладиатора. Они отошли в сторону. Задумчиво глядя на надпись, «Я запрещаю касаться моих останков! Публий Вероний Каллист, человек наилучший здесь погребен», – наездник облегченно выдохнул: «Они думают, если я миллионер, так я должен быть культурным? Странные люди».
– Глупые люди, – возразил ему Нигр. – Смотри. Ушли уже в могилу, а злость осталась с ними. Вот хотя бы этот… Как там?…
Полиник прочитал: «Богам Манам Гаю Лепидию Юкунду, который прожил три года и два месяца, сделал гробницу Гай Лепидий Феликс, дражайшему сыну, а также и себе, своим вольноотпущенникам и вольноопущенницам и их потомкам, кроме вольноотпущенницы Флетузы, чтобы не был ей дан доступ в эту гробницу». Рядом с этой огромной могилой сидела кладбищенская старуха и жадно ела. Голодный миллионер посмотрел на нее, сглотнул слюну и, продолжая слушать хрипы состарившейся звезды арены, подумал: «Бабка грушу жрет. Чтоб ты подавилась, падла!»
– Жадные! Низкие! – продолжал развивать свою мысль Нигр. – Он думает, все с собой возьмет. Даже в землю. Ни-че-го не возьмешь! Ты меня слушай. Все люди – вот здесь или есть, или будут… О, посмотри на это чудо: «В ширину 22…» – стерлось – «в длину 26» – стерлось – «Марк Камурий Соран, сын Публия, из Ромилиевой трибы. Этот памятник не перейдет к наследнику. Не быть мне здоровым, если я напишу на этом памятнике еще чье-либо имя!». Здоровым! В могиле! Сумасшедший… Чтоб он был здоров… в своей могиле. – Полиник нетерпеливо кашлянул: «Слушай… Пора все заканчивать. Берем Эпулона и идем в „Уголек“.
– Какой «Уголек»? – удивился Марк Антоний.
– А ты не знаешь… – Полиник засмеялся. – Помнишь забегаловку «Восточная» Квинта Бруция?
– Это тот Бруций, который сын Публия? Из Квириновой трибы?
– Ну, да. Бывший торговец говядиной с Бычьего рынка.
– Так что?
– Помнишь, когда к нему прицепились с налогами, вся эта история тут же сгорела.
– Да.
– Так он теперь на том же месте открыл новую под названием «Западная». Это официально. А в городе ее называют «Уголек».
– Ха-ха-ха! Хорошо. «Уголек» – это неплохо.
– Там нас будет ждать Тит Цессоний. Он заказал столик. Все – как надо.
Марк Антоний Нигр задумался: «Цессоний… Ветеран 5 Гальского легиона… Да-а… Ну, пойдем, все-таки… Эпулончик, пойдем с нами, пойдем… Хватит, пойдем… Не она первая, не она последняя… Все там будем… Пойдем… Видишь, рядом тоже люди лежат… С пониманием подошли к этому вопросу: Вон „Богам Манам Секста Перпенны Фирма. Я жил, пока хотел; как умер, не знаю.“ Умный человек. А что же? Или этот: „Богам Манам Тит Флавий Марциал здесь покоится. Что я ел и пил – со мною, что оставил – потерял. Прожил 80 лет…“ Эпулоша, идем в „Уголек“. Пойдем, выпьем. Это останется с нами… Идем…»
Здоровенная лапа ветерана арены нежно опустилась на плечо друга. Впереди уверенно шагал, убегая от могил, наездник. А мимо них неслись последние крики: «…Жил покуда, пил я вволю. Пейте, кто остался жив…», «…Поддерживал я свое существование бокальчиками, шерстью, шкурками. Ты, который читаешь эту надпись, будь здоров, и, когда захочешь, приходи…»
____________________
В «Угольке» было весело. Играла музыка, и громко бил барабан. Тит Цессоний, сын Квинта из Сергиевой трибы, ветеран 5 Гальского легиона, сверкая лоснящейся лысиной, сидел один за столиком немного сонный. Оживился он, увидев Полиника с Нигром и Эпулоном.
– Сегодня Бруцию привезли вино «Альпийское эхо». Я взял. – не здороваясь, сказал он.
– Что это за вино – заинтересовался наездник. Нигр удивленно посмотрел на него:
– Что, ты не знаешь? Выпиваешь это вино, начинаешь рыгать и эхо слышно на все Альпы.
Все посмотрели на Эпулона. Под грохот барабана Цессоний встал: «В память о твоей жене, Эпулон, я пью. Да будет ей земля пухом!» Стукнули стаканы, послышалось бульканье и опять стук стаканов в тишине, накрывшей стол.
«Атистия, – думал Гай Цестий Эпулон, – вот ты умерла, и мне плохо. Но плохо не потому, что ты умерла, а потому, что нет тебя. И слезы льются даже не от того, что нет тебя, а что теперь мне плохо… Как же мне плохо сейчас…»
И всем почему-то было неловко смотреть, как на его щеках с красными жилками, как в дождь, застыло, перед тем, как раскатиться и сползти, несколько грязновато-мутных капель.
– Бедный Эпулон, – вдруг он услышал сквозь барабанную музыку приятный женский голос, повернул лицо и увидел Марцеллину. Она тоже была из их компании. Цестию вспомнилось, как много лет назад, когда он один раз утром пытался выбраться из ее постели – ему пришлось объяснять причину. Причина была – небольшая работа; тогда пухленькая Марцеллина захохотала, легла на него грудью и продекламировала: «Если хочешь поработать: ляжь поспи – и все пройдет!» Сейя Марцеллина и сейчас была недурна, но, конечно, уже не совсем то. Цессонию она, например, не очень нравилась из-за разных причин, и он как-то сказал Полинику: «Женщине пятьдесят лет, а ей кажется, что она все еще конфетка».
До Эпулона донеслось: «…Смотри на вещи так же, как я».
– А как ты смотришь? – неторопливо спросил он. Марцеллина стала хохотать: «Я недавно поставила себе памятник. На нем такая надпись: „Сейя Марцеллина, дочь Тита, себе и Вибеннию Марцеллину, сыну, при своей жизни поставила надгробие. Что хотела, то и могла; что могла, то и хотела“.
– …Надо плюнуть на все. Жалко, конечно, твою жену, но жизнь не остановилась…
Барабан продолжал бить.
Эпулон почему-то вспомнил, как он примерно так же говорил своей матери, когда умер отец, и она, глядя непонимающими круглыми – такие только в детстве и хорошей старости бывают – глазами, говорила: «Как же так? Как же я теперь буду?… – плакала, вытирая слезы, продолжала: – Друга нет…», – и убежденно: – Такого друга больше не будет… Такого дома…
– А где твой сын, Марцеллина? – Полиник спрашивал про друга детства. Она шепотом ему ответила: «У Антония Прима. Тс-с…» Трам-да-да-да-там!… Трам-да-да-да-там!… Трам-да-да-да-там!…
Нигр, наконец, не выдержал, вскочил и заорал: «Что он себе там думает на барабане?!»
Один из посетителей путано жаловался Бруцию, что в зеркале он себя не видит; оно – грязное. На что бывший торговец говядинои флегматично отвечал: «Нормальное зеркало. Сколько ты выпил?»
– Нормально я выпил. Зеркало грязное. Что-то красное виднеется и больше ничего!
– Странный человек! У него красное лицо, и он хочет себя хорошо увидеть. С таким красным лицом! Ну, ты рыба!… Что ты смотришь на меня, как на новые ворота?…
Посетителю перехватило дыхание, а толстый хозяин «Уголька» продолжал: «Только не надо дышать на меня перегаром. Я не переношу этот запах. И сними с головы лушпайку». Посетитель неверными шагами выбрался поближе к хозяину и от всей души объяснил ему, что у него морда, как у пьяной обезьяны, назвал аферюгой и замер в ожидании ответа, держась за дверь. Бруций взял в руки молоток и, немного нажимая на отдельные слова, с намеком сказал: «У тебя дома дети могут вот-вот заплакать. Будь здоров, чтоб ты околел! Вперед! И с песней!»
Ударившись об угол, посетитель вдруг закричал: «Где этот фальшивый император Веспасиан?!…» Огляделся и добавил: «Ник-кого здесь нет? Нас никто не слышит?» – И уже увереннее: «Где он?! Я ему морду набью!!!» Затем умильно попросил: «Только никому не говорите, что я так говорил», – еще раз ударился об угол и вывалился за дверь.
– Вот поперло Веспасиану, что его здесь нет, – хихикнула Марцеллина.
– Настоящий патриот, – с апломбом сказал Цессоний, ударяя еще раз по «Альпийскому эху».
Марк Антоний Нигр и Марк Аврелий Полиник тихо говорили в углу о политике.
– Я тебе говорю, никто не видел еще такого зрелища, – горячился бывший гладиатор. – Это было красиво. Представь только себе…
____________________
Облаченный в черную одежду спускался император Авл Вителлий с Палатина. Раз у него подвернулась нога, и он чуть не упал. Один Вителлий уходил от власти. Вокруг было много людей. Они смотрели на императора. На уходящего императора, вокруг которого была пустыня. Вителлий уходил от власти при своих же солдатах, уходил, не стыдясь присутствия женщин.
Какой рев вокруг!… Толпа… Это римский народ…
– Не уходи!
– Вернись!
– Вернись!!!
Вителлий шел очень медленно. Остановился. В первый раз поднял глаза.
Ничтожество! Сколько же можно!
Еще несколько шагов сделал август. И вдруг он испугался. Ему было страшно идти дальше.
Надо уйти от них. И тогда я буду жить, и ничего мне Веспасиан не сделает. Надо идти… А я почему-то стою на месте…
Человек в черном стоял. Римские граждане смотрели на него. Неожиданно для всех он вздрогнул, присел, закрыл голову руками. Цезарь прикрылся от удара! Никого рядом с ним не было.
Толпа теперь молча смотрела на Вителлия. Было тихо. Кричали глаза. Их было много. И они все смотрели на человека, который боялся быть римским императором. Смотрели и требовали от него мужества; ждали, что лучший из лучших граждан покажет, что такое римская доблесть.
Толпа требовала, чтоб этот человек отказался. Отказался, от мысли стать частным лицом. Они – эти люди – напоминали зрителей в цирке. Удары мечей, рык бойцов, глухой удар тела о песок арены, черная запекшаяся кровь на колене трупа, откатившегося в сторону – и внезапно для всех гладиатор, на которого столько поставили – столько денег! – весь интерес – поднимает вверх руку: все останавливается, а он расстегивает доспехи и говорит, что не хочет рисковать своим здоровьем, а хочет… Ему хочется погулять по берегу Тибра, забыть обо всем… Дудки! Играй до конца! Билеты никто не вернет, а деньги уплачены. Играй до конца, тебе говорят!!!
– Вернись на Палатин!!!
– Вернись!!!
– В общем, Вителлин колебался, колебался и – таки вернулся во дворец.
– Вот такое вот, Полиник. – Нигр плюнул. – Знаменитое время четырех императоров. – Полиник задумчиво повертел в руках стакан. Он слушал.
– … Жена Луция Вителлия Триария опоясалась солдатским мечом. Она сама убивает, а ноздри ее раздуваются от запаха крови и вида трупов…
К ним подошли Эпулон, Цессоний, Марцеллина и Бруций.
– Идемте ко мне в подсобку, – сказал хозяин, – там нам будет спокойнее.
Когда все устроились, Марцеллина поправила прическу, сделала большие глаза и достала письмо: «Это от моего сына. Он пишет, что Прим после взятия Кремоны двинул легионы на Рим». Цессоний почесал бровь, моргнул и почти выкрикнул: – «Идут? Они уже под Римом. Вы же знаете, мой сын у Вителлия. Сегодня вечером… Уже вечером, я говорю… Марцеллина, такое может быть, твой Вибенний и мой Секст – два друга – встретятся… Не делайте этого, Боги…
Раздался стук в дверь.
– Кто это? – прошептала Марцеллина.
– Врач. Он живет на нашей улице. Публий Децимий Эрот Меру-ла со своим охранником Гаем Гавием Квадратом, – открывая дверь и впуская гостей, ответил Бруций.
Вошедшие поздоровались. Цессоний недовольно смотрел на них. Бывший вояка терпеть не мог новых римлян, а эти были к тому же вольноотпущенники. – Почти рабы, – думал он про себя. Ну, а интеллигентов – это новое веяние в старом добром Риме – он вообще не переваривал. Отставник всегда тяжело сходился с людьми, а тут… Бывшие рабы… Но это были соседи… Врач, как врач, а Квадрат ему был даже немного симпатичен своей, можно сказать, римской силой… Да, ведь он уже не варвар, он живет в Риме…
Мерула устало помассировал веки. Бруций спросил его: «Уже?» Врач кивнул. Ему надоело удивляться и не хотелось говорить. Что толку? И так все известно: флавианцы не позже, чем завтра войдут в Вечный город. Удивляться чему-то?… И все же… Все же Мерула кое-чего не мог понять…
Самое поразительное, но в этой войне сражаются же не настоящие враги, а хорошо знающие друг друга граждане…
Публий Децимий Эрот Мерула негромко и мягко стал говорить – он спрашивал, он думал вслух.
– Квадрат был в лагере, и у тех и у других. Я не понимаю солдат, у них нет вражды друг к другу… И прекрасно сознают, что они всего лишь кости в игре честолюбивых командиров… Я видел начало боя… С каким ожесточением римские легионеры резали и убивали Друг друга… И все это на глазах своих жен и детей… Сколько людей там смотрят на все это. И это тоже зрелище… Настоящее… И сейчас тоже… Я не знаю… Может… Да… Поистине велика сила военной дисциплины!…
– Что ты понимаешь в воинской дисциплине?! Варвар! – Цессоний задыхался. – Варвар… Римская военная дисциплина! Это… Это же… – по грубому лицу ветерана римской армии текли слезы. Он – владыка вселенной дожил до…
– Варвар!…
– Оставьте его… Ничего, это пройдет… – врач повернулся к Бруцию. – Когда флавианцы войдут в город, будет резня. Что-то надо придумать. У меня дочь. Да…
– У Марцеллины сын служит в иллирийских легионах Антония Прима, – тихо сказал Эпулон.
– Сын Цессония у Вителлия, – маленькие глазки Нигра смотрели, как в молодости: на арене перед ударом – настороженно, цепко. – Пусть пойдет Марцеллина. Ее не тронут.
Марцеллина улыбнулась: «Мерула, если ты выживешь, у тебя будет много работы… В основном, тяжкие телесные повреждения, как называл это один мой знакомый юрист, и последствия от изнасилований».
– Да, я хорошо заработаю, если выживу… Да… И если будет, чем платить.
– Все-таки ты не настоящий римлянин, Мерула. Работа! Пусть работают рабы. – Марцеллина смеялась. – Мерула! Запомни: лучше отдыхать летом, чем работать зимой. Ха-ха-ха! Ха-ха… Ну, ладно, Бруций, дай мне что-нибудь съестное, я пойду…
____________________
Наступила ночь. Но даже темень не смогла разнять сражающихся. Яростно рубили и рубили они и не могли остановиться, хотя знали, что от ударов падают не враги, а римские легионеры… Вдруг флавианец узнавал в противнике знакомого, они останавливались, рассказывали последние новости, о том, что дома, а затем один убивал другого… Ни голод, ни усталость, ни мороз, ни темнота, ни раны, ни кровавая баня, ни вид трупов, лежавших на этом поле, не прекращали бойни. Страшная тяжесть давила на обе армии. Нет, не память о прежнем поражении и не сожаление об огромном числе бессмысленно погибших. Одни хотели победить, а другие не хотели быть побежденными, как будто они сражались с чужими, а не с братьями, как будто этот момент должен был решить – умрут они или попадут в рабство. Истощенные, нуждаясь в покое, они отдыхали один момент и даже беседовали друг с другом, а в следующий момент они уже снова бросались друг на друга.
____________________
Звезд почему-то не было видно в эту ночь. Черное небо и темно-серые облака. Когда снова взошла луна… Луна взошла. Богиня луны Селена – добросовестная женщина. Пока с ней ничего не случится, она будет выполнять свой долг. Снова и снова… Пока с ней ничего не случится.
Когда снова взошла луна и много больших и малых облаков неслось по небу, часто заслоняя его, тогда можно было видеть, как они то сражались, то стояли, опершись на свои копья, то сидели на земле, выкрикивая, с одной стороны, имя Веспасиана, с другой – Вителлия. Все были знакомы. Разговоры были интимными и не очень. Кто-то кого-то хвалил, а кто смеялся.
Вителлианец с перевязанной головой всех смешил. Осколочек республики засел у него в пальце, и хотя иголка гражданской войны расковыряла все, что можно было расковырять, эту занозу еще не удалось вытащить. Он пытался кричать, рвал горло, а получалось орущее молчание – сорвал голос – но иногда прорывалось какое-то шипение, в котором можно было разобрать: «Товарищи сограждане! Что же мы делаем? Из-за чего мы сражаемся?…»
Можно подумать!… Хохот стоял над полем. Это смешно: под черным небом много людей и все смеются. Смех был немного надорванный. Шутили теперь многие: «Иди ко мне».
– Нет, уж ты иди ко мне.
– Ну, иди, иди ко мне!
– Иди, иди.
____________________
Из города ночью приходили женщины и приносили вителлианцам пищу и питье. Их было много, они искали своих, а не найдя, подходили к живым.
Марцеллина искала Секста – сына Тита Цессония. Своего сына она не надеялась найти – в лагерь флавианцев пройти было сейчас невозможно. Она шла среди вителлианцев – живых и мертвых. На поле был перерыв. Перерыв на обед. Обед или ужин, или завтрак?… Обед, наверное… был у вителлианцев, а они не только ели и пили сами, но предлагали и своим противникам – почти все знали и узнавали друг друга.
Марцеллина увидела наконец того, кого искала. С ввалившимися глазами, с перевязанной головой он напряженно куда-то всматривался. Увидев соседку, он молча взял у нее узелок, развязал его. Она торопливо передавала ему приветы от отца, знакомых, спрашивала, как он себя чувствует; интересовалась, что ему еще принести. Секст выпил залпом стакан вина, поскреб ногтями отросшую щетину. Затем, не говоря ни слова, остановил обиженную таким невниманием Марцеллину и вышел вперед, держа в руках все продукты, которые она принесла. Рядом с ним было тихо: в нем узнали того, с замотанной головой, кто смешно шутил. Какой-то визг полетел к флавианцам: «Вибенний! Вибенний! Это же ты! А это я – Секст!… Вибенний, здесь твоя мать! Марцеллина здесь!… Вибенний, это все она принесла. Вот! Вот!… Возьми, товарищ, ешь. Это не меч, а хлеб. Вот бери, это не щит, а стакан вина я тебе предлагаю, чтобы, если ты меня убьешь или я тебя, – нам было бы легче умирать, и чтобы мы прикончили друг друга не утомленной и обессиленной рукой. Такие поминки устраивают нам Вителлий и Веспасиан, прежде чем они заколют нас как жертву за упокой уже павших душ».
____________________
Цирк, как всегда, был забит до отказа. Бега – есть бега. Что бы себе кто не думал – это бега. Эпулон, Нигр, Бруций, Мерула и Квадрат сидели, как обычно, на 21 трибуне. Полиник был участником, а Марцеллина – это уже никого не удивляло – опаздывала. По проходу мимо них протопали легионеры Антония Прима.
– О! Парни нашего города! – с кислым энтузиазмом сказал Мерула. – Чтоб они только головы себе поломали!
– Что ты так переживаешь? В моем «Угольке» тоже переломали все. А что делать? Жизнь такая. – Бруций сплюнул.
– Вы что думаете, уже все? – Цессоний прикрылся рукой от солнца. – Около цирка кто-то кричал, что его убивают. Город не узнать. Безобразный город стал… Ты хоть взял что выпить?… Бруций!
– Берите виноград! Смотрите, какой красивый виноград!… Ви-иногра-ад! Кому-у виноград…
– А?… Да, взял. Старый пьяница, не можешь не попьянствовать?… Ну, как вино?…
Что-то булькнуло… Потом Цессоний ответил: «Как моя жизнь».
– Когда они уже начнут? – У Эпулона начали стучать колени. Нигр смотрел на Квадрата и думал: «И чего он молчит все время… А руку ему, видно, перебили, когда насиловали дочку Мерулы. Симпатичная девочка… И ножки хорошие. Жалко…» Нигр откашлялся, огляделся, еще раз откашлялся. Потом спросил Мерулу о дочери. Врач смотрел на арену. Не поворачиваясь, он ответил бывшему гладиатору: «А как она может себя чувствовать после Вибенния и его четырех приятелей?… Он, оказывается, ее давно любил. А! Что я могу иметь против него? Приличный римский парень: два раза убил; три раза изнасиловал – больше ничего не было… Настоящий защитник нашего квартала… О-о, вот и Марцеллина. Как ты сегодня вовремя пришла?… А что это за синяк под глазом?
– А… Пустяки, Вибенний искал свою торбу.
– Что за торба?
– Ну, он в нее все барахло, которое награбил, запхал. О видели, бы вы эту торбу! Как цирк! Весь Рим можно запихать. Настоящая мечта оккупанта. Да! Как вам понравится? Воды нет. Со всеми этими делами можно завоняться. Я только успела принять ванну, и вода кончилась.
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.








































