Текст книги "Ущелье дьявола"
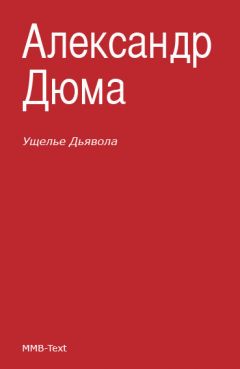
Автор книги: Александр Дюма
Жанр: Литература 19 века, Классика
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 12 (всего у книги 20 страниц)
XXXVII
Любовный напиток
Самуил прошел в свою лабораторию. Смесь, которую он поставил на огонь, кипела. Пока она уваривалась, он взял кусок хлеба и стакан воды и стал есть. Перекусив, он достал пузырек, влил в него полученный отвар и положил его в карман. Затем посмотрел на часы. Было три четверти пятого.
– У меня есть еще три часа.
Самуил взял книгу и погрузился в чтение, иногда он прерывался и писал длинные заметки. Время летело, а он не переставал читать и записывать. Наконец, он прервал свое занятие.
– Теперь, – сказал юноша, – кажется, пора. – И опять вынул часы. – Половина восьмого. Хорошо.
Он встал, миновал конюшню и поднялся по пологому проходу без факела, не ощупывая стен и так уверенно, будто бы шел днем по большой дороге. Потом остановился и прислушался. Убедившись, что вокруг тихо, он сместил особым образом каменную глыбу, которая отошла в сторону, открыв проход. Самуил вышел – он очутился позади домика пастушки, на том же месте, где появился утром, поразив этим Гретхен и Христину.
Близилась ночь. Гретхен еще не загнала коз. Самуил вынул из кармана ключ, открыл дверь домика и вошел. Там, на сундуке, лежал кусок хлеба – ужин Гретхен. Самуил взял хлеб, капнул на него три капли жидкости из пузырька, который принес с собой, и положил его на прежнее место.
– Для первого раза достаточно и такой дозы, – прошептал он. – Завтра я приду в это же время и удвою порцию.
После этого незваный гость вышел и запер за собой дверь. Но, прежде чем вновь спуститься в подземелье, он обернулся и остановился. Слева от него стоял домик Гретхен, справа – замок, слабо обрисовывавшийся в вечернем сумраке; только окна комнаты Христины ярко светились на темном фасаде здания.
– Да! – воскликнул он. – Обе вы находитесь под действием моих чар, и теперь вы в моих руках! Я ворвусь в вашу жизнь, когда мне будет угодно, – так же, как теперь вхожу в ваши комнаты. Я настоящий хозяин и этого замка, и этой скалы, а потому хочу быть господином и обитательниц замка и скалы – черноволосой Гретхен, суровой и дикой, как ее лес, и белокурой Христины, нежной и обворожительной, как ее высеченный из камня дворец.
Я хочу! Теперь я уже не могу отступиться! Моя воля стала для меня законом, а для вас – неизбежностью. Вы сами виноваты! Зачем до сих пор вы своей мнимой добродетелью старались уязвить и даже подавляли мою так называемую порочность? Зачем ваша ложная слабость презирала, оскорбляла и старалась уничтожить то, что я называл своей силой, – покарай меня Бог! И это мучение длится уже больше года! Возможно ли, чтобы я поступился гордостью в этой страшной борьбе между вами и мной? Я никого на свете не боюсь, кроме самого себя; могу ли я из-за каких-то двух загордившихся девиц отречься от самоуважения?!
Кроме того, ваше поражение необходимо мне, подобно Иакову, для противоборства с Духом Божьим. Я хочу в первую очередь себе доказать истину, что человек господствует над добром и злом и обладает такой же властью, как и само Провидение, и даже наперекор ему может довести до грехопадения чистейшие души и сокрушить самую твердую волю.
Наконец, секрет неограниченной власти таится, быть может, в той любви, которую я требую от вас. Большой оригинал, самоуверенный Ловелас усыпляет ту, которую желает покорить. Но я не усыплю, я пробужу тебя к жизни, Гретхен! Сладострастный, загадочный маркиз де Сад стремится к идеалу предвечного разума через муки плоти. Скорбь твоя поможет мне овладеть и телом, и духом твоим, Христина! И увидим тогда, оправдает ли себя алхимия!
Да и что же это на самом деле? Я, кажется, стараюсь найти оправдание своим поступкам? Тьфу, пропасть! Я не узнаю себя! Черт возьми! Причиной всему – мой характер, quia nominor leo…[13]13
Ибо я лев (лат.).
[Закрыть] А вот и Гретхен возвращается домой!
Действительно, в слабом мерцании звезд появилась цыганочка, она гнала к дому своих коз; девушка казалась задумчивой, рассеянной, голова ее совсем поникла.
«Эта уже думает обо мне!» – отметил про себя Самуил.
В это же время в замке открылась балконная дверь, и острый взгляд Самуила различил Христину, которая вышла на балкон, облокотилась на перила и подняла свои прекрасные голубые глаза к темному небу.
– А та, вероятно, думает о Боге, – продолжал Самуил, покусывая губы. – О! Раньше, чем эти звезды зажгутся снова, я заставлю ее думать обо мне, думать о человеке, который за одни сутки сумеет переместить население целого города и убить душу. – И он исчез в скале.
XXXVIII
Сердечные и денежные беды Трихтера
На следующий день, в десять часов утра, Самуил вошел в гейдельбергскую гостиницу «Ворон» и осведомился, дома ли Трихтер. Услышав утвердительный ответ слуги, которому был задан вопрос, он поднялся в комнату любимого фукса. Трихтер несказанно обрадовался приходу своего сеньора. Он даже выронил из рук огромную трубку, которую курил. Прошел год со времени нашей с ним встречи, за это время Трихтер успел значительно зарумяниться. Его физиономия будто хранила оттенок, приобретенный благодаря поглощенному им вину в памятный день дуэли. Его щеки и лоб представляли собой сплошную красную маску. Что же касается носа, то он сочетал в себе все цвета радуги и светился, как рубин, что, вероятно, позволяло его хозяину ночью экономить на свечах.
– Мой сеньор пришел ко мне! – закричал Трихтер. – О! Позволь мне, ради бога, сходить за Фрессванстом!
– Зачем? – удивился Самуил.
– Чтобы разделить с ним честь, которую ты оказываешь мне своим посещением.
– Невозможно! У меня к тебе серьезное дело.
– Тем более! Фрессванст – мой закадычный друг-собутыльник, поверенный моих самых задушевных тайн, и я ничего не делаю без его участия.
– Говорят же тебе, нельзя! Мне надо, чтобы ты был один. Подай мне трубку, покурим и побеседуем.
– Выбирай любую.
И хозяин указал на огромный ряд трубок, висевших на стене по размеру. Самуил выбрал самую большую, набил ее и закурил. Во время этой процедуры он спросил Трихтера:
– Скажи, пожалуйста, с каких пор у тебя возникла такая привязанность к Фрессвансту?
– С той самой нашей дуэли, – ответил Трихтер. – Я люблю его, как побежденного врага. Он олицетворение моей победы, которая постоянно сопутствует мне, с которой я всюду иду рука об руку. К тому же он, по правде сказать, добродушнейшее существо на всем земном шаре. Он вовсе не завидует моим преимуществам, скорее он злится на Дормагена. Он не скрывая презирает его, из-за того что Дормаген не дал ему выпить тогда две капли предложенного тобой средства. Он говорит, что ты спас мою честь, а Дормаген спас ему только жизнь. Он этого никогда ему не простит. Тебя же он глубоко уважает. Даже завидует тому, что я твой фукс. Он не пожелал после всего этого оставаться фуксом Дормагена. И поскольку уже не мог сделаться твоим фуксом, то подружился со мной, и мы стали неразлучны. Теперь мы с ним превратились в фуксов-собутыльников. Мы ведем бесшабашную жизнь, а свою симпатию друг к другу выражаем шутливыми вызовами на винные поединки. Кстати, это нам служит и упражнением на случай дуэли.
– Мне кажется, что вы уже достаточно наупражнялись! – заметил Самуил, выпуская клубы дыма.
– О! Это еще что!.. С тех пор мы сделали такие успехи, что ты удивишься. Поверь моему честному слову!
– Я верю твоему сизому носу. Но, послушай, эти беспрерывные возлияния, вероятно, порядком истощают ваши кошельки?
– Увы! – жалобно промолвил Трихтер. – В этом-то и беда, что параллельно с опустошением бутылок идет и опустошение карманов. За три первых месяца мы влезли в крупные долги. Но теперь уже перестали брать в долг…
– Почему?
– Да потому что нам уже не верят на слово. А кроме того, мы нашли способ пить сколько угодно бесплатно!
– Ого! – отозвался Самуил недоверчиво.
– Тебе это кажется невероятным? Так слушай. Вот наша тактика в двух словах: мы спорим. Поскольку мы выигрываем все пари, то зрители и оплачивают расходы. Но и этот честный источник может в конце концов иссякнуть. Увы! Мы слишком сильны! Уже мало кто решается тягаться с нами. Нас боятся. Несчастные мы создания! Все поражаются, глядя, как мы пьем. И я предчувствую, что настанет тот печальный день, когда не найдется уже ни единой души, которая бы держала за нас пари; я просто ума не приложу, как и где мы тогда будем пить? – И Трихтер печально прибавил: – А мне совершенно необходимо пить!
– Так ты очень любишь вино? – спросил Самуил.
– Не само вино, а то забвение, которое оно несет…
– А что же ты стараешься забыть? Свои долги, что ли?
– Нет, поступки, – ответил Трихтер голосом, полным отчаяния. – Ах! Я такая гадина! У меня есть мать – она живет в Страсбурге; мне бы надо работать, чтобы помогать ей. А вместо этого я сижу у нее на шее. Подлец я, вот кто! Кто должен был кормить ее после смерти отца? Ведь я, правда? Ну а я, мерзавец, подумал, что у меня есть еще дядя, брат моей матери, поручик в армии Наполеона. Вот он-то и кормил ее. А два года тому назад его убили. Тогда уж у меня все аргументы были исчерпаны, и я сказал себе: «Ну теперь, прохвост, наступила твоя очередь кормить мать!» Но, к несчастью, дядя оставил нам небольшое наследство, и вот я, вместо того чтобы посылать матери деньги, еще и сам стал просить у нее. Наследство было маленькое и растаяло быстро, тем более что я почти все пропил, так что не осталось ни крошки, ни капли. Вот видишь, какой я отъявленный негодяй! Я говорю все это, чтобы объяснить причину моего беспробудного пьянства: я пью, чтобы забыться. Я вовсе не желаю, чтобы ты меня считал скотиной и пьяницей, какой-то мерзкой губкой, винным насосом. Я просто-напросто жалкая тварь!
– Однако, – сказал Самуил, – как же ты думаешь выпутаться из этого положения?
– Не знаю, ничего не знаю. Как сумею, так и выпутаюсь. Я готов на все. Ах! Чтобы добыть матери кусок хлеба, я готов расстаться с жизнью, если это понадобится, и умру с радостью.
– Ты говоришь это серьезно? – спросил задумчиво Самуил.
– Очень серьезно.
– Я запомню твои слова. Но прежде чем дойти до такой крайности, почему ты не обратился к Наполеону, раз брат твоей матери был убит, когда служил в его армии? Он обладает похвальным качеством всех великих людей, то есть умеет награждать тех, кто у него служит. Он, может быть, назначил бы твоей матери пенсию или дал бы какое-нибудь место, чтобы у нее было на что жить.
Трихтер гордо поднял голову.
– Я немец, разве я могу обращаться с какой бы то ни было просьбой к тирану Германии?
– Ты немец, это прекрасно, но мне помнится, что ты говорил, будто твоя мать – француженка.
– Она действительно француженка.
– В таком случае муки твоей совести несколько преувеличены. После поговорим еще об этом. А пока самое главное – заплатить твои долги.
– Ах, я давно отказался от этой несбыточной мечты!
– Никогда ни от чего не следует отказываться. Как раз по этому поводу я и пришел поговорить с тобой. Кто из твоих кредиторов самый свирепый?
– Ты и представить себе не можешь – кто! Это не трактирщик, – ответил Трихтер. – Трактирщики – те уважают меня, берегут, стараются привлечь к себе, как редкого клиента, как труднодостижимый идеал, как потребителя вина, достойного всеобщего поклонения. От моих поединков они имеют колоссальный барыш, кроме того, вполне естественно, что у меня появляется масса подражателей. Я создал целую школу пьянства. Не говоря уже о том, какой фурор производит в винном погребе одно только мое присутствие. Я служу им приманкой, украшением, роскошью, и один антрепренер по устройству танцевальных вечеров предлагал мне платить по тридцать гульденов в неделю с условием, что я позволю ему печатать в афишах объявление: «Сегодня Трихтер пьет». Гордость не позволила мне принять это предложение, но, надо сказать, я был польщен. Нет-нет, меня преследуют совсем не трактирщики. Самый беспощадный кредитор – это Мюльдорф.
– Портной?
– Он самый. Под тем предлогом, что он одевает меня уже семь лет, а я не заплатил ему еще и за первую пару, этот подлец изводит меня. Первые шесть лет я поступал следующим образом: он, бывало, принесет мне счет, а я вместо уплаты заказываю ему тотчас новый костюм. В последний же год он совершенно отказывается одевать меня. Мало того, он нахально меня преследует! Третьего дня я шел мимо его лавки, а он, мерзавец, выскочил на улицу и начал выговаривать при всех, что платье, надетое на мне, не мое, а его, потому что я за него не заплатил, и даже занес было руку, будто намереваясь схватить меня за шиворот.
– Неужели он позволил себе так забыться? Разве он не знает о привилегиях университетских студентов?
– Будь спокоен, – сказал Трихтер, – я так внушительно посмотрел на него, что он живо поджал хвост. Я ему прощаю. И понимаю ярость этого лавочника, который приходит в отчаяние от долгого ожидания уплаты круглой суммы и от невозможности даже подать в суд благодаря существующим университетским законам, запрещающим филистерам открывать нам кредит. К тому же он не осуществил своего намерения.
– Однако он занес руку! – вскрикнул Самуил. – И непременно должен быть наказан!
– Да следовало бы, разумеется, но…
– Что но?.. Я выношу ему следующий приговор: выдать тебе расписку в погашении твоего долга, продолжать шить тебе одежду и, кроме того, уплатить тебе крупную сумму. Идет?
– Еще бы! Превосходная идея! А ты что, всерьез это говоришь?
– А вот увидишь! Дай-ка мне все для письма.
Трихтер сконфузился и почесал затылок.
– Ну, давай же скорее! – настаивал Самуил.
– Видишь ли, в чем дело, – проговорил Трихтер, – у меня нет ни чернил, ни пера, ни бумаги.
– Так позови прислугу. Все это наверняка найдется в гостинице.
– Не знаю, ведь это студенческая гостиница. Я, впрочем, никогда ничего этого не спрашивал.
На звонок Трихтера явился мальчик-слуга и сбегал за всем необходимым.
– Подожди немного, – остановил мальчика Самуил. Он написал:
«Любезный господин Мюльдорф! Некий ваш друг предупреждает о том, что ваш должник, Трихтер, только что получил от матери пятьсот гульденов».
– Ты пишешь Мюльдорфу? – спросил Трихтер.
– Да, именно ему.
– А что ты пишешь?
– Предисловие или, так сказать, вступление к комедии или драме.
– Вот как, – пробормотал Трихтер, не понимая еще, в чем дело.
Самуил заклеил письмо, написал адрес и отдал письмо мальчику.
– Отдай письмо первому встречному мальчугану, а также эту монету за услугу; он передаст письмо, не сообщив, кто отправитель.
Слуга убежал.
– А ты, Трихтер, отправляйся сию же минуту к Мюльдорфу, – продолжал Самуил.
– Зачем?
– Заказать себе полное обмундирование.
– Так ведь он потребует с меня денег.
– Да, потребует. А ты пошлешь его к черту.
– Гм! Он, чего доброго, не на шутку рассердится, если я приду и стану дразнить его.
– А ты обругаешь его, выведешь из себя.
– Но…
– Это что еще за новости? – возмутился Самуил. – С каких это пор подчиненный фукс позволяет себе противоречить своему сеньору? Я руковожу тобой, следовательно, тебе нечего смотреть самому: за тебя смотрят мои глаза. Ступай к Мюльдорфу, веди себя там совершенно бесцеремонно и грубо и моли бога, чтобы Мюльдорф на этот раз действительно вцепился тебе в загривок.
– Неужели я должен снести подобное оскорбление? – спросил обиженный Трихтер.
– Нет! На этот раз ты волен поступить как тебе заблагорассудится! – сказал Самуил. – Я даю тебе полную свободу действий.
– Прекрасно! – воскликнул победно Трихтер.
– Захвати же с собой трость!
– Еще бы, разумеется!
Трихтер взял трость и стремительно вышел из комнаты.
«Вот как начинаются все большие войны! – подумал Самуил. – И всегда из-за женщины! Христина будет довольна».
XXXIX
Что может сделать один против троих
Пять минут спустя Трихтер уже входил к Мюльдорфу, заломив шапку набекрень, с вызывающим и свирепым выражением лица, как бы предчувствуя, какой прием устроит ему портной. Мюльдорф встретил его с приятной улыбкой.
– Будьте любезны, садитесь, дорогой господин Трихтер, – сказал он, – я в восторге, что вижу вас.
– Вот как! – отозвался Трихтер. – А знаете, зачем я пришел?
– Догадываюсь, – ответил, потирая руки, портной.
– Я пришел заказать себе костюм.
– Чудесно! А когда он вам нужен?
– Сейчас же, – заявил Трихтер, не обращая внимания на любезный тон портного. – Снимите поскорее с меня мерки.
Портной приступил к работе. Окончив, он сказал:
– В субботу будет готово.
– Хорошо. Тогда пришлите костюм мне, – проговорил Трихтер и сделал шаг к двери.
– Вы уходите? – удивился Мюльдорф.
– А зачем же мне оставаться?
– Я вовсе не прошу вас остаться, но надеюсь, что вы оставите мне что-нибудь.
– А именно?
– Сотню гульденов – так, сущий пустяк в счет нового заказа.
– Дорогой мой Мюльдорф, – возразил Трихтер, – вы были очень любезны со мной сегодня и столь мило сняли с меня мерки, что я не хочу отвечать так, как ответил бы всякий порядочный студент на столь низкое требование. Я не обижаюсь на него только из-за того, что вы мне шили платье в течение семи лет и еще сошьете к субботе. Я вас прощаю.
– Простите и дайте мне руку, – сказал Мюльдорф.
Трихтер пожал руку портному.
– Руку на прощание дам, пожалуй, если хотите, но больше дать ничего не могу – у меня нет ни гроша. – И он направился к двери.
Мюльдорф загородил ему путь.
– Нет ни гроша! – воскликнул он. – А как же те пятьсот гульденов, которые прислала вам ваша мать?
– Пятьсот гульденов? Моя мать? – повторил за ним Трихтер. – Ах, какая милая шутка! Мюльдорф, вы решительно начинаете умнеть!
– Это значит, – отозвался Мюльдорф, стараясь сдержать свой гнев, – что вы не только не платите по старым счетам, так еще пришли сюда издеваться надо мной, заказывая новые костюмы?
– Это значит, – возразил Трихтер, начиная раздражаться, – что вы ради насмешки приняли меня с такой якобы почтительностью и так услужливо сняли с меня мерки?
– Так это письмо только розыгрыш? – взвизгнул Мюльдорф и, взяв с конторки письмо Самуила, поднес его к самому носу Трихтера.
Трихтер бросил на письмо пылающий взор.
– Так вы обещали сделать мне полный костюм к субботе, – прорычал он, – только потому, что думали, будто у меня карманы битком набиты деньгами, а вовсе не из осознания той чести, которую я вам делаю, заказывая вам одежду? – И он потряс в воздухе своей железной тростью.
Мюльдорф, в свою очередь, схватился за линейку.
– Я говорю не о том платье, которое я собирался вам шить, а о тех костюмах, которые я вам уже сшил и которые вы должны или оплатить, или вернуть!
Он начал наступать на Трихтера с поднятой линейкой. Не успел Мюльдорф хорошенько замахнуться, как на него опустилась трость Трихтера. Мюльдорф завизжал, отскочил назад, высадив при этом два стекла в витрине, и снова набросился на Трихтера, трость которого продолжала свистеть в воздухе. На крики портного прибежали соседи – колбасник и сапожник. Возмущенный Трихтер угодил портному концом трости в глаз и ничуть не испугался количества своих врагов. Но вдруг он почувствовал, что кто-то укусил его за левую икру; эту атаку он уж никак не мог предвидеть и предупредить. То была собака колбасника, поспешившая к своему хозяину на выручку. Трихтер инстинктивно нагнулся, чтобы посмотреть, что случилось. Трое его соперников тотчас же воспользовались удобным моментом и вышвырнули его за дверь. Толчок был так силен, что доблестный Трихтер угодил в лужу и барахтался там вместе с собакой, так как отважное животное решилось бороться до конца и не разжало зубов. Но, падая, он заметил двух фуксов, проходивших по улице.
– Ко мне, друзья! – заорал он благим матом.
XL
Студенческий остракизм
На зов Трихтера подбежали двое фуксов, освободили товарища от собачьих зубов и, поняв без слов, в чем дело, обрушились на лавку портного. То была отчаянная схватка, шум которой не замедлил привлечь прочих соседей и студентов. Драка угрожала превратиться в общую потасовку, как вдруг явилась полиция. Трихтер со своими приятелями оказались стиснутыми с одной стороны лавочниками, а с другой – полицией. Их доблестное сопротивление оказалось напрасным, положение было отчаянным – пришлось уступить. Нескольким студентам удалось вырваться, Трихтер же и два других фукса были арестованы. Им скрутили руки и отвели в тюрьму. К счастью, тюрьма находилась в двух шагах, потому что студенты начинали уже собираться группами и даже сделали некую попытку освободить пленников. Но полицейские при помощи лавочников выдержали натиск, и все три фукса были доставлены по назначению.
В городе немедленно распространились слухи об этой свалке и об оскорблении, нанесенном университету. Спустя десять минут об этом обстоятельстве стало известно всем студентам. Аудитории опустели в мгновение ока, и профессорам пришлось читать лекции пустым партам. Студенты стали толпами собираться на улицах. Как же! Арестовали трех студентов из-за размолвки с филистером! Обстоятельство очень значительное, требующее возмездия! Решено было обсудить все это сообща, и все группы направились к гостинице, в которой жил Самуил. Оказалось, что королю студентов уже все было известно. Самуил впустил всех в огромный зал, служивший некогда помещением для коммершей фуксов. Он сам председательствовал на собрании, и каждый студент имел право высказать свое мнение. То было памятное событие, которое, однако, запомнилось не выдающимися ораторами. Как и следовало ожидать, все предложенные меры воздействия отличались беспощадностью, грубостью и стремительностью. Но они были единодушно одобрены ввиду исключительного положения дел. Какой-то разбушевавшийся студент предложил даже поджечь лавку Мюльдорфа. Другого с треском выставили из залы за то, что он предложил ограничиться избиением только тех полицейских, которые арестовали Трихтера, и его достойных защитников.
– Задать им хорошую взбучку – вот что! – взревел яростно какой-то фукс. – Нам надо, чтобы выгнали к черту всех полицейских, и этого еще мало!..
Ответом на его слова стал единодушный взрыв одобрения. Затем началось какое-то вавилонское столпотворение, сопровождаемое страшными угрозами и дикими выкриками. Кому-то хотелось, чтобы все гейдельбергские портные понесли наказание за преступление Мюльдорфа; он предлагал собрать всех нищих в окрестностях города и одеть их с ног до головы в готовое платье, изъяв его у портных, и разгромить все их лавки. Один из студентов, чью речь даже хотели напечатать, утверждал, что предыдущее предложение было только слабой пародией на возмездие, поскольку в данном деле замешан не только портной, но и башмачник, и колбасник; что они вздули фуксов из идейных соображений, вымещая на потерпевших ту вековую ненависть, которую питают к студентам все толстосумы. А потому следовало задать трепку не только лавочникам – портным, башмачникам и колбасникам, но и вообще всем городским богачам и что университет не успокоится, пока не разнесет вконец всех этих буржуа. Но месть студентов, как оказалось, не исчерпывалась вышеприведенными мерами. Умы распалялись, раздражение росло…
Тут поднялся Самуил. Воцарилась абсолютная тишина, и председательствующий обратился к присутствовавшим со следующей речью:
– Дорогие господа! Здесь говорились прекрасные вещи, и университету остается только сделать выбор из всех предложенных способов мести. Но пусть почтенные ораторы позволят мне маленькое замечание относительно того, что, быть может, на очереди стоит более важный вопрос, чем месть нашим врагам («Слушайте! Слушайте!»). Он заключается в том, что необходимо сперва освободить наших друзей! (Аплодисменты).
Пока мы здесь разглагольствуем, трое наших товарищей томятся в тюрьме. Они ждут нас и изумляются, что до сих пор мы не пришли к ним на выручку. Они имеют полное право сомневаться в нашей дружбе! (Возгласы: «Браво! Правда! Правда!»)
Уже прошло полчаса, с тех пор как студенты были арестованы, и они до сих пор не освобождены?! (Гробовое молчание).
Начнем с наших товарищей, а затем доберемся и до остальных. («Отлично! Прекрасно! Слушайте!») Выпустим их на волю, и пусть они с радостью примут участие в наказании своих гонителей! (Громкие возгласы: «Ура!»)
Собрание закончилось под всеобщие восторженные крики. Был дан приказ к началу боевых действий. Студенты бросились вооружаться кольями, железными прутьями и ломами. Через четверть часа началась осада тюрьмы. Все произошло так быстро, что полиция не успела даже опомниться. Тюрьму охраняла лишь обычная стража. При виде приближавшейся громадной толпы студентов начальник тюремной стражи распорядился запереть ворота. Но что могли сделать какие-нибудь двенадцать полицейских против четырехсот студентов?
– Вперед! – скомандовал Самуил. – Надо успеть до появления войск. – И, став во главе толпы студентов, вооруженных увесистыми дубинами, он первый подошел к воротам.
– Пли! – скомандовал в свою очередь начальник стражи, и в ту же минуту прогремел залп.
Но бунтовщики не отступили ни на шаг. В ответ раздались одиночные пистолетные выстрелы. Затем, прежде чем стражники успели снова зарядить ружья, двадцать дубин принялись молотить по воротам. Ворота подались.
– Смелей, ребята! – крикнул Самуил. – Еще поддай! Сейчас высадим! Стой!
Он бросил дубину, схватил лом и подпер им ворота. Десять фуксов бросились помогать ему и приподняли одну из створок.
– Теперь жарьте дубинами! – приказал Самуил.
Снова раздались удары двадцати дубин, и ворота окончательно были высажены. В это же время грянул второй залп. Самуил влетел во двор. Какой-то стражник навел на него ружье. Но Самуил, подобно пантере, ловким прыжком налетел на него и ударом лома уложил на месте.
– Долой оружие! – скомандовал он страже.
Но приказ был уже бесполезен, так как студенты ворвались вслед за Самуилом и до такой степени набились во двор, что не было ни малейшей возможности даже шевельнуть рукой, не то что целиться. Кроме убитого Самуилом стражника, на земле валялись еще трое солдат, раненных студентами. Из числа последних семь или восемь человек также были ранены, но сравнительно легко. Разоружив стражу, бунтовщики двинулись к камерам заключенных товарищей и вскоре освободили их. Затем победители начали выбивать окна и двери. Затем – излишняя роскошь – попробовали в качестве эксперимента разрушить кое-где и само здание. В то время как они предавались подобным развлечениям, им дали знать, что академический совет собрался судить главарей погрома.
– А! Нас судит академический совет? – прошипел Самуил. – Хорошо же! Так мы сами сейчас вынесем приговор этому совету. Эй, вы, фуксы, постерегите-ка там, у выхода на улицу! Сейчас начнется обсуждение требований сеньоров.
Сеньоры собрались в приемной зале тюрьмы. Самуил тотчас обратился к товарищам с речью. На этот раз речь его была кратка, воинственна – одним словом, напоминала слог Тацита. Он говорил под доносившийся с улицы гул и отдаленный барабанный бой, и ни один из двадцатилетних «римских сенаторов» не рискнул вставить свое замечание.
– Слушайте! Нам нельзя терять ни минуты. Бьют общий сбор. Сейчас появятся войска. Значит, надо решать немедленно. Предлагаю следующее. У нас есть много вариантов: поджог лавки Мюльдорфа и прочие. Однако чего мы добиваемся? Наказания бюргеров. Ну, так есть средство наказать их получше, чем битьем стекол да поджогом какого-то хлама. Мы можем разорить Гейдельберг в какие-нибудь четверть часа. И для этого нам следует сделать только одно: оставить город. На чьи средства существует город, если не на наши? Кто кормит портных? Те, кто носит их платье. А сапожников? Кто носит сапоги. А колбасников? Потребители их товара. Так лишим купцов покупателей, а профессоров – слушателей! Без нас Гейдельберг – что тело без души, не город, а труп! А! Купчишка отказал отпустить товар студенту? Хорошо! Отныне все студенты откажутся от товаров. И посмотрим, что выйдет! Один из них не хотел продать одному из нас? Так теперь им не придется уже никому продавать! Я предлагаю этот назидательный пример, который будет занесен на страницы истории и послужит хорошим уроком филистерам. Я предлагаю университету уйти из Гейдельберга и лишаю город гражданских прав!
Предложение Самуила было встречено громом рукоплесканий и одобрено единогласно.
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.










![Книга Тайна пляшущего дьявола [Тайна танцующего дьявола] автора Уильям Арден](/books_files/covers/thumbs_100/tayna-plyashuschego-dyavola-tayna-tancuyuschego-dyavola-16549.jpg)





























