Текст книги "Ущелье дьявола"
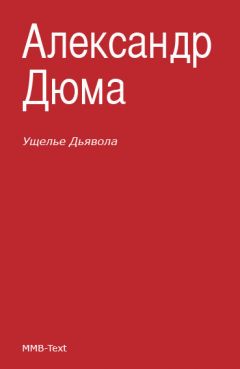
Автор книги: Александр Дюма
Жанр: Литература 19 века, Классика
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 16 (всего у книги 20 страниц)
LII
Генеральная репетиция
В тот день, на который было назначено представление «Разбойников», студенты провели только два часа на лекциях, а затем каждому было предоставлено распоряжаться своим временем, как ему будет угодно. Самуил Гельб хорошо понимал, как возбуждающе действует ожидание. К тому же ему нужно было все подготовить для представления. Поскольку действие в «Разбойниках» происходит чуть ли не целиком в лесу, то декорации имелись уже готовые. Вместо картонных деревьев были настоящие, а для сцен, происходящих в помещениях, заготовили большие, грубо разрисованные полотнища, которые развесили между деревьями.
Гельб тщательно репетировал пьесу. Его актеры были людьми образованными и чрезвычайно охотно взялись за дело. И вот в то время, когда репетиция дошла до сцены с монахом, предлагающим разбойникам полное прощение, если они выдадут своего атамана Карла Моора, Самуилу сказали, что в Ландек прибыла из Гейдельберга депутация от академического совета с какими-то предложениями студентам.
– Приведите их сюда, – сказал Самуил. – Они явились как раз кстати!
Пришли три профессора. Один из них заговорил от лица депутации. Университетский совет предлагал студентам прощение, если они вернутся к своим обязанностям, – всем, кроме Самуила Гельба, который будет исключен из университета.
– Почтеннейшие послы, – ответил им Самуил, – это сцена чертовски походит на ту, которую мы сейчас репетируем! – И, обратившись к студентам-актерам, он произнес монолог из драмы: – Выслушайте то, что правосудие побуждает меня возвестить вам. Хотите ли вы сейчас же, немедленно связать и выдать осужденного злодея? Если так, то вам будет даровано помилование. Пресвятая Академия с новой любовью примет вас на свою материнскую грудь, как заблудших овец, и каждому из вас будет открыт свободный путь к честному труду.
Единодушный взрыв хохота приветствовал это заимствование из Шиллера. Один из профессоров вновь обратился к студентам:
– Господа, мы не затем пришли, чтобы шутить.
– Извините, я говорю вполне серьезно, – возразил Самуил. – Я беру на себя роль Карла Моора и серьезнейшим образом предлагаю моим товарищам принять ваши предложения, уступить меня за такую хорошую цену и вернуться в Гейдельберг к своим регулярным учебным занятиям. Ведь в самом деле, не здесь же, в лесу, они получат дипломы, которых ждут их почтенные родители.
– А мы, – заговорил один из древнейших старожилов университета, – мы, в свою очередь, как полагается истинным разбойникам Шиллера, не выдадим нашего атамана, и нам тем легче это сделать, что мы не рискуем, как товарищи Карла Моора, ни телом, ни душой, ибо нам не угрожают ни ваши пули, ни ваши лекции.
– Но, в конце концов, господа, каковы ваши требования, на каких условиях согласились бы вы вернуться в университет?
– На это пускай ответит Самуил Гельб, – сказал все тот же старый студент.
– Да, Самуил, Самуил! – подхватила толпа.
– Ну хорошо. Каковы же будут требования господина Самуила Гельба?
Тогда Самуил сказал:
– Господа профессора, вы перепутали роли, явившись сюда к нам диктовать условия. Наше дело не принимать условия, а ставить их. Слушайте же. Вот наше решение, и передайте своим коллегам, что оно неизменно. Амнистия для всех и, само собой разумеется, для меня, как и для прочих. Но этого мало. Бюргеры, которые оскорбили Трихтера, должны явиться сюда и принести извинения. В качестве военной контрибуции мы требуем, чтобы долги Трихтера считались погашенными и чтобы сверх того ему было выдано вознаграждение в пятьсот флоринов. Каждому из студентов, пострадавших во время боя, мы присуждаем вознаграждение в тысячу флоринов. Единственно только на этих условиях мы соглашаемся вернуться в Гейдельберг. Если вы скажете «нет», мы скажем «благодарим вас». Трихтер, проводи господ депутатов до границ Ландека.
Три профессора в негодовании развернулись и ушли.
– Продолжим репетицию, господа, – спокойно сказал Самуил своим актерам. – Посторонних просим отойти.
Когда репетиция закончилась, Юлиус сказал Самуилу, что сходит домой и приведет Христину. Несмотря на все свое самообладание, Самуил не смог сдержать радостного восклицания:
– А, она придет! Так иди же, Юлиус, уже смеркается – скоро начнем.
Юлиус ушел, а взволнованный Самуил принялся одеваться. Через час вернулся Юлиус вместе с Христиной. Госпожа Эбербах была встречена студентами со всеми знаками почтения. Ей приготовили особое место в первом ряду, которое устроили так, что она сидела отдельно от других. В полной тишине началось представление.
LIII
Разбойники
Знаменитая драма Шиллера была смелым протестом против старого общества. Карл Моор, сын графа, объявляет войну установленному порядку и становится разбойником именно затем, чтобы самому вершить суд и расправу. Но, преступая закон, он остается таким возвышенным образцом мужества и гордости, что сочувствие зрителя всегда пребывает на его стороне. Эта пьеса была очень популярна в Германии, но особенно ею увлекались молодые и пылкие. В Гейдельберге не нашлось бы ни одного студента, который бы не знал «Разбойников» почти наизусть. Но в этот вечер они смотрели и слушали пьесу так, как будто видели ее впервые.
Первая сцена не произвела особенного впечатления на собравшихся. Ждали Самуила. Но когда на сцене появился Карл Моор, публикой овладело волнение. Высокий рост, широкий лоб, во взгляде горечь, пренебрежение, страсть, презрение к условностям, добродетели, возмущение против тирании общественного уклада – вот каким был Самуил Гельб, игравший Карла Моора. Сам он, вероятно, считал себя выше Карла Моора, потому что вступал в схватку не только с людьми, но с самим Богом, а Христина в то же время размышляла про себя, что недостойный соблазнитель Гретхен на самом деле был гораздо ничтожнее разбойника богемских лесов, потому что в основе всех его поступков лежала не любовь, а ненависть. Но остальные зрители были просто восхищены. Когда занавес поднялся и перед ними предстал Карл Моор, поза и фигура Самуила были так величественны, что раздались рукоплескания. А с каким сарказмом Самуил, расхаживая по сцене, прочитал этот знаменитый монолог: «Как, заточить мое тело в корсет и подчинить мою волю тискам закона? Никогда! Закон? Но он низводит полет орла к медлительности улитки. Закон? Создал ли он когда-нибудь хоть одного великого человека? Истинная мать колоссов и выдающихся людей – это свобода! Поставьте меня во главе таких же людей, каков я сам, и я сделаю из Германии республику, рядом с которой Рим и Спарта покажутся женскими монастырями».
Затем Карл Моор, которого отец лишил своей благосклонности в пользу второго своего сына, восстал против общества, отвергнувшего его, и согласился стать атаманом разбойников. Самуил в эту минуту, без сомнения, думал о несправедливости собственного отца, потому что никогда еще ни одному знаменитому актеру не удавалось с таким чувством воскликнуть: «Разбойники! Убийцы! С этими словами я топчу под ногами закон. Сочувствие – прочь! Сострадание – прочь! У меня нет больше отца и нет больше любви! Идем же, идем! О, я доставлю себе жестокое развлечение».
Самуил произнес это так, что зрители затрепетали. Христине показалось, что Самуил посмотрел прямо на нее. Теперь она раскаивалась, что пришла. Этот разбойник, который покушался на устои общества, приводил ее в ужас. Но внезапно он изменился до неузнаваемости. Мысль о женщине, которую он любил, сверкнула перед ним, как луч солнца в бездне. Его влечет к себе неодолимая сила. Он хочет увидеть свою Амалию. Переодетый, он проникает в отцовский дом. Амалия ведет его в галерею фамильных портретов, не узнавая его, и он боязливо расспрашивает ее обо всех перенесенных ею страданиях. В эту минуту вся надменная жестокость Самуила-Карла обращается в могучую страсть. На глазах у него выступают слезы, когда Амалия, остановившись перед портретом Карла, выдает свое смущение и уходит.
Самуил с таким увлечением, счастьем и торжеством воскликнул: «Она меня любит! Она меня любит!» – что со всех сторон раздались неистовые рукоплескания, а Христина побледнела от волнения и ужаса. Но разбойник удержал слезы, готовые хлынуть. Теперь к нему возвращается вся его сила, и он бросает грозный вызов: «Нет-нет, человек не должен колебаться. Ты, там, вверху, будь чем хочешь, лишь бы мое «я» оставалось мне верным».
Однако Карл Моор снова оказывается во власти нежного чувства, когда Амалия, узнав его, кидается ему в объятия.
«Она прощает меня! Она любит меня! Я чист, как лазурь небес! Мир вернулся в душу мою. Страдание утихло. Ада больше нет. О, посмотри! Дети света со слезами обнимают демонов, которые сами плачут».
Самуил вложил в эти возвышенные слова столько чувства, что Христина против воли была растрогана. На мгновение ей даже показалось, что в мрачной глубине его существа есть что-нибудь похожее на сердце. Но нет, зло гораздо сильнее. Великий преступник не может сойти со своей дороги. Амалия осуждена. Судьба должна свершиться. Любовь Карла не может не быть роковой. Его страшные друзья не потерпят, чтобы он бросил их. Они ставят между ним и его возлюбленной свои окровавленные ножи; они показывают ему раны, полученные ими в борьбе за него; они напоминают ему о его клятвах, о преступлениях, которые его связывают с ними. Они требуют жертву за жертву. Амалия для всей шайки! Вот один из них уже прицеливается в Амалию. Но Карл Моор вырывает у него из рук ружье и поражает возлюбленную собственной рукой.
Христина тихо вскрикнула. Ей показалось, что Самуил выстрелил в нее. Занавес опустился под гром рукоплесканий и криков «браво». Самуила вызывали на сцену снова и снова.
– Пойдем, пойдем домой скорее! – позвала Христина своего мужа.
– Сейчас, – ответил он, – только поздравим Самуила.
LIV
Добродетель, направленная не туда
Увидев Юлиуса с Христиной, Самуил подошел к ним, все еще одетый в свой великолепный сценический костюм. Юлиус горячо пожал ему руки.
– Ты был великолепен! – воскликнул он. – Ты способен осуществить все, что захочешь!
– Ты полагаешь? – ответил Самуил с насмешливой улыбкой.
Христина ничего не сказала, но ее бледность, волнение и молчание говорили за нее. Юлиус, который искренно желал растопить лед между Самуилом и своей женой, отошел в сторону, чтобы поболтать с приятелями. Самуил остался наедине с Христиной. Он заговорил с той почтительной развязностью, под которой обычно прятал иронию.
– Графиня, примите благодарность за то, что удостоили присутствовать при одном из наших развлечений. До сих пор вы не хотели примириться с нами. А между тем ведь все это собственно для вас и устраивалось. Разве не вы пожелали этого? Разве не по вашей просьбе университет переехал сюда, к Юлиусу?
– О, – вздохнула Христина, – люди иной раз раскаиваются в своих желаниях…
– Вы раскаиваетесь в том, что заставили нас переселиться сюда? – сказал Самуил. – Разве эта сутолока уже наскучила вам? Тогда скажите одно только слово, и я уведу отсюда весь этот народ, точно так же, как привел его.
– Вы это сделаете? – с сомнением спросила Христина.
– Когда вам будет угодно – даю слово. К тому же подобные эскапады не должны затягиваться. Нужно, чтобы о них оставалось яркое воспоминание, как от молнии – блеснула и погасла… За всю эту неделю у нас не было ни минуты скуки. Но теперь нам пора уходить. Я освобожу вас от нашего присутствия… Надеюсь, однако же, что оно хоть немного пошло вам на пользу. Юлиуса нужно было расшевелить. Видите ли, графиня, ваш милый муж – это часы, а я при этих часах состою часовщиком! Вот теперь я их вам завел по крайней мере месяца на три.
– Господин Гельб! – прервала его Христина с укором.
– О, простите, я вовсе не думал вас обидеть, я все как-то не могу привыкнуть к тому, что правда может быть обидной. И, однако же, по общепринятым представлениям я был бы, наверно, невежлив, если бы, например, предпринял попытку прочесть ваши мысли и осмелился бы утверждать, что во время этого представления та страсть, которая клокотала во мне, поразила вас своей искренностью и силой.
– О, я признаю это!..
– А если бы я осмелился предположить, что вы захотели бы сравнить эту страсть и этот пыл с мягкостью Юлиуса…
Христина снова прервала Самуила:
– Господин Гельб, в целом мире я люблю только мужа и ребенка. Им принадлежит вся моя душа. Эти две привязанности сполна удовлетворяют мое сердце. Ими оно достаточно богато и никогда не подумает соизмерять свое богатство с богатством других.
– О, каменная добродетель! – с горечью воскликнул Самуил. – Сударыня, подумайте о том, что, если бы у вас было немного меньше гордости и твердости и немного больше гибкости и податливости, вы, быть может, смягчили бы мое сердце, в сущности, более нежное, чем кажется? Почему вам не попробовать хотя бы обмануть меня?
Христина поняла свою ошибку в борьбе с таким грозным противником.
– В свою очередь скажу вам, господин Гельб, что я не хотела вас обидеть.
– Хорошо, не будем больше об этом, – холодно отозвался Самуил. – Теперь мы должны проститься. Ведь я принял на себя обязательство предстать перед вами не иначе как по звуку колокольчика, которым вы призовете к себе вашего покорнейшего слугу. Будьте спокойны: я никогда не забываю своих обещаний.
– Как! Не забываете!.. – пробормотала Христина.
– Нет, сударыня! – ответил Самуил с едва уловимой угрозой. – Я имею несчастье обладать безукоризненной памятью. Вероятно, Гретхен вам кое о чем уже рассказала?
– Гретхен! – вскрикнула, задрожав, Христина. – О, милостивый государь, как вы осмелились произнести это имя?
– То, что было сделано, сударыня, было сделано единственно для вас.
– Для меня?! Вы хотите сделать меня соучастницей подобного гнусного поступка?..
– Для вас, сударыня! – настойчиво повторил Самуил. – Для вас, именно для того, чтобы убедить вас в том, что когда я люблю и когда я хочу, то люблю и хочу до преступности.
К счастью, словно чтобы поддержать Христину, охваченную ужасом, в эту минуту к ним подошел Юлиус.
– Я поздравил твоих актеров и наших товарищей, – сказал он. – Ну, до завтра, Самуил.
– Завтра, Юлиус, нас, возможно, здесь уже не будет.
– Как, разве вы хотите вернуться в Гейдельберг?
– Вероятно.
– Но, я полагаю, ведь ты не примешь условий, предложенных профессорами?
– О, нет, – ответил Самуил. – Но завтра они примут наши условия.
– Это хорошо, – сказал Юлиус. – Ну, да все равно, я постараюсь прийти сюда до вашего ухода и прощаюсь с тобой только на сегодняшний вечер.
Самуил оказался прав в своих ожиданиях. На следующий день университетские депутаты снова пришли в лагерь в сопровождении портного, сапожника и колбасника, которые вздули почтеннейшего Трихтера. Все условия студентов были приняты, в том числе и денежная контрибуция. Три купца принесли извинения от себя и от имени всех горожан. Трихтер был великолепен. Он важно принял счет, подписанный его портным, выслушал речь трех своих супостатов, а потом очень любезно сказал им:
– Все вы шельмы, но я вас прощаю.
Студенты не без сожаления покидали этот чудный лес, где провели столько счастливых дней. Они тронулись в путь после завтрака и к ночи добрались до Гейдельберга. Город был весь освещен. Лавочники стояли у дверей, кидали вверх шапки и испускали самые громкие крики радости, хотя в то же время в глубине души проклинали этих скверных мальчишек, которым всегда приходится уступать. Всю ночь Гейдельберг являл собой картину униженного и в то же время торжествующего города, который после продолжительной осады и голодовки был наконец взят приступом и в который победитель внес в одно и то же время и смущение, и съестные припасы.
LV
Работа судьбы
Прошло два месяца. Осень уже простерла золотое покрывало над лесами и полями, и толстый ковер мертвых листьев заглушал стук колес экипажа, в котором барон Гермелинфельд в серый октябрьский день мчался по дороге из Франкфурта в Эбербах. Если бы не щелканье бича и не звон бубенчиков, то экипаж двигался бы безмолвно, словно летящая ласточка.
Мрачный и озабоченный барон, сидевший, склонив голову на руку, в глубине своей кареты, рассеянно смотрел на деревья и кустарники по обочинам дороги. Вдруг он увидел на вершине холма фигуру человека, который, заметив карету, помчался вниз как стрела и почти упал под ноги лошадям, с криком:
– Остановитесь! Остановитесь!
Несмотря на разительную перемену в чертах лица, барон сейчас же узнал Гретхен. Он велел кучеру остановиться.
– В чем дело, Гретхен? – спросил он с беспокойством. – Видно, что-нибудь случилось в замке?
– Нет, – произнесла Гретхен каким-то странным тоном. – Пока еще Господь бодрствует над нами. Вы вовремя приехали. Я увидела вас сверху и прибежала сюда, чтобы обо всем вам рассказать…
– Только не сейчас, дитя мое, – ласково ответил ей барон Гермелинфельд. – Очень важное и очень печальное событие привело меня в Эбербах и не позволяет мне терять ни минуты. Ты только скажи мне, Гретхен, застану ли я сына у себя дома?
– У себя дома! Что вы называете его домом? – воскликнула Гретхен. – Вы воображаете, что он хозяин у себя в замке? О, это неправда. Он вовсе не хозяин, и жена его не хозяйка. Но, вероятно, она сама позвала вас сюда?.. Скажите, это она вызвала вас?
– Что с тобой, девочка? У тебя бред, лихорадка? – удивился барон. – Я не понимаю, о чем ты. Нет, Христина не звала меня. Я, правда, сам везу детям печальную новость.
– Послушайте, – сказала Гретхен. – В карете вы доберетесь до замка не раньше чем через четверть часа. Пойдемте со мной: я проведу вас к замку за десять минут. По дороге я открою вам все тайны, несмотря на то что моя совесть запрещает мне открывать их. Но из благодарной памяти к пастору, который спас мою мать, я должна спасти его дочь. Я не могу допустить, чтобы барон Эбербах расшиб себе голову о стены этого проклятого замка, не могу допустить, чтобы госпожа Христина сошла с ума, как бедная Гретхен. Я не могу допустить, чтобы дитя, вспоенное моей козой, осталось сиротой. Пойдемте со мной, я все вам расскажу.
– Пойдем, пойдем, Гретхен, – согласился барон, охваченный невольным ужасом.
Он вышел из кареты, велел кучеру ехать к замку и направился за Гретхен по тропинке.
– Я отношусь к вам как к отцу, – сказала Гретхен прерывающимся голосом, – и знаю, что вы мне поможете. Вы знаете, господин барон, как угрожал нам – мне и госпоже Христине – этот ненавистник, этот отверженный, этот Самуил Гельб…
– Да, Гретхен, я знаю. Но, боже мой, в чем же дело? Неужели опять Самуил?..
– Господин барон, – продолжала Гретхен, закрыв лицо руками, – вы знаете, что Самуил Гельб поклялся, что мы обе будем принадлежать ему. И вот… в отношении меня он уже сдержал клятву…
– Как! Гретхен! Ты влюбилась в него?
– О, нет, я его ненавижу! – закричала Гретхен. – Но был роковой день, когда он сумел меня принудить… я не знаю, как сказать… если не любить, то… одним словом, я стала принадлежать ему…
– Но это невозможно!.. В своем ли ты уме?..
– О, если бы я лишилась рассудка! К сожалению, я все еще владею им, как владею и совестью, и памятью. Только одного я не понимаю. Вы человек ученый, господин барон. Просветите же мой темный разум. Господин барон, неужели Бог кротости и милосердия оставил в этом мире под рукой у злых людей такие страшные средства вредить добрым людям, против которых те ничего не могут поделать? Неужели есть адские силы, которые могут привести к преступлению честную и невинную душу? Неужели есть такие колдовские зелья, с помощью которых можно завладеть теми, кто нас презирает?
– В чем дело, дитя мое? Скажи яснее.
– Господин барон, осмотрите вот этот пузырек, который я нашла у себя в хижине на полу.
Барон Гермелинфельд взял бутылочку, которую подала ему Гретхен, вынул пробку и понюхал.
– О боже! – воскликнул он. – Неужели ты пила эту жидкость?
– Когда я помимо своей воли полюбила Самуила, то в этот самый день и накануне все, что я ела и пила, имело тот же запах, как у этой бутылочки.
– О, несчастная!.. О, презренный! – восклицал барон.
– Ну, так что же вы мне скажете, господин барон?
– Я скажу тебе, мое бедное дитя, что твоя воля была сломлена, ты была ослеплена, что вина за преступление всецело лежит на другом. Ты осталась невинной и чистой, несмотря на свое падение.
– О, благодарю вас! – воскликнула Гретхен, сложив руки. – О, мать моя, я не нарушила данного тебе обета! Благодарю тебя, Всевышний! И вас от души благодарю, господин барон!
Но вдруг радость покинула ее, и она мрачно добавила:
– И все же душа моя осталась чиста, а тело – нет… Все же я осквернена.
– Успокойся, бедная малютка! Сами ангелы не чище тебя. Еще раз говорю тебе, что во всем виноват этот негодяй. Тебе даже незачем заканчивать свое признание, потому что об остальном я догадываюсь. Он забрался к тебе ночью. Он воспользовался твоим одиночеством и твоей беспечностью. О, негодяй! Но будь спокойна, мы покараем его.
Гретхен подняла свою печальную и гордую голову, как бы силясь стряхнуть с себя свое горе.
– Не будем обо мне, – сказала она, – а подумаем теперь о вашей дочери.
– Слава богу, Христина живет не в уединенной, открытой хижине, совсем одна, как ты, а в замке, обнесенном высокой стеной и наполненном преданными слугами, которых она всегда сможет позвать и которые защитят ее, если Юлиуса не будет дома.
– Вы так думаете? – проговорила Гретхен с горькой улыбкой. – А разве Самуил Гельб не может открыть все двери замка?
– Самуил Гельб может проникнуть в замок?
– Еще бы! Тот, кто сам строил замок, и не сумеет в него проникнуть!
– Кто сам строил?.. – повторил ошеломленный барон.
– Теперь я могу вам обо всем рассказать, – продолжала Гретхен, – он совершил злодейство, и я теперь могу нарушить клятву, и притом моя маленькая лань, на которой это чудовище могло выместить свою злобу, месяц назад пала… Но вот мы уже подходим к замку. Слушайте внимательно, господин барон.
И тут она рассказала ему, как Самуил строил двойной замок.
– О, какая дерзость! – воскликнул барон. – И Христина ничего об этом не знает?
– Она все знает, но поклялась мне, что сохранит это в тайне.
– Это ничего не значит! И как она не подумала известить меня обо всем? Во всяком случае, Гретхен, я очень благодарен тебе за доверие. Эту бутылочку я оставлю у себя. Теперь злодей у меня в руках.
– Если он попадется вам, то держите его крепче, не выпускайте! – воскликнула Гретхен, глаза которой загорелись гневом. – О, как я ненавижу его и как рада, что имею право его ненавидеть! Мне кажется, что я для того только теперь и живу, чтобы дождаться дня, когда он будет наказан. И он будет наказан если не вами, то Богом. Вот мы и дошли до замка, господин барон. Теперь я вернусь к своим козам. Я исполнила свой долг.
– Прощай, Гретхен, – сказал барон и быстро пошел к замку.
Первый же слуга, которого он встретил, сказал ему, что Юлиус два часа назад, после обеда, ушел из замка с ружьем и будет на охоте до вечера, но графиня Эбербах дома.
Барон прошел прямо в комнаты Христины, распорядившись, чтобы ей не докладывали о нем. Христина вскрикнула от изумления и бросилась навстречу свекру. Барон нежно обнял ее, а потом принялся ласкать внука, которого нашел здоровым и цветущим.
– О да, он у меня красавчик, мой Вильгельм, не правда ли? – говорила Христина. – Я думаю, не много найдется таких милых детей. Представьте себе, он уже понимает меня! О, как я люблю его! Ну-ка, малыш, улыбнись своему дедушке.
– Да, он прелесть. Так похож на тебя, – сказал барон. – Но передай его пока кормилице. Мне надо серьезно поговорить с тобой, а он будет нас обоих отвлекать. Юлиус в лесу?
– Да, на охоте.
– А где он? Не знает ли кто-нибудь? Нельзя ли его отыскать?
– Можно попытаться, – сказала Христина.
– Так скажи, чтобы поискали. Мне и с ним нужно поговорить о важном и неотложном деле.
Христина позвала слуг и велела троим людям пойти в лес и поискать Юлиуса.
– Но в чем дело? – с беспокойством спросила она у барона.
– Придет Юлиус, я обо всем расскажу, а пока поговорим о тебе. Ты не писала мне?
– Как же, писала, папа, – ответила Христина. – Два месяца назад я написала вам длинное, очень срочное письмо.
– Дитя мое, ничего подобного я не получал, – сказал удивленный барон. – Постой, постой… да… действительно, два или три месяца тому назад я получил конверт с гейдельбергским штемпелем, но в нем был лист чистой бумаги. Я даже писал об этом Юлиусу, а он ответил мне, что не знает, о чем речь.
– Но я очень хорошо помню, что вложила письмо в конверт… Господи боже мой, неужели ему удалось проникнуть сюда и взять письмо?
– Кому? – с живостью спросил барон.
– Тому самому, о ком я вам писала.
– Самуилу Гельбу?
– Да, Самуилу Гельбу, папа.
На минуту они оба умолкли. Пораженная Христина размышляла об этом поступке Самуила. Барон внимательно наблюдал за своей снохой.
– Ты видела Самуила за это время? – спросил он.
– Увы, да, два раза.
– Здесь?
– Нет, не здесь, – ответила Христина после некоторого колебания.
Она вспомнила, что барон строго запретил своему сыну принимать Самуила. И вот она решилась солгать, чтобы прикрыть Юлиуса.
– Что же Самуил тебе сказал? – спросил барон.
– При первой же встрече он повторил свою дерзкую угрозу.
– Презренный!
– Вот тогда-то я и написала вам, папа… А во второй раз я видела его восемь или десять дней тому назад, на спектакле, который они тут устроили.
И Христина рассказала барону о переселении студентов и о «Разбойниках» Шиллера. Чтобы обелить Юлиуса, она приняла все на себя: якобы она поддалась женскому любопытству, пожелала видеть спектакль и увлекла с собой Юлиуса. Впрочем, Самуил поклялся ей, что никогда перед ней не появится, если она сама не позовет его. А она, разумеется, никогда его не позовет. На другой день студенты переселились обратно в Гейдельберг.
– И вот, – продолжала Христина, – эти два месяца Самуил твердо держит свое слово. Поэтому-то я не писала вам во второй раз, хотя очень удивлялась тому, что от вас не было ответа. В продолжение этих двух месяцев мое счастье ни разу не было нарушено ни видом этого человека, ни воспоминанием о нем, ни даже его именем. И, правду сказать, никогда я не была еще так счастлива и спокойна, как теперь. Вильгельм совершенно здоров. Юлиуса, видимо, уже не так печалит жизнь в уединении… Я же только ими двумя и живу. Одна половина моего существа – Вильгельм, другая – Юлиус. Любовь Юлиуса и здоровье Вильгельма составляют все мое счастье. Я ежедневно благодарю Бога и не хотела бы никакого другого рая, кроме того, среди которого живу сейчас.
– А Гретхен? – внезапно спросил ее барон.
Христина вздрогнула.
– Гретхен! Гретхен что-то не показывается никому. Она и всегда была дикая, а теперь стала совсем угрюмая. Раньше была козой, а теперь сделалась ланью. Кажется, всякое соприкосновение с человеческими существами стало для нее невыносимым. Чтобы не водить самой в замок козу, которая кормит Вильгельма, она оставила ее здесь. Коза теперь живет в замке, и наши люди ухаживают за ней. Люди из Ландека, которым случалось заговаривать с Гретхен, уверяют, что она помутилась разумом. Я сама раз пять или шесть ходила к ее хижинке, чтобы повидаться с ней, стучалась и звала ее, но ни разу не добилась ответа. Иной раз я видела ее издали, но каждый раз, заприметив меня, она убегает в лес.
– Это странно! Я сам прибыл сюда всего полчаса назад, и Гретхен первая подошла ко мне и очень долго говорила со мной.
– Что же она вам сказала?
– Все. О злодействе Самуила, обо всех его планах. Он выстроил этот замок. Он может сюда проникнуть, когда хочет. И он виделся с тобой, Христина, не вне замка, а здесь, в замке. Ты не сказала мне всю правду.
Печальная улыбка скользнула по губам Христины. Но она не стала оправдываться. Барон, одолеваемый волнением, встал с места и стал прохаживаться по комнате.
– Я повидаюсь с Самуилом, – сказал он, – и поговорю с ним. Вот только мне нужно сначала увидеться с Юлиусом. А затем я сегодня же вечером поеду в Гейдельберг.
– Извините, папа, – прервала его Христина, – я попрошу вас поразмыслить, прежде чем это сделать. Ведь я вам сказала, что этот человек вот уже два месяца как оставил нас в покое. Благоразумно ли злить его? Это все равно что ударить спящего тигра…
– Скажи, Христина, у тебя есть какие-нибудь особенные причины опасаться такого шага?
Христина смутилась и покраснела.
– Мужчины со своей странной подозрительностью не могут понять, что такое женский стыд, – пробормотала она. – Если вы хотите видеть Самуила, барон, то вам нет необходимости ехать в Гейдельберг и откладывать до вечера.
И Христина подошла к панно, на которое ей указал Самуил, и нажала на державу.
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.










![Книга Тайна пляшущего дьявола [Тайна танцующего дьявола] автора Уильям Арден](/books_files/covers/thumbs_100/tayna-plyashuschego-dyavola-tayna-tancuyuschego-dyavola-16549.jpg)





























