Текст книги "Жизнь же…"
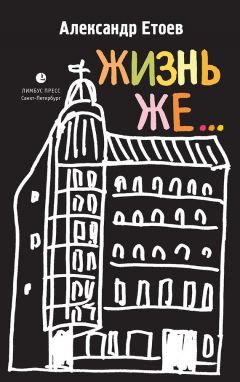
Автор книги: Александр Етоев
Жанр: Современная русская литература, Современная проза
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 10 (всего у книги 15 страниц)
– Тсс! Словами не отвечайте. Если «да» – наклоните голову вправо, если «нет» – влево. Для конспирации.
Я качнул головой влево.
– Жаль, я тоже не говорю. Александр Фёдорович… Я правильно называю? («Да».) Так вот, Александр Фёдорович, у меня есть к вам кое-какие вопросы.
Тут мне бы сказать ему: а сам-то ты, конспиратор гадский, кто будешь таков? И почему я, человек свободный, должен какому-то вонючему конспиратору на вопросы отвечать? Обернуться и посмотреть пристально на его нахальную рожу. А то для острастки врезать. В некоторые моменты жизни я бываю ужас до чего неинтеллигентный, так что насчёт «врезать» – угроза вполне реальная. Но я не стал говорить ничего такого и тем более оборачиваться. Мне сделалось вдруг интересно. Игра, которую предложил незнакомец, затягивала.
«Сыграю, – решил я, – а морду набить – это всегда успеется».
– Послушайте, это гипноз? То, что сегодня было, – это гипноз или не гипноз?
Я пожал плечами. «Не знаю».
Голос спрашивающего сделался напряжённым. Я почувствовал – ему хотелось кричать, а он принуждал себя говорить тихо.
– Ведь это вы причина явлений, творящихся в городе и в природе? Молчите? Или вы не русский человек, Александр Фёдорович? – Я почувствовал на своей шее обжигающие брызги слюны. – Как же она вас охмурила, что через вас все мы, русские люди, стали жертвами жестокого наваждения! – Я передёрнулся от брезгливости – слюна затекала за воротник.
«Русские люди… жертвами… жестокое наваждение… Ясно. Пора бить морду».
Я почти подошёл к витрине. Там, за пыльным стеклом, рос роскошный вечнозелёный фикус. Рос в кадушке, в аптечной неволе, а рядом, в стекле витрины, отражалась невыспавшаяся фигура человека по фамилии Галиматов. Галиматов отражался один, других отражений не было.
Я приблизил лицо почти вплотную к стеклу и попытался заглянуть себе за плечо, чтобы увидеть спрятавшегося там незнакомца. И в этот самый момент нога потеряла опору, и восемьдесят два килограмма живой человеческой плоти, нелепо взмахнув руками, ухнули вперёд на стекло.
– Твой номер – тринадцатый! – услышал я сквозь солёный туман, окрасивший мир в багровое.
9. Путешествующие по раю
Две среброчешуйчатые рыбы медленно выплыли из-за хребта, поиграли в невидимых струях, сделали круг и пропали. Пахло хвоей, воздух был зелен. В нём дрожали пузыри света. Я пытливо вслушивался в свое новое «Я», пытаясь понять, чем чувствую мир, который меня окружает. Почему я вижу без глаз, обоняю без органов обоняния. И кто они, эти рыбы, и что там – за хребтом.
– Непривычно, – сказал я или подумал. Мысль, а может быть, слово показалось бесцветным и пресным, и я пожалел о своей оставленной неизвестно где хрипотце, которой гордился с юности.
– Это и есть ваш мир?
– Нет, это мир-колония, – ответила мысленными словами моя бесплотная спутница.
– А рыбы – местное население? – Даже при отсутствии плоти я всё ещё пытался шутить.
– Рыбы – те, кто имеет тело. Удостоенные.
– Рыбье тело? А что, красиво. Они могут нас видеть?
– Они нас уже увидели, иначе не убежали бы за хребет.
– У нас же нет плоти.
– Видеть можно не одну плоть.
– И что теперь? Надо уносить ноги?
– Не сразу. Бюрократия везде одинакова. У вас, у нас. Пока они оформят донос, пока его оприходуют, перешлют по инстанциям. Далее резолюция, визирование, сверка по картотеке. Долгая история.
– Слава богу. Мне здесь нравится. Вот не думал, что путешествовать по райским местам – такое простое дело. Кстати, о моём теле. Оно где – у той дурацкой витрины?
– Конечно.
– Значит, там я уже мёртв?
– Нет. Там проходит микросекунда времени. А здесь, во времени путешествия, она растянута бесконечно долго. Ты вернёшься обратно в тот момент, из которого я тебя вытащила. Всего лишь.
– Занятно. А что, если меня здесь убьют?
– Тогда и там ты умрёшь, – ответила она, не задумываясь. Я даже слегка обиделся. – А «такое простое дело», как наше бестелесное путешествие, не такое уж и простое, как тебе представляется. Путешествия официально запрещены. Нарушители караются по закону. Каждый такой вояж, кто бы в нём ни участвовал, приводит к резкому уменьшению жизненной области Зазеркалья. Часть пространства съедается и отходит к области смерти. В принципе, Зазеркалье когда-нибудь исчезнет совсем. Тем более что официальных путешественников – как собак нерезаных. Обладатели плоти обычно развлекаются путешествиями. Например, эти рыбы. Между прочим, перед тем как сюда попасть, эта пара получила гарантию, что временно здесь никого нет. За это они заплатили. Так что дело обернётся скандалом ещё и по этой причине. Ну, с ними ладно. А вот съеденное пространство жизни, та самая область смерти – это уже важно для всех. Ближайшие от неё пространства, ещё их называют Предсмертьем, большей частью ненаселённые. Или в них расположены колонии ссыльных. Если меня поймают, я тоже обречена быть сосланной на границу с пространством смерти. И следующий после этого шаг – та сторона границы. А оттуда не возвращаются.
– Ничего себе, весёленькая история. Постой, раз путешествия – так серьёзно, то чего ради мы здесь?
Она не сразу ответила. Даже без звуковой окраски я почувствовал в её ответе смущение.
– Из-за тебя. Во-первых, тебе надо отдохнуть. Во-вторых, крепко подумать, что делать дальше.
И тут я решился, благо не было тела. Если бы в этот момент оно у меня появилось, включая части, имеющие способность краснеть, наверное, я бы горел, как свежий фонарь под глазом.
Я сказал:
– Есть конкретное предложение. Скажи, пожалуйста, ну зачем тебе в моём мире быть этой твоей платформой?
– Я думала, тебе нравится.
– Нравится? Знаешь, дорогая моя, что мне нравится? – И я выпалил на одном дыхании: – Девушка-сиротка мне нравится.
– Ах так! – Мысль её задрожала. Я представил женское лицо, не конкретное, а собирательное – с прикушенной нижней губой и белыми от волнения пятнами на раскрасневшихся щёках. – Значит, я для тебя никто? – Кажется, назревала сцена. – Да? Если мне нравится быть платформой, а у тебя встаёт на каждую голоногую стерву вроде той, что была в электричке, может, и мне прикажешь пойти зарабатывать на панель?
Фраза отличалась удивительной пуленепробиваемой логикой. Против такой фразы сам Гегель не нашел бы, что возразить. Когда существо из женщины превращается в базарную бабу, любые аргументы бессильны.
Я вспомнил длинную цепь своих коротких женитьб. Конец её потерялся в прошлом, но стоило разбередить память, как из былого, из топи смердящих блат, цепь удавом протягивалась ко мне, громыхала медью истерик, звенела перебитой посудой, терзала наманикю-ренными когтями мою довольно неказистую грудь.
Люда. Из жён она была первой и, пожалуй, долготерпеливее всех. С ней мы прожили ровно год и неделю. Она заходилась в крике лишь в дни совместных похмелий, длившихся регулярно от понедельника до среды, где-то к четвергу отходила, а с четверга и по воскресенье включительно мы жили в добре и мире, полюбовно деля радости и невзгоды тихого семейного очага.
За Людой были Аня-первая и Аня-вторая. С той и другой мы прожили в сумме одиннадцать месяцев. Аня-первая имела привычку укладываться на рельсы, проложенные за два квартала от дома, хотя знала прекрасно, что это всего лишь запасные пути к свалке металлолома и поезда по ним не ходили. Вторая из перечисленных Анн голая вставала на подоконник и так стояла подолгу, мрачно и грозно молчала и, время от времени оборачиваясь, называла меня подлецом.
За Аннами идёт Ольга, за Ольгой – сумасшедшая Нелли. Вот уж где был дурдом, даже вспоминать весело. Ей меня было мало, ну не всего меня, а той моей главной части, которая скучает сейчас без дела, оставленная у аптечной витрины, дремлет, свернувшись калачиком, как эмбрион в утробе. Нелли была не права. С размерами у меня полный порядок. Просто на почве шизофрении все предметы нормальной длины казались ей укороченными. Я уверен, даже слоновий хобот показался бы ей мельче медицинской пипетки. Мой донжуанский список на этом не обрывался, но я устал вспоминать.
– Послушай, я же не прошу ничего необыкновенного. Я давно хотел у тебя спросить: а в человеческое существо ты воплотиться можешь?
– Могу, конечно. Только зачем? Мне человеческие формы не нравятся.
– Значит, и я тебе не нравлюсь?
– Ты – нравишься, но ты – другое.
Я растерялся.
– То есть как?
– Сказать? – Она немного помолчала для виду. – Не стоило бы вообще-то рассказывать такому потаскуну, как ты. Да чего уж. В месте, где рождаются сущности, твой номер – тринадцатый.
Видно, она ожидала, что я после этого сообщения устрою по себе покойнишный вой. Но я спокойно ответил:
– Я знаю, я уже слышал. А что – это плохо?
По её мысленному вопросу я догадался, что моя спутница несколько ошарашена.
– Погоди. Кто тебе об этом сказал?
– А… – Я сделал вид, что о таких пустяках и говорить не стоит. – Было дело.
И всё-таки я рассказал. Рассказ мой занял времени не больше минуты.
– Так… – Она прикусила язык. Похоже, по части загадок мы друг другу не уступали. – Или они полные идиоты, или…
– Послушай, – я наконец не выдержал, – объясни по-человечески. А то – тринадцатый номер, место, где рождаются сущности… Для меня тринадцатый номер – номер марки портвейна, не более.
– Сейчас объясню, не нервничай.
Она нудно стала мне объяснять, как объясняют тупицам.
– В Зазеркалье существует такая область, которая в переводе на ваш язык называется Плато…
– На наш язык, говоришь?
– На ваш, на ваш, не перебивай. Так вот, Плато – это область непостигаемого, того, что непостижимо разумом, область односторонней связи: исключительно оттуда – сюда, и никогда обратно. Область Плато неуязвима для внешних сил. Она вне всех и над всеми, то есть власть её безгранична. Только власть эта, как бы получше выразиться, – не совсем та власть, как её обычно понимают. В основу этой власти положен принцип свободы. Ну, и некоторые, вроде наших умников из Зазеркалья, очень удачно этой свободой пользуются.
– Плато, говоришь?
– Место, где рождаются сущности.
– И ты, и все, и даже я, тринадцатый номер? И подонки, и пидоры, и эти ваши чётники, мать их в лоб, и фашисты, и уголовники, и прочая вонючая сволочь?
– Сволочью не рождаются.
– Конечно. На сволочей учат в простой общеобразовательной школе преподаватели не то физики, не то физкультуры.
– Галиматов, давай не будем заниматься пустой риторикой. Времени остаётся мало. Ты же читал у Платона про мир идей? И должен понимать, что идеальное в нём не может быть идеальным здесь. Вообще-то я хотела тебе сказать, что значит твой тринадцатый номер. Я, конечно, догадывалась насчёт тебя. Слишком уж всё было с тобой непросто. Например, твоя странная неуязвимость. Другого давно бы уже замочили в сортире, а ты из любой задницы выбираешься подозрительно ловко. И даже не вымазавшись в дерьме. Но теперь-то я знаю точно, что твой номер – тринадцать. Та к вот, послушай. Это должен знать каждый, имеющий такой номер. Сущность с тринадцатым номером есть связующее миров, что-то вроде заклёпки, на которой миры удерживаются. Сам ты этого ни в коей мере не ощущаешь. Живёшь как живёшь – где хочешь и как хочешь. Но независимо от твоего поведения, нравственности, образа жизни ты – связующее, и никуда от этого ты не денешься.
Она помолчала, чтобы я мог получше переварить информацию, а потом добавила строго:
– Между прочим, раз ты знаешь теперь свое истинное назначение, мог бы быть немного благоразумней. За бабами таскаться бы перестал. И вообще…
– Слушаюсь. И перед лицом товарищей по несчастью торжественно обещаю… Не пить, не грубить, с бабами не… пардон, не таскаться, похабных снов не смотреть, не ссать в чужих подворотнях, только в своей, не умерщвлять топором старушек. Что ещё?
– Поменьше молоть языком.
– Не молоть языком. Платформушка, дорогуля. Значит, чётники всего-навсего хотели меня отклепать? А я думал…
– Ты правильно думал. Им нужен не столько ты, сколько я. А насчёт отклепать – тут не всё просто. Им, может, и хочется тебя отклепать, но, с другой стороны, в дыру, которая после тебя останется, всю их говнобратию и затянет. Но почему они тебе об этом сказали? Пока ты не знал, они могли тебя пугать, как им вздумается. Арсенал у них не богатый, но сделать жизнь несносной до безобразия – это они могут вполне. Устраивать локальные деформации, демонстративно торчать у тебя на пути, перетряхивать вещи в твоей квартире, пока тебя нету дома, оставлять в пепельнице дымящиеся окурки, напустить под матрас клопов, даже насрать в ботинки. Все это они могут и с удовольствием делают. И будут продолжать делать, я уверена. Но ты-то знаешь, что весь их балаган не опасней новогодней хлопушки. Убить-то они тебя не убьют. И они знают, что ты знаешь.
– Вообще-то всех перечисленных прелестей не так уж и мало даже для человека-заклёпки. Неизвестно, что лучше – мирно лежать в могиле или каждое утро вычерпывать дерьмо из ботинок. И потом – живу-то я не на облаке. А друзья? А знакомые? Они ведь не болты, не заклёпки – просто люди.
10. На берегах стеклянных морей
Целую вечность я выбирался из стеклянного куба. Я плакал – слёзы красными нитями оплетали моё лицо. На зубах хрустело стекло. Стекло набивалось под веки. Стекла было слишком много, и веки, раздавшись, лопнули. Глаза обожгло светом. От света и холода в слипшихся волосах проснулись и зашевелились вши. Голодные стеклянные вши, они подтачивали корни волос и больно вгрызались в кожу.
Прозрачный нож гильотины не выдержал удара о шею и сам рассыпался в пыль, из молочной ставшую красной. Я ещё плыл по острым стеклянным волнам на какую-то зелёную веху, меня мутило, уши заложило от боли, я разгребал обрубками пальцев боль, а веха не приближалась. Прошел час или год, и я понял, что стараюсь напрасно. Мне стало смешно. Ноги! Я их сам оставил на берегу, они-то и не давали плыть, утопленные в расплаве асфальта. Я смеялся, я долго смеялся. Я видел, как смех собирается на губах в пузыри, и они, как надутые газом презервативы, уплывают в стеклянную высоту. Потом на красном экране замелькали пятна людей, сначала мелкие и размытые, затем всё больше и чётче, а самое большое из пятен сказало злым и плаксивым голосом:
– Он мне ответит! Он ответит за то, что в моём аквариуме помёрзли все коллекционные экземпляры. Лучшие экземпляры! Одна вуалехвостка мадагаскара – пятнадцать рублей за пару. А бискайские мраморные дельфинчики! Каждый дельфинчик стоимостью в четвертной. Это двести пятьдесят по старому! Он!.. Он!.. Он!..
Я оторвал по толстому куску стекловаты и заложил ими раковины ушей. Голос сразу сделался мягче.
– Оставьте человека в покое. Вы что, не видите, у него перебинтована голова? А вы к нему со своими вуалехвостками!
Невидимка выдернул вату, и голос снова стал злым.
– А вы кто такая будете, чтобы в чужой квартире защищать какого-то проходимца? Вы что, в ней прописаны? Да мне плевать на твоего хахаля Очеретича. Из-за твоего Очеретича наша квартира не заняла первое место в соревновании за здоровый быт. Из-за него на двери табличку не повесили, поняла?
Я стал узнавать голоса. Наталья. Значит, я снова в комнате у Валентина Павловича. Сухим языком проведя по верхней губе, я почувствовал больничную горечь.
– Ухо горит, – сказал я с длинными передышками. Голос мой был тише воды, но и такому я обрадовался, как другу. А немного отдохнув, я спросил: – Валя, ты уже улетаешь?
Ответил мне голос Крамера, с сухой немецкой пружиной выбрасывающий, как монеты, слова:
– Поешь-ка, парень, пельменей. Ешь, пока не остыли.
Я почувствовал скользкую теплоту и острый уксусный запах. От запаха меня замутило. Я стал захлёбываться слюной, она была живая и жирная, похожая на суп из червей. Я понял, что причастился смерти, и единственное, о чём пожалел, – что никогда её не увижу, дорогую мою беглянку, мою девочку-сироту, единственную, недоступную, близкую…
Незнакомый голос сказал:
– Ты ж его, чудила с Тагила, своими тухлыми пельменями совсем в гроб загонишь. У парня моча, как сперма. Парень чуть не подох. А ты – твою мать! – пельмени!
Кто этот добрый человек? Я ресницами разодрал липкую пелену возле глаз. Человек был прозрачен, как ангел, и с широкими блестящими крыльями. Он говорил «моча», а я слышал «амброзия». Он говорил «чудила», а мне слышалось «брат». Я понял, что он мне снится. Он снился и говорил, я тихо лежал и слушал.
– Я кого-нибудь в жизни убил? Пашу, как падла. Не ворую. Похабные песни не пою. Вредные книжки не читаю. А у него даже волосы прихвачены аптечной резинкой. Ещё гандон бы на голову надел. Ишь отожрался, американец. И бабы к нему ходят – богатый! А моя Томка, сука, как придёт домой со своего «Красного веретена», так не то чтобы дать, она меня у двери на раскладушке ложит. Пью вот, мля. Пью, мля, и плачу.
Ангел стал исчезать в золотистых радужных сполохах. Сначала исчезли крылья. Створки на райских вратах пропели херувимскую песнь.
– Увидимся, коли не помрёшь.
Я кивнул.
На облаке у доброго ангела, должно быть, славно живётся.
Я устал.
11. Показания свидетеля Пистонова
– Вы, Александр, лежите. Чаю с молоком принести? Где-то было печенье.
– Наташа.
Мне понравились её руки, как она гладила ими тяжёлый шар живота, пульсирующий под складками дешёвого крепдешина. Мне нравилась золотая аура волосков на её открытых запястьях. Я подумал: когда дышишь на эти руки, волоски припадают к коже и трудно удержаться губам. Если Наташа не истеричка, то Валька, Валентин Павлович, – счастливый человек.
– Не надо чаю. И печенья не надо. Наташа, давайте будем на «ты».
Мы перешли на «ты».
Закрывая глаза, я слушал её ответы. Закрывая глаза, я видел белый шар живота, на котором я поднимался к Богу. Когда моя красавица Люда умудрилась всё-таки забрюхатеть (а мы к тому времени уже полгода как были разведены), я, встретив её на Фонтанке, от счастья чуть не бухнулся под Английский мост. Мне тогда каждую ночь снились раздутые женские животы, и каждый из них был желанен, и к каждому я прикасался губами и целомудренно целовал нежную раковину пупка. Во снах я становился Ван Эйком и медленной кистью рисовал Еву для Гентского алтаря. Когда я доходил до лица, руке не хватало силы, кисть падала, оставляя на полотне жирную уродливую кривую. Я просыпался, подворачивая испачканную простыню. До жути хотелось удавиться.
– …тебе сделали перевязку, и Валя тебя увёз к себе. Это было позавчера.
– Значит, я здесь уже больше суток?
Нет. Хватит. Не хочу жить один. Не могу. Хочу большой круглый живот, чтобы грелся рядом в постели. Женюсь, чёрт возьми. Бомжевать брошу. Женюсь. Так ей и скажу: не знаю, как там у тебя в Зазеркалье, а у нас, у земных мужчин, от неразделённой любви яйца пухнут.
– Как меня Валя нашёл?
– Мы услышали женский голос, будто кто-то кричал в окно. Сказали, что тебе плохо, что ты на Покровке в аптеке, а кто кричал, мы так и не поняли. На улице никого не было.
«Она».
– А где сейчас Валентин?
– Они с Васищей пошли какого-то Пистонова перевоспитывать.
Только она это сказала, как комната наполнилась шумным волосатым хозяином.
– Он что, так и не помер? Галиматов, да ты живой! Раз живой – вставай, поднимайся, нечего проминать лежак. Слушай, Санёк, как ты всё-таки умудрился влететь в витрину? Может быть, на почве врождённого нарциссизма? Может быть, у тебя на самого себя встал?
– Валя, перестань.
Это сказала Наташа.
– Нет, Наталья, не перестану. Мы сейчас с Васькой Пистонова кололи. Между прочим, выясняются некоторые интересные подробности. Например, такая: Пистонов, оказывается, бывший зять нашего уважаемого Повитикова. А Повитиков, соответственно, бывший пистоновский тесть. И бывший тесть своего бывшего зятя потихоньку дерёт через зад. Это фигурально выражаясь.
– Валя, человек ранен. Не надо при нём фигурально.
Это сказала Наталья.
Валя великаньей ладонью закрыл ей полживота и стал гладить, как ласкают котёнка.
Он гладил и говорил:
– Наташенька, это же Саша Галиматов. Его матерные слова не берут. У него от матерщины прививка. Вот послушай.
Валя наморщил лоб, пальцами разлохматил бороду и вывалил из себя полную мусорную корзину.
Наташа вздохнула, а я сказал:
– Валентин Павлович, ты хотел мне рассказать про Пистонова.
– Про Пистонова, да. Пистонов – потаскун еще тот. На фабрике «Красное веретено» он почти всех баб перепортил. Дочка Повитикова – дура дурой, а среди прочих перепорченных дур оказалась самая хитрозадая. Она папе пожаловалась. На фабрике она работала практиканткой, ей, кажется, не исполнилось и шестнадцати. Но, по словам Пистонова, курва эта Тамарка была ещё та. У неё и пузо-то вздулось не от пистоновских упражнений, её в школе учитель физкультуры натягивал прямо на матах в спортзале после уроков. Пистонов говорит, что этого физкультурника знает, он сам не раз ходил в тот спортзал пользовать по вечерам комсомолок. Физкультурник одалживал ему ключ. Папа решил просто: или женись, или подаю в суд за изнасилование несовершеннолетних. А по законам зоны это считай что вышка. На зоне не любят человека с такой статьей. На зоне такому человеку ночью надевают на голову мешок и перво-наперво отрезают яйца. А после докалывают заточкой, как оскоплённого борова. Пистонов выбрал женитьбу. Тамарка, ставши женой, рожать сразу же передумала. Она преспокойно совершила аборт, и началось у них семейное соревнование: кто кому больше наставит рогов. Пистонов, видимо, проиграл, потому что не выдержал её распутного поведения и подал на развод. Статья ему уже не грозила.
Я, пока слушал Валю, чувствовал, как поправляюсь. Духом я становился молод, члены мои укреплялись, наливаясь жизненной силой. Особенно меня вдохновила сцена любви в спортзале. Я представил её в подробностях. С холодком в коленях, когда ноги со сладкой дрожью елозят по скользкому мату. Со сваленными в кучу мячами – нога в забывчивости ударяет по куче, и мячи непонятно как оказываются то под горячим пахом, то в ложбинке грудей, и это в самый нужный момент, когда градус достигает предела; приходится заниматься мячом и начинать раскачку сначала. И прочие спортивные мелочи. Канаты, свитые в башенки, на которых мы время от времени устраиваем перекур. Шведская стенка – по ней, чтобы поддать в мою печку жару, карабкается голая обезьянка и машет мне сверху хвостом. И ещё: щёлок женского пота, картавая девчоночья матерщина, пыль, пахнущая резиной, тусклая кожа матов в трещинках и масляных пятнах и узкие Тамаркины трусики, которые она шутки ради напяливает на боксёрскую грушу.
И мне, восставшему из могилы, стало абсолютно до фени всё это дурацкое копошение, коммунальные заговоры, чётники, фашистский маскарад. Это была не жизнь, это была раскрашенная под жизнь фанера. Деревянный автомат, которым можно убить разве что подыхающего от старости таракана. Это попросту было скучно. Скучища!
– Валя, ну хорошо. Ну докажешь ты, что Повитиков и Пистонов против нас состояли в сговоре. Ты что, собрался на них в суд подавать?
– Я хочу понять. Мне важна истина.
– Тебе нужна истина, а мне истина не нужна. Мне всё равно, понимаешь? Я живой, ты живой, Наташа живая. А они – они мёртвые, мертвяки, от них мертвечиной пахнет.
Валентин Павлович выслушал мою поэтическую тираду, кивнул и сказал:
– Всё верно, не спорю. Но сейчас ты заговоришь иначе. Вот что нашёл следопыт Васище под шкафом у двери Повитикова.
Валя достал из кармана и выложил на ладонь очень странный предмет. Более всего по форме и по размерам напоминал он вставную челюсть. Такой же гладкий и розовый, так же состоящий из двух выгнутых половин. Лишь не было пугающего оскала и, соответственно, клавиатуры зубов. Посередине в пустом овале имелась тонкая металлическая мембрана с отверстиями разной величины.
– Наташа, дай-ка бутылку.
Валя взял бутылку с портвейном и плеснул из неё на челюсть.
– Дезинфекция. – Он заговорщически мне подмигнул. Я обалдело смотрел на его шаманские приготовления. – Теперь вставляем.– И Валя ловко, словно всю жизнь только этим и занимался, пристроил штуковину себе в рот.
– Дезинфекция, – повторил он, и вдруг я узнал этот голос.
Голос был тот же самый, что сопровождал меня до витрины. Я вздрогнул, из памяти выплеснулся фейерверк острых стеклянных брызг. Ладонь метнулась к глазам, но Валентин меня успокоил. Он выплюнул игрушку на ладонь. Вымытая слюной, она блестела в комнатном свете.
– Модулятор. Прибор для изменения голоса. Город Бежин, Московская область. В челюстно-лицевом исполнении.
Воспоминание о пережитом страхе ушло. Я смотрел на бежинскую игрушку, и во мне просыпалась злость. Сейчас бы схватить её, эту розово-слюнявую челюсть, и пойти крушить ненавистных мне филистимлян, как в библейские времена Самсон.
– Так что, Александр Фёдорович, не зря я его вчера дверью по башке съездил. И с ядом его работа. Наверняка. Может быть, не без участия чётников. Гипотеза у меня такая. Повитиков работает на них. Вопрос: вольно или невольно?
– Давай спросим об этом у него самого.
– Я бы спросил, я и хотел спросить. Но Повитиков со вчерашнего дня в бегах. На двери замок. Правда, Васька утверждает, что замок фальшивый. Он слышал – в комнате кто-то сморкался.
Валя вдруг рассмеялся и хлопнул ладонями по коленям.
– Кстати, о замороженных рыбках. Никто их у Повитикова не морозил. Он сам засунул тех, что подохлей, в холодильник, а теперь срёт всем на мозги: заморозили. Васище знает, он в дверную щель подсмотрел.
Валя заёрзал на табурете, и я понял, что самую крупнокалиберную подробность, выуженную из пистоновских показаний, он приберёг напоследок, чтобы меня добить. У него даже щёки вспотели, распаренные восторженным возбуждением, и волосы вздыбились, словно их кто притянул магнитом, и походили на пар.
– И ещё… – Он прямо на табурете, не слезая, подъехал ко мне, как Иван-дурак на печи. – Ещё выяснилось: в Болышево у Пистонова дом. Улавливаешь связь? Твоя беглянка-платформа – станция Болышево. Пистонов – станция Болышево. Чётников ты где в лесу встретил? Возле станции Болышево. А теперь вспомни, что у тебя спросил тогда переодетый Пистонов? Он про платформу тебя спросил, значит, знал, какая она на самом деле платформа. Иначе не стал бы спрашивать.
– Одним словом – заговор. А скажи мне, Валентин Павлович, раз ты всё про Пистонова знаешь, его маскарадный наряд – автомат и шинель, они у него откуда?
– Шинель и автомат он прихватил на фабрике из Музея боевой славы. У них есть такой. Зачем? – спрашиваю. Сам не знает зачем. Что-то на Пистонова нашло. Может быть, и тут без помощи наших зазеркальных засранцев не обошлось. Но я сильно подозреваю, что у Пистонова на сексуальной почве образовался имперский комплекс. Если бы в фабричном музее висел парадный мундир маршала Жукова, он бы спёр и мундир.
Я поставил босые ноги на холодные половицы.
– Спасибо, Валя, за интересные новости, – сказал я, похрустывая ослабевшими пальцами, – но с меня на сегодня хватит.
У окна сидела Наталья и, склонив голову к животу, тонко-тонко посапывала. Словно на дудочке играла.
12. Домой возврата нет
Последние полгода я бомжевал в забытом богом подвале стена в стену с ведомственной котельной, которая обслуживала школу милиции. Меня привел сюда Гамзатов Расул Гамзатович, так значилось в паспорте. На самом деле Расула звали Илья, и фамилия у Ильи была весёлая – Зильберглянц. Илюха был вообще человек занятный. Например, держал в подвале библиотеку. Небогатую, томов в двадцать пять, и давал читать напрокат – рубль за прочтение. Когда рублей накапливалось в достатке, он собирал компанию – меня и ещё двух-трёх человек знакомых, – мы накупали водки и устраивали праздник души. Первый тост был всегда за литературу, за хлеб духовный, потом тосты мельчали, и начиналась пьянка. Ближе к ночи Илюха бежал к «Стреле», там снимал пару весёлых девочек из какой-нибудь институтской общаги, и пьянка переходила в оргию.
Ещё Илья собирал истории из еврейской жизни, имеющие хождение в народе. Эти истории он записывал в толстую амбарную книгу, и все они начинались со слова «однажды». Вот пример:
«Однажды евреи протянули специальный кабель, чтобы подорвать всё, что любо и дорого русскому человеку. Взрыв назначили на субботу, праздник еврейского шабаша, на девять вечера, когда население смотрит телепрограмму “Время”. Самый главный еврей, зажавши в руке рубильник, говорит еврею помельче:
– Ну как, Давидыч, пора? Сколько там на твоих натикало?
– В самый раз, Соломоныч, тютелька в тютельку, – отвечает еврей помельче.
– Где наша не пропадала. – Главный осеняет себя шестиконечным еврейским знамением и подаёт в сеть напряжение.
Вот какое страшное зверство совершили однажды евреи в девять вечера, в субботу, в праздник еврейского шабаша».
Или другой пример:
«Однажды евреи придумали хитроумную электрическую машинку, чтобы посредством её извести русского человека. Назвали они свою машинку “компьютер”, чтобы непонятно звучало. А жил в поселке Толчки такой Юра Перов, механик на Ряжской машинно-тракторной станции. Он на неё посмотрел, на эту электрическую машинку, и, ни слова не говоря, швырь её в кормушку к быку. А бык в стойле был злой, звали быка Петлюра. Он как надавит большим жёлтым зубом – и нет еврейской машинки. Так механик Ряжской МТС показал безродным изобретателям, где раки зимуют».
Илья собирался послать эти истории в толстый московский журнал, специализирующийся на еврейском вопросе. Мы даже придумали Илье псевдоним и уговорили знакомую машинистку Верочку перепечатать текст в счёт будущего гонорара.
В подвал я возвращался дворами. Ленинград – город дворов, и сколько его ни перекраивай, сколько ни долбай копровой бабой по стенам его домов, дворы останутся навсегда – эти разбухшие от гноя аппендиксы, параши, в которые горожане вываливают по вечерам полные лохани с дерьмом и куда бросаются по утрам девочки-самоубийцы. Можно от старой Коломны пройти дворами до Невского и весь Васильевский остров пересечь от Гавани и до Стрелки, ни разу не расшибив голову о качающийся спьяну фонарь и не наглотавшись уличного бензина. Можно долго и тихо идти, минуя многолюдные линии и слушая одно лишь урчание в желудках у помоечных крыс, да костлявый стук домино, да пьяные заупокойные плачи, да шелест дыхания младенцев, которых матери забывают на балконе до темноты.
Я пробирался к себе в подвал. Был вечер, по Фонтанке между мостами гуляла рябая вода, и по верхушкам волн прыгали отражения окон. На плоском горбу моста я остановился позевать на закат, на заляпанное ржавчиной небо, на взбаламученный запад, похитивший у востока свет. И тут двуногая блошка, повисшая между звёздами и рекой, звериным нюхом бомжа почуяла – пахнет серой. Сердце моё почуяло.
Я бросился в паутину улиц и переулков. В Троицком мне навстречу катилось бумажное колесо – лист из амбарной книги. Я вжался в церковный забор, вгляделся в туман за садом: ни чётников, никого. Серный запах крепчал. Прикинув на глазок расстояние, я перебежал по прямой проспект, замешкался у подворотни, прошёл.
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.








































