Текст книги "Жизнь же…"
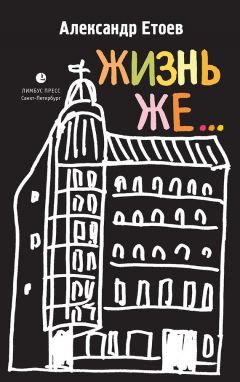
Автор книги: Александр Етоев
Жанр: Современная русская литература, Современная проза
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 7 (всего у книги 15 страниц)
Рубль
Всё помню – и как горела фабрика за Фонтанкой, и как пятиклассник Савичев разбился насмерть в бане в переулке Макаренко, встал мыльной ногой на борт общественной ванны, поскользнулся, грохнулся о каменный пол, и кровь потекла из уха в дырочку сливного отверстия, и как чморили нас, дворовых с Прядильной улицы, хулиганы из соседнего переулка, но что засело в памяти крепче всего, так это случай с рублём.
До шестьдесят первого года рублей из металла не было (серебряный досоветский и раннесоветский нэповский в расчёт не беру). Великая денежная реформа конца шестидесятого года вновь ввела в оборот звонкую металлическую монету, утраченную в прежние времена по вполне понятным причинам – в двадцатые – тридцатые годы страна восставала из пепла после мировой и революционно-гражданской войн, потом новая война, а с нею и новый пепел, потом – разруха сволочная послевоенная, и так до начала шестидесятых. Стране нужен был позарез металл, и такая штука, как рубль, утрачивала временно ценность в масштабе государственного хозяйства, меняла вес и состав, мельчала, – экономия стояла на страже. А введение в денежный оборот металла есть верный показатель того, что корабль Советского государства наконец преодолел крен и плывет правильным курсом независимо от воли погоды.
Деньги в детстве были для меня понятием отвлечённым. В те сопливые времена они редко водились в моём кармане, разве что в исключительных обстоятельствах – или когда Валька Игнатьев, дворничихин сын и убийца (он пришиб булыжником в подворотне напавшего на него маньяка), вытрясет сквозь щель из копилки мамины нетрудовые доходы и поделится с лучшим другом, то есть со мной, или если соседи по коммуналке братья Витька и Валерка Мохнаткины отвалят мне часть добычи; они отнимали марки у коллекционеров в магазине «Филателист», угол Невского и Литейного, заманивали в парадную, там давали им в рыло и отбирали кляссер. Марки продавали, естественно. Почему делились со мной? Да потому, что из магазина в парадную марочников препровождал я, тогдашний десятилетний олух.
Марки… Вспоминаю с улыбкой. Классе в третьем-четвёртом, меня тогда уже приняли в пионеры, я переписывался со сверстником из ГДР – Карлом, так вроде бы его звали, – так вот, я, тогдашний филателист, в каждом письме просил, чтобы Карл мне прислал марки. А Карл не присылал и не присылал. А я, дурак, просил и просил. И наконец он прислал мне пфенниг. Теперь-то я понимаю, что слово «марки» для немца – смерть. Хрен поделится немец марками, тогдашней своей валютой. Ну разве пфеннигом – подачкой для русских нищих.
Опять я отвлекаюсь на постороннее. Иду с рубля, а возвращаюсь на ноль. Простите меня, пожалуйста. Такой уж рассеянный я рассказчик.
У Горького, как известно из мемуаров, детство было горькое, как горчица. Горькому не хватало сладкого. Лично мне, вернее моему организму в детстве, недоставало фосфора, и я помню, как слизывал его с циферблата папиных наручных часов, сняв с них тоненькое стёклышко крышки. Папа долго не мог понять, почему циферблат перестал светиться, но однажды ночью, проснувшись по какой-то своей нужде, обнаружил, что у сына светится в темноте язык, и сделал соответствующие выводы.
Бить меня он, правда, не стал – на стене над моей кроватью висела вырванная из журнала картинка: «НЕ БЕЙ РЕБЁНКА – это задерживает его развитие и портит характер». И нарисован был пионер в галстуке и коротких штанах на помочах.
Картинку эту повесил я, мелкий макулатурный жулик, промышлявший иногда тем, что ходил по близлежащим домам и клянчил у населения макулатуру. «Дяденька (или тётенька), наша школа собирает макулатуру. Нет ли у вас в квартире каких-нибудь ненужных журналов, книжек или старых газет?» Школа упоминалась для убедительности, не скажешь же с порога хозяйке, что понесёшь собранные журналы в ближайший приёмный пункт, а деньги, вырученные за них, потратишь на почтовые марки.
Картинка меня спасла. Ремень на папином поясе остался вправленным в брюки. Но – до поры до времени.
Январь шестьдесят первого года был бесснежным, ветреным и холодным. Вечерами я сидел дома, глотал книжки, сидя на табурете между никелированной спинкой родительской железной кровати и холодным рифлёным боком неработающей голландской печки. Лампа-гриб подсвечивала страницу, безумный капитан Гаттерас шагал вверх по склону грохочущего вулкана водружать над полюсом мира красно-синий английский флаг, стекло постукивало от ветра, у соседей пел патефон.
В дальнем конце «колидора», так на папином языке назывался наш общественный коридор, загрохотало у входной двери. Это папа пришёл с получки.
Если папа пришёл с получки, значит, жди весёлого вечера. С подзатыльниками или подарками. Или с теми и другими поочередно.
Я поднялся, отложил Жюля Верна и приготовился к папиному явлению. Вообще-то папа у меня добрый. И не только когда спит или пьяный. Он и пьяный бывает злой, и когда трезвый, бывает добрый, как любой нормальный родитель. Всё зависит от окружающих – мамы, меня, соседей, каких-нибудь случайных людей, папиного заводского начальства, домашних животных, птиц…
Да, я не оговорился, птиц. Папа по простоте душевной решил подкармливать зимою синичек, забил в оконную раму гвоздь и на конец его, торчащий снаружи, насаживал кусочками сало. Но сало почему-то клевали нахальные воробьи и голуби, и папа все выходные проводил перед оконным стеклом, отгоняя грубыми жестами незваных объедал и засранцев. И, понятное дело, злился.
Папин голос ровно перемещался по прямой кишке коридора, в его торце повернул на кухню и скоро объединился с маминым. Мама пекла оладушки, дух которых сладким струями проникал сквозь носовые отверстия в мою ротовую полость, наполняя её слюной. О чём они говорили, было не разобрать, всё забивал фальцет Петра Иваныча Мохнаткина-старшего, Витькиного и Валеркиного папаши. Пётр Иваныч славен был тем, что яро ненавидел Хрущёва, тогдашнего владыку СССР, и всякий раз, приходя с работы, устраивал на кухне дебаты. Даже папу, человека аполитичного, пронимали его страстные речи в защиту родной пшеницы от засилья королевы полей, так величали при Хруще кукурузу. Действительно, кукурузный хлеб, вытеснивший тогда с прилавков другие хлебобулочные изделия, в народе воспринимался как издевательство, потому что он черствел на глазах и превращался в несъедобную массу. Называли его «русское чудо» по аналогии с немецкой кинокартиной, снятой на советские деньги и восхвалявшей невиданные успехи народного хозяйства Страны Советов.
Голосов на кухне прибавилось. Захлопали в коридоре двери, соседи потянулись на кухню полюбопытствовать, о чём там галдят. Мне всё это не понравилось сразу – фиг теперь дождёшься оладушек, когда на кухне такое столпотворение. А то ещё, господи упаси, соседский вечно голодный Стаська, наверняка уже припёршийся на галдёж, сожрёт оладьи прямо со сковородки, когда мама отойдёт от плиты.
В общем, я не выдержал ожидания и, как все, поспешил на кухню.
Коммуналка почти в полном составе занимала пространство между столами. Не было инвалида Ртова, он намедни сломал каталку и третий день как ушёл в запой, менял подшипник на передней оси. Зато был дядя Коля Жуков, наоборот, из запоя вышедший, хоть и помятый, но ничего, живой.
Посередине коммунального люда враскорячку стоял мой папа, отделенный от прочих квартиросъёмщиков полуметром почтительной пустоты. В его выпученном правом глазу танцевали пьяные чертенята, левого глаза не было.
– Сашка! – крикнул он мне, разглядев мою короткую чёлку. – Книжки всё читаешь, читатель, а гляди-ка, что твой папка принёс.
Папа щёлкнул ногтем себе по глазу, по тому, которого не было, и тот глаз, которого не было, ответил ему звоном металла.
– Йо-хо-хо! – Дядя Коля Жуков рассмеялся пиратским смехом. – Звенит, етить твою мать! Ты, Василий, теперь в ухо его засунь – ну, того… для проверки качества. То есть кто кого одолеет – ушная сера твой рубль или рубль твой ушную серу.
– А иди ты, – отмахнулся отец и снова посмотрел на меня. – Видишь, Сашка, это рубель железный, на заводе сегодня выданный. Ты когда-нибудь видел железный рубель? Вы когда-нибудь рубель железный видели? – говорил он уже всей коммуналке. – А я видел, мне его в кассе выдали, вот он, здесь, у меня в глазу.
– Эка невидаль! – сказала Раиска, незамужняя тридцатилетняя тётка, проживавшая через дверь от нас. – У меня этих железных рублей было в жизни, чай, поболе, чем мужиков.
– Ты потише при детях про мужиков-то! – отвечала Раиске мама. – Сковородкой сейчас огрею, враз забудешь про мужиков-то! А ты не слушай, – повернулась она ко мне, – не дорос ещё похабщину слушать.
– Врёшь, Раиска, – заспорил с Раиской папа. – Рубель новый, только что отчеканенный. Видишь год: сегодняшний, шестьдесят первый. – Папа вытащил из глаза кругляш и приставил его Раиске к носу. – Рубель новый, не какой-нибудь царский, таких раньше в Эсэсэсере не было.
Пётр Иваныч Мохнаткин-старший молчаливо сопел у стенки между чёрной дверью на лестницу и углом Раискиного стола. Верно, думал, как бы так поудачнее вставить в разговор о рубле что-нибудь про гада Хрущёва. Думал, думал и наконец придумал.
Как умру, похороните
Меня в кукурузе, —
засипел он угрюмым голосом, хмуро глядя на примолкших соседей,
По бокам чтоб был горох,
Химия на пузе.
Никто из присутствующих не повёлся на его антихрущёвскую выходку, к Мохнаткину все привыкли, а новый железный рубль соседи видели в первый раз, и Пётр Иваныч примолк.
– Йо-хо-хо! – Дядя Коля Жуков опять захохотал по-пиратски. – А вот мне как старому металлисту интересно взять бы его на зуб, чтобы точно определить состав. Сплав секретный, если судить по звону. А по блеску вроде как пуговица.
– Сам ты пуговица, – сказала мама. – И зарплату тебе выдают пуговицами, потому всё одно – пропьёшь. Рассвистелся, металлист хренов.
– Ну ты это… – Дядя Коля обиделся. – Ты пеки свои блины, женщина, а в мужские разговоры не влазь. Так, Василий, дашь на зуб для эксперименту?
– Нам твои эксперименты известны, – заявила соседка Клячкина. – Кто, когда запойный здесь ползал, сгрыз затычку от общественной ванны? Теперь мочалкой затыкаем, как папуасы.
– И весь шкаф мне заблевал изнутри, когда прятался в субботу от участкового, – подлила в огонь керосина злопамятная соседка Раиска.
Разговор перешёл на личности, дядя Коля припомнил Клячкиной все её жидовские притязания на ничейный коммунальный чулан, а Раиске припомнил ёжика, которого он принёс из леса на потеху соседским детям, а Раиска, сука рублёвая, извела его отравой для крыс.
Я почти не слушал соседей, я следил за Стаськой Казориным, как он, прячась за соседскими спинами, подбирается к тарелке с оладьями.
– Он, Василий, почитай, как награда, вроде ордена или медали, – подмасливал папу лестью сосед дядя Коля Жуков. – Всякому такой не дадут, только передовикам производства. Ты носи его теперь на груди на октябрьские и майские праздники, но, смотри, чтоб гербом наружу…
Слева молот, справа серп —
это наш советский герб, —
подхватил тему герба Пётр Иваныч Мохнаткин-старший,
Хочешь сей, а хочешь куй,
Всё равно получишь…
Допеть ему помешали. Из комнатки инвалида Ртова раздался мощнейший грохот, и все соседи, и с ними Стасик, поспешно устремились туда. А я и папа пошли к себе, смотреть на Ртова нам было неинтересно.
Весь тот вечер счастливый папа радовался металлическому рублю. Он вертел его так и этак, брал на зуб, подбрасывал к потолку и в конце концов доподбрасывал. Только что рубль был здесь, вертелся перед носом волчком, блестел, словно рыбка в озере, и вдруг исчез бесповоротно и окончательно. Папа буквально посантиметрно обыскал всё пространство комнаты, передвинул с мест все предметы, включая шкаф, оттоманку и обе тумбочки, изучил щели в полу и по периметру осмотрел плинтус. Когда всё было обыскано, папа посмотрел на меня, доброты в его взгляде не было.
– Сашка, твоя работа? Ну-ка, признавайся, твоя?
От такого обидного поворота я едва не лишился речи.
Полминуты я стоял обалдевший и до боли кусал язык.
– Молчишь? – усмехнулся папа. – Рубель где? Говори, где рубель?!!
– Я не брал, – сказал я сквозь слёзы. – Я не знаю, правда не знаю.
– Он не брал… Покажь-ка карманы!
Папа, если вдруг заведётся, сразу превращается в глухаря – слышит только себя единственного. Что-либо доказывать ему без толку и тем более без толку возражать. Он обшарил меня всего, не забыв про трусы и тапочки. Рубль он, естественно, не нашёл, откуда ему было у меня взяться? Не найдя утерянного рубля, он перешёл в психическую атаку.
– Я же знаю, ты его проглотил. У нас в цеху было такое. Некоторые проиграются в домино, а чтобы не отдавать проигранное, деньги хвать и глотают, жмоты, прячут мелочь в своём желудке. Давай быстро на горшок, срать, пока он там, в желудке, не растворился!
Как всегда, спасла меня мама. Она знала, что я не брал, видела по моим глазам, да если б я его и правда присвоил, этот папин несчастный рубль, тоже встала бы на мою защиту. Такая у меня мама.
– Надоел уже со своим рублём, – мама сказала папе. – Сам, наверное, съел с оладьями, а теперь виноватых ищешь.
Папа подозрительно скорчился, бочком-бочком – и выскочил в «колидор». Громко хлопнула дверь туалета, следом – громко – унитазная крышка. Это папа решил проверить мамину версию про оладьи.
– Как потерялся, так и отыщется, у нас в доме ничего не теряется, – сказала мама, когда папа вернулся. – Давайте спать, уже полдвенадцатого.
Последним уроком в пятницу была физкультура. Зимой урок физкультуры часто проходил на катке. Татьяна Михайловна, наша классная, в детстве была опытным конькобежцем и считала, что её второй «б» поголовно должен встать на коньки, чтобы не уронить в будущем знамя конькобежного спорта. Каток был близко, на стадионе Лесгафта, но для меня такие походы были не меньшей пыткой, чем посещение зубного врача. Я кататься не умел вовсе, на коньках стоял, как калека, и если не держался за борт, то вообще не мог проехать и сантиметра.
Дорога до стадиона Лесгафта занимала минут пятнадцать. Путь обратный растягивался минут на сорок, таких, как я, будущих «чемпионов» в нашем классе было с добрую дюжину, и мы вяло плелись в хвосте, понукаемые Татьяной Михайловной. Ноги болели жутко после выданных напрокат коньков, не соблазнял даже весёлый ледок, линзами блестевший на тротуаре.
На углу с Канонерской улицей я решил немного передохнуть возле круглой гранитной тумбы. Саша Бобин, я шёл с ним в паре, не хотел отставать от класса и одиноко поплёлся за остальными. Солнце слабо пробивалось сквозь тучи, по проспекту бежали автомобили, в глубине Канонерской улицы на крыше суетились рабочие, скалывая с карниза лёд. Я собрался догонять Бобина, уже сделал шаг вслед за классом, как в глаза мне прыгнуло с мостовой маленькое пятнышко света. Я от неожиданности зажмурился. Когда я открыл глаза, из-под чёрной ледяной корки, затянувшей мостовую близ тротуара, на меня смотрел и смеялся потерявшийся папин рубль.
Класс уходил всё дальше, но мне уже было не до него. Я сидел на корточках над рублём и выколупывал его изо льда. Лёд был крепкий, рубль был коварный, он упорно не желал выколупываться, он смеялся над моими потугами, он говорил мне, как Колобок из сказки: «Если я от папы ушёл, то от тебя уйду и подавно».
Пальцы содрались в кровь, ногти по краям обломались, был бы в кармане ключ, гвоздь, что-нибудь металлическое, так ведь нет, ничего такого, как назло, в карманах не оказалось.
Уже Татьяна Михайловна махала из начала колонны и звала меня учительским голосом. Уже одноклассник Бобин крутил мне указательным у виска, а весь мой второй «б» класс хватался от смеха за животы. Уже останавливались прохожие, не понимая, какого чёрта я ковыряюсь на мостовой во льду.
Неравный поединок с рублем окончился не в мою пользу. Я сдался, догнал свой класс, естественно, получил выволочку и, понурый, добрёл до школы. Вспомнил про отвёртку в портфеле, ею я отвинчивал номерки с кресел в кинотеатре «Рекорд», выскочил из школы на улицу, руки в ноги и помчался на Канонерскую.
Монеты подо льдом не было. Трещинки на чёрной поверхности, прихотливо пересекаясь друг с другом, нарисовали смешную рожицу. Она мне подмигивала глумливо, будто говорила: «Что, съел? Не для того меня чеканило государство, чтобы даваться в руки всякой сопливой мелочи». Я вынул из портфеля отвёртку и начертил на льду поверх рожицы единственное неприличное слово, которое писал без ошибок. Ну-ка догадайтесь какое?
В субботу был банный день, с утра мы с папой сходили в баню, то ещё, скажу я вам, удовольствие – сначала час отстоять в очереди, потом скучать на мыльной скамье, смотреть, как папа, облепленный сердечками берёзовых листьев, мечется между парилкой и общим залом, слушать шутки голых мужиков («После бани хорошо, особенно первые полгода») и, помывшись, ждать, пока папу, упарившегося до потери пульса и полутрупом лежащего в раздевалке, не приведут в чувство нашатырём.
В то время, когда я с папой отбывал субботнюю каторгу в Усачёвских банях, мама обычно устраивала большую стирку. Собирала скопившееся за неделю бельё и стирала его в общественной прачечной во дворе дома № 17.
Это сейчас, в эпоху тотальной автоматизации, бельё стирают вручную разве что в общинах старообрядцев, или в полевых экспедициях, где каждый килограмм веса меришь своим горбом, или на Крайнем Севере у вымирающих кочевых народов, или, скажем, в исключительных случаях, когда стиральная машина сломалась.
Тогда же, в начале шестидесятых, хозяйки из рабочих семей стирали бельё вручную: дома, если белья немного или нужно было выстирать что-то срочное, пелёнки там, мужнины обоссанные подштанники, одежду неряхи сына, извозившегося в весенней луже; или в общественной прачечной, где имелось всё, что требуется для стирки, – корыта, чаны с водой, стиральные доски и прочее.
Отправлялась мама в прачечную с утра (сама она ходила в баню по воскресеньям), чтобы к нашему возвращению успеть нам с папой приготовить обед.
Вот и на этот раз, когда мы пришли из бани, нас уже дожидались щи и скворчавшая на сковороде картошка. Маленькую «Московской» водки папа припас заранее. Он уже елозил локтями по морщинистой клеёнке стола, пожирая голодным взглядом зелёную бутылочную наклейку, когда мама отодвинула рюмку, навытяжку стоявшую перед папой, и сказала, глядя ему в глаза:
– Знаешь, что я нашла в твоих брюках, перед тем как нести их в стирку?
Папа покраснел и насупился. Губы его задёргались. Уж не знаю, о чём он подумал, услышав этот мамин вопрос, но только по всему было видно, что папе сильно не по себе. Он уже не смотрел на маленькую, он взглядом пересчитывал половицы – сколько их умещается под столом.
– Это… в общем… ну… мужики… подшутили… в цеху… ну как бы… в раздевалке… в шкафчике… в перерыв… – Папа лепетал неразборчиво, а мама стояла рядом и молча слушала его лепет.
Потом она рассмеялась по-маминому, только мама так умеет смеяться, и сказала, дёрнув папу за кончик носа:
– Я твой рубль железный нашла, он за отворот завалился, там, у тебя в брюках, и прятался. А ты Сашку тогда обидел, на горшок его хотел посадить зазря. Ой ты Вася-Василёк недотюканный.
Папа снова стал нормального цвета, правда с лёгоньким свекольным оттенком, но ему это даже шло.
А я подумал: «Вот оно как случается. Другой злится, ногти себе ломает, выколупывает рубль изо льда, думает на всех без разбора, какать заставляет насильно, и из-за чего, спрашивается? Из-за ерунды, если вдуматься. Рубль железный разве не ерунда? Ну а добрый человек вроде мамы сунет пальцы за отворот брюк, рубль сам идёт ему в руки, чувствует, к кому ему нужно».
– Я его Петру Иванычу одолжила, – сказала мама, разливая щи по тарелкам. – Валерка с Витькой в милицию загремели, ограбили кого-то на Невском, вот он с горя вчера и закеросинил. Встал сегодня – злой, как татарин, весь трясётся, как тут не одолжишь.
«И только человек вроде мамы, – продолжал я свою мудрую мысль, – расстаётся с рублём легко, если видит, что Пётр Иваныч встал сегодня злой, как татарин».
Мама заглянула в мои глаза. В них она прочитала всё, о чём я только что думал, и даже немного больше. Мама на то и мама, чтобы знать о нас больше нас. Она улыбнулась весело, потом кивнула на щи.
– Ложку в руку и хлебай, пока не остыли.
К чёрту
– Пошёл ты уже, дядя Ваня, Иван Данилович, к чёрту, – сказали в жилуправлении. Добавили: – Задолбал, ходивши! – И отгородились от него дверью.
«Вот как!» – подумал Иван Данилович.
Подумал еще: «А что? Ну, к чёрту, почему нет?»
Пошёл.
Искал он чёрта три дня, отыскал лишь под утро пятницы.
На тихой улице Педрина. Или Пудрина, точно дядя Ваня не помнит.
Дом старый, довоенный, красивый. Напротив булочная.
«Не здесь ли?» – думает дядя Ваня.
Зашёл в парадную, нюхает. Нет, не сера, моча.
Когда пообвык глазами, смотрит: лестница узкая, дальше площадка тесная, батарея, над ней окно. На батарее – человек вроде бы.
Сидит. Молча. Смотрит на дядю Ваню.
«Чёрт? Не чёрт?» – Иван Данилович размышляет.
Спросить робеет: а ну как не чёрт?
И то: голова в уборе, ботинки, брюки, хвоста не видать, рогов и копыт тем более.
Решился дядя Ваня.
– Чёрт? – спрашивает.
– Чёрт, – человек ему.
– Ага, – кивает Иван Данилович.
Чёрт ему:
– Что «ага»? Почему киваешь?
– Племянник, понимаешь, из Будогощи жить со мною желает, – излагает Иван Данилович. – Жаль Женьку, племянника, пропадёт совсем без призору.
– Женька? – чёрт спрашивает.
– Женька, – говорит дядя Ваня.
– Капитонов?
– Капитонов, ага.
– Нет, – чёрт говорит. – Этого не пропишу, хоть зарежься. Хоть, – говорит, – душу продай, а Капитонова Женьку не пропишу.
– Да ты, – обижается дядя Ваня, – не знаешь моего Женьку.
– Я твоего племянника вот как хорошо знаю, – чёрт говорит. – Вот он где у меня сидит, этот твой племянник из Будогощи. – Чёрт проводит себе черту на горле.
– Врёшь, – сердится дядя Ваня. – Ты, наверное, моего Женьку с другим каким-нибудь Женькой спутал. Не моим.
– Это как это, – чёрт кричит, – не твоим! В Будогощи, – чёрт кричит, – один Капитонов Женька. Есть Колька, Лёнька есть, три Володьки, все Капитоновы. Но они тебе не родня.
– Это как это не родня?! – Иван Данилович аж вскипел. – Это Лёнька мне не родня? Да Лёнька мне через троюродного дядю Семёна родственник.
– Не знаю никакого дядю Семёна, – упёрся чёрт. – И Капитонова твоего Женьку не пропишу.
– Слушай, – начинает догадываться Иван Данилович, – да ты честно чёрт, без подвоха? Документ у тебя при себе имеется?
– Документа у меня при себе нету, – чёрт говорит, – а доказать – докажу.
– Давай, доказывай, – соглашается дядя Ваня.
– Выйди из парадной на пять минут, – говорит чёрт, – а когда я тебе крикну: «Входи!» – входи.
Дядя Ваня выходит. Напротив булочная. На ней часы. На циферблате – двенадцать.
Проходит минута. Четыре, пять. На часах двенадцать.
Ждёт ещё. На часах двенадцать.
Дальше ждёт. Двенадцать. Часы не ходят.
Дядя Ваня тогда в парадную. На площадке пусто. Окно распахнуто, подоконник грязный.
Сверху крики:
– Вот он, держи! Который с тем, который на стрёме, сука!
Вокруг народ, жильцы в основном. Схватили дядю Ваню, оторвали на пиджаке пуговицу. Приехала милиция, увезли.
Продержали день, ночь, отпустили.
– Пошёл ты уже, дядя Ваня, Иван Данилович, к чёрту, – сказал сержант. – Задолбал, сидевши. – И отгородился от него дверью.
«Вот как!» – подумал Клёпиков.
Домой пришёл, собрал чемодан.
Наутро послал телеграмму в Будогощь: «Встречай сегодня вечерним поездом. Дядя Ваня».
И уехал ко всем чертям.
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.








































