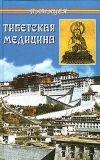Текст книги "Оккультные силы СССР"
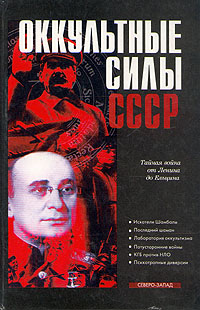
Автор книги: Александр Колпакиди
Жанр: Публицистика: прочее, Публицистика
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 14 (всего у книги 46 страниц)
Ф. И. Шаляпин написал книгу воспоминаний «Маска и душа». У нас была опубликована только первая ее часть, излагающая артистическое кредо Шаляпина. Вторая же часть содержит воспоминания артиста о своей жизни при Советской власти, и там он честит эту власть, а также все большевистское руководство всеми словами, какие только возможны в печати. Среди других он пишет и о Москвине и Бокии. Москвина, которого он называет «петроградский губернатор Москвин», Шаляпин обзывает самыми ругательными словами за то, что тот запретил вывешивать какую-то афишу о его концерте. А вот о чекисте Бокии Шаляпин пишет много, и так, что можно только диву даваться, как мог такое Шаляпин написать!
Шаляпин вспоминал, как однажды после концерта ему передали вместе с букетом цветов огромную корзину коллекционных драгоценных вин. «А вслед за этим за кулисы пришел человек, сделавший такой удивительный подарок, – скромный, тихий и обаятельный, он вел за руку маленькую девочку… Это был Председатель Петроградской ЧК – Глеб Иванович Бокий. И хотя, – продолжал Шаляпин, – о нем ходили и ходят легенды как о кровавом садисте, – я утверждаю, что это – ложь, что Глеб Бокий один из самых милых и обаятельных людей, которых я встречал… И я дружил с ним и рад, что у меня в жизни была такая дружба…»
Л. Разгон имел возможность сверить мемуары с действительностью. Как-то он спросил у Бокия, насколько этот рассказ соответствует истине? Глеб Иванович усмехнулся и ответил: «Ну, было не совсем так. По Питеру шаталась группка матросов в поисках, чего бы выпить… Ну, кому-то из них пришла в голову трезвая мысль, что у Шаляпина обязательно должна быть выпивка. Адрес Шаляпина был известен, они завалились на квартиру Шаляпина, заявили, что они агенты ЧК и ищут оружие, обшарили квартиру, нашли, конечно, немалое количество нужных им бутылочек, забрали и с торжеством ушли. Шаляпин поднял по этому поводу страшный крик. И я, для успокоения Федора Ивановича, приказал собрать для него корзину вина из дворцовых запасов и отослать ему за кулисы. И для проверки этого зашел к нему. Ну, и познакомиться захотелось – очень я люблю этого артиста. А потом, действительно, – подружились…»
Да, «Единое трудовое братство» не ставило перед собой политических целей, но его члены, пройдя через чистилище революции, «красного террора», гражданской войны, политическое тщеславие прежних друзей и кумиров, приблизились в той черте, когда встал вопрос о переоценке идеалов, а также способах их достижения.
Сколь глубоко вера в мистическое проникла в сознание Бо-кия? При обыске у него на квартире изъяли коллекцию засушенных фаллосов. Очевидно, он верил в их таинственную силу…
7 июня 1937 года Глеба Ивановича вызвал к себе нарком внутренних дел и генеральный комиссар государственной безопасности Ежов. Из кабинета Ежова Глеб Иванович не вернулся.
На допросе Г. И. Бокий сказал: «В период встреч с Барченко я занимался познанием абсолютной истины (абсолютного познания добра и зла)». Но парадокс ситуации заключался в том, что поиск путей постижения высших идеалов происходил в стенах учреждения, проводившего политику геноцида в отношении собственного народа.
По свидетельству Л. Э. Разгона, который изучал следственно-судебное дело Глеба Ивановича Бокия, там не оказалось никаких секретов:
"Все эти грифы «сов. секретно» и пр. – ничего не стоят. Из этих дел ничего нельзя узнать. Правда, они дают то, что называется «толчком к размышлению». Известно, что опытный палеонтолог может представить себе скелет динозавра или другого такого же вымершего зверя по одной кости… Не могу себя причислить к подобным исследователям. Во всяком случае, я многое узнал. И даже то, что я не узнал, – тоже стало знанием.
Самое главное в этих делах не то, что там есть, а то, чего там нет. Постановление об аресте Бокия и Москвина подписано каким-то заместителем Ежова, комиссаром государственной безопасности 2-го ранга Л. Н. Вельским. Какой-то ранее никому не известный субъект из окружения Ежова и посаженный им в свои заместители. Но не он же принимает решение об арестах людей такого ранга, как Бокий, Москвин и им подобные? Значит, это где-то обсуждалось, и глаза того, чьи «толстые пальцы, как черви, жирны», медленно проходились по списку, где были и эти хорошо знакомые ему фамилии. Впрочем, все фамилии в этих списках были ему знакомы. Значит, есть где-то эти списки, есть пометки, а может быть, и резолюции, но они не здесь, не в этих делах, а в других, и хранятся они так же тщательно, как смерть Кащея… И там же хранятся и другие маленькие или большие, рукописные или же печатные бумажки с набросками сценария или же полным сценарием того, за какое ребро подвешивать очередную жертву.
Итак, 7 июня 1937 года Бокий был вызван к Ежову и оттуда уже не вернулся. Обыск в его кабинете производился в присутствии самого Ежова. Обыскивали, естественно, и дома. А постановление и ордер на арест не от 7 июня, а от 16-го. И в этом постановлении замнаркома Л. Н. Вельский утверждает – уже как доказанное, – что Бокий состоял членом контрреволюционной масонской организации «Единое трудовое братство», занимавшейся шпионажем в пользу Англии. Кроме того, Бокий является руководителем антисоветского спиритического кружка, устраивавшего тайные сеансы, на которых «предсказывалось будущее».
А после постановления идет так называемое «следственное дело», состоящее всего-навсего из двух протоколов допросов.
На первом из них обвиняемый признается, что он стал масоном еще в 1909 году, вступив в ложу, где членами ордена были и академик Ольденбург, и художник Рерих (который везде именуется «английский шпион Рерих»), скульптор Мер-куров… Ложа продолжала активно существовать, от нее ответвилось «Великое братство Азии», где уже начинается нечто из романов Луи Буссенара: таинственная секта исмаилитов, их легендарный и зловещий глава Ага-хан, бродячие дервиши – шпионы… Значит, потребовалась всего какая-то неделя, чтобы Глеб Иванович без колебаний своим твердым и четким по,-черком подписал эту гимназическую галиматью… Что же происходило за эту неделю? Если судить по «делу», то вовсе ничего.
Дело всей семьи Бокия, Москвина и Софьи Александровны Москвиной-Бокий вел обычный следственный тандем: руководящий работник, редко пачкающий свои белые руки о физиономии арестованных, и опытный палач с мелким чином лейтенанта. У Вельского таким палачом-костоломом был Али Кутебаров, 1902 года рождения, казах. Конечно, он никогда в жизни не читал приключенческих романов, на которых, очевидно, выросла такая крупная интеллектуальная величина, как комиссар государственной безопасности 2-го ранга Вельский, и выбивал из подследственного роман, который ему диктовал руководитель следствия.
Но, очевидно, экзотическая масонско-исмаилитская версия не устраивала главных режиссеров всех этих кровавых игрищ. Не сомневаюсь, что главным из них был сам, для которого они были главным культурным развлечением. Бокий им был нужен для более существенных дел, нежели то, что придумал недоучившийся гимназист Вельский.
В очень для меня лестной статье «Масон, зять масона» («Литературная газета», № 52 за 1990 г.) такой авторитетнейший публицист-исследователь, как Аркадий Ваксберг, написал, что Глеб Бокий командовал «не только соловецкими лагерями „особого назначения“, но и всеми другими концлагерями, не „особыми“ и не „специальными“». На этот раз Аркадий Ваксберг допустил ошибку. Глеб Бокий не имел за всю свою многолетнюю работу в ОГПУ – НКВД никакого отношения к ГУЛАГу и к любым другим лагерям. Его имя оказалось связанным со знаменитым Соловецким лагерем не только благодаря названию парохода, курсировавшего между Кемью и Соловками, но и благодаря тому, что он был автором идеи создания концентрационного лагеря и первым его куратором. Глеб Иванович Бокий принадлежал, конечно, к совершенно другой генерации чекистов, нежели Ягода, Паукер, Молчанов, Гай и другие (имена же их тебе, Господи, ведомы). Это был человек, происходивший из старинной интеллигентной семьи, хорошего воспитания, большой любитель и знаток музыки. Пишу это вовсе не для того, чтобы прибавить хоть малость беленькой краски к образу Глеба Бокия. Ни образование, ни происхождение, ни даже профессия нисколько не мешали чекистам быть обмазанными невинной кровью с головы до ног. Менжинский, как известно, был образованнейшим полиглотом и знатоком античной литературы, а по профессии – исследователем истории балета… Глеб Иванович Бокий был одним из руководителей Октябрьского переворота, после убийства Урицкого стал Председателем Петроградской ЧК и в течение нескольких месяцев, до того как Зиновьев вышиб его из Петрограда, руководил «красным террором», официально объявленным после покушения на Ленина. А во время гражданской войны, с 1919 года, был начальником Особого отдела Восточного фронта, а затем и Туркестанского. Как нет надобности объяснять характер этой деятельности, так и невозможно подсчитать количество невинных жертв на его совести.
Как мне кажется, идея создания на Соловках концентрационного лагеря для интеллигенции имела то же происхождение, что и массированная отправка за границу всего цвета русской философской мысли. Тех – за границу, а которые «пониже», не так известны, не занимаются пока политической борьбой, но вполне к этому способны – изолировать от всей страны. Именно – изолировать. Ибо в этом лагере не должно быть и следа не только каторжных, но и каких-либо других работ для высланных. И первые годы Соловков были совершенно своеобразными, о них сохранилось много воспоминаний, в том числе и Дмитрия Сергеевича Лихачева. Запертые на острове люди могли жить совершенно свободно, жениться, разводиться, писать стихи или романы, переписываться с кем угодно, получать в любом количестве любую литературу и даже издавать собственный литературный журнал, который свободно продавался на материке в киосках «Союзпечати». Единственное, что им запрещалось делать, – заниматься какой-либо физической работой, даже снег чистить. Но ведь снег-то надобно было чистить! И дрова заготавливать, и обслуживать такую странную, но большую тюрьму. И для этой цели стали привозить на Соловки урок – обыкновенных блатных. А командирами над ними ставили людей, которые числились заключенными, но были по биографии и характеру подходящими для этого. Легко понять, что ими оказались не доктора философии и молодые историки, а люди, побывавшие на командирских должностях в белой или же Красной Армии. Знаменитый палач Со-ловков начальник лагеря Курилко был в прошлом белым офицером, хотя и числился одним из «изолированных» на острове. И постепенно стал превращаться идиотски задуманный идиллический лагерный рай в самый обычный, а потом уже и в необычный лагерный ад. Бокий в последний раз был на Соловках в 1929 году вместе с Максимом Горьким, когда для того, чтобы сманить Горького в Россию, ему устроили такой грандиозный балет-шоу, по сравнению с которым знаменитые мероприятия Потемкина во время путешествия Екатерины кажутся наивной детской игрой.
А сам Бокий с 1921 года и до самого своего конца был создателем и руководителем отдела, который даже не был отделом ОГПУ, а официально считался «при»… Насколько я себе представляю, он скорее был похож на то, что в США называется Агентством национальной безопасности. И занималось оно тем, что охраняло тайны своего государства и охотилось за тайнами других. И сам отдел, и его руководитель были, пожалуй, самыми закрытыми во всей сложной и огромной разведывательно-полицейской машине. Один из первых перебежчиков, бывший торгпред в Париже Беседовский, который прирабатывал еще и сочинением романов, написал о Бокий аж целый роман. Он назывался «Охотники за шифрами». Хотя я целых два года сам работал в этом «при», о функциях отдела Бокия я был информирован весьма скупо. Но знаю точно, что в этом отделе никого и никогда не арестовывали и не допрашивали. Наверное, это делали в других, более для этого специализированных отделах. Первого арестованного в моей жизни я увидел 18 апреля 1938 года во внутренней тюрьме.
Все это я пишу не для оправдания или же наведения некоторой бледности на образ моего бывшего тестя. Но Бокий из всех возможных и невозможных по своим обязанностям фигур вокруг сосредоточия власти был самым информированным, самым знающим, от него не могла укрыться никакая тайна. И предъявлять такому человеку полушкольное сочинение о масонах и исмаилитах было более чем глупо. И поэтому были получены от Главного режиссера другие указания. Вот почему в деле появился еще один протокол – уже не от 16 июня, а от 15 августа. И допрос тут вел не высокий интеллектуал Вельский, а его полуграмотный помогайло-костолом Али Кутебаров.
Ну вот здесь и были установлены преступления, далеко отстоящие от любительского масонства. Бокий признавался, что он всегда был троцкистом и после высылки Троцкого поддерживал с ним постоянную и тесную связь. Пока Троцкий был в Европе, то непрерывно переписывался с Бокием через своих эмиссаров, а когда очутился в Мексике, то Бокий у себя на даче установил для связи с Троцким специальную радиостанцию. А так как расстояние между радиостанциями Троцкого и Бо-кия было большим, то договорились с немецко-фашистской разведкой, что послания заговорщиков будут приниматься и передаваться через их специальную радиостанцию. Ну, естественно, что главной целью этих переговоров была организация убийства Сталина. Это проще всего было осуществить, взорвав к чертовой матери весь Кремль. В отделе Бокия был человек, который носился с идеей производства взрыва на расстоянии невидимыми лучами, – Женя Гопиус. И вот он и должен был осуществить эту историю. Правда, для этого нужно было завезти в Кремль подходящее количество взрывчатки, но такие детали уже не интересовали авторов этого школьного сочинения. И вот этот второй протокол, как и первый, Бокий, как и положено, на каждой странице подписал своим четким и неколеблющимся почерком.
Теперь всего было достаточно, но такая эстрада не годилась даже для десятиминутного суда, проводимого Ульрйхом. Поэтому в постановлении «Об окончании следствия», подписанном 15 ноября 1937 года Вельским и соответственно утвержденном, все эти масонско-троцкистские преступления даже не передавались суду, а подлежали решению «Особой тройки НКВД». И в тот же день – 15 ноября эта тройка «приговаривает» Глеба Ивановича Бокия к расстрелу и в тот же день его убивают".
Большевик Иван Михайлович Москвин. «Соучастник масонско-шпионской организации»
В книге «Плен в своем Отечестве», вышедшей в 1994 году в московском издательстве «Книжный сад», Л. Э. Разгон высказывает весьма искреннее удивление, что Иван Михайлович Москвин «вот так – начисто – канул в безвестность». Ведь И. М. Москвин принадлежал к верхушке партийно-государственной элиты. Много лет был членом ЦК партии, членом Оргбюро и Секретариата ЦК, заведующим Орграспредом ЦК. И в истории партии большевиков Иван Михайлович занимал видное место: был одним из руководителей петроградской организации в канун Первой мировой войны, участвовал в знаменитом совещании 16 октября 1917 года, когда решался вопрос о вооруженном восстании. И никогда не выступал ни в каких оппозициях… А вот – как в воду канул! Люди калибром поменьше и в энциклопедиях заняли скромное, но достойное место, и в какие-то юбилейные даты отмечались в «Правде» почтительно-хвалебными статьями с концовкой: «Скончался в 1937-м. Память о преданном сыне никогда не исчезнет».
А об Иване Михайловиче – исчезла. Может быть, это случилось потому, что после него не осталось никаких родных. Его единственная сестра – партийный работник среднего масштаба, по свидетельству Л. Разгона, умерла еще молодой в Петрограде, примерно в 1920 году, и в память о ней один из петербургских проспектов до сих пор называется «проспект Москвиной». Как правило, не ИМЭЛ, а только оставшиеся в живых родные хлопотали о том, чтобы и статьи были, и справка в энциклопедии, и даже воспоминания в каком-либо журнале. А падчерица Ивана Михайловича, Елена Бокий, вернувшись из лагеря, получила лишь в Военной прокуратуре справку о реабилитации Ивана Михайловича Москвина. Вместе со справками о реабилитации своего отца, матери, сестры – всех «не вернувшихся». Больше она ничего сделать не успела или не захотела – умерла.
Лев Разгон признавался:
«Говоря по совести, напомнить о Москвине должен был я. Потому что больше не осталось людей, знавших Ивана Михайловича. А я несколько лет был членом его семьи и обязан ему многими знаниями. Теми самыми, в которых „многие печали…“. Но я не мог себя заставить пойти в „высокие инстанции“, чтобы хлопотать о памяти человека перед теми, которые вычеркнули из своей памяти не только Ивана Михайловича (они о нем ничегошеньки не знали), но и все его время».
Даже фотографии Москвина не сохранилось ни одной. Л. Разгон вспоминает, что "у него было совершенно обычное и не очень характерное лицо, на котором выделялись только глубоко сидящие глаза и маленькая щеточка усов. Да еще был у него совершенно бритый череп. Своей «незаметностью» Иван Михайлович гордился и даже этим объяснял то, что с 1911 года, когда вступил в партию, и до 1917 года – несмотря на большую партийную работу – он ни разу не был арестован. И говорил: «Революционеру не следует хвастаться тем, что он много и долго сидел в тюрьме. Это – нехитрое дело. И – пропащие годы для партии». В конце 1936 года пришли фотографировать Ивана Михайловича для очередного тома МСЭ, где о нем была статья. Нас – домашних – очень веселила перспектива увидеть «незаметное» лицо на страницах энциклопедии. Да вот – не увидели.
Никогда не расспрашивал Ивана Михайловича о том, откуда он, где учился, что делал. Так, из случайных разговоров узнал, что окончил он тверскую гимназию. Учился ли он дальше – не знаю. Вероятно, был он человеком способным. Иначе нельзя объяснить, что он превосходно знал латынь. Не только любил читать любимые им латинские стихи, но и свободно разговаривал по-латыни. На заседаниях Совнаркома, когда он встречался с Винтером – таким же страстным латинистом, как он, – они разговаривали на латинском, к немалому смущению и некоторой растерянности окружающих. И математику хорошо знал и любил в свободное время решать сложные математические головоломки".
По рассказам знавших Москвина, его легко было представить леденяще-скучным человеком, малоспособным к веселому общению с людьми. Но это было не так, утверждает Л. Разгон. Да, сам Иван Михайлович не пил, не курил, но тем не менее любил многочисленное и веселое общество, шумное семейное застолье, озорные розыгрыши. «Не знаю, был ли он таким по своей натуре или же таким его сделала жена – Софья Александровна Бокий».
Иван Михайлович был партийным функционером. Этим он занимался всю жизнь после окончания тверской гимназии. В Петербурге он начал работать в районной партийной организации, перед началом Первой мировой войны включен был в Русское бюро ЦК, а после 1917 года занимал в петроградской организации большевиков посты первой величины. Когда было создано Севзапбюро ЦК, он стал его секретарем – то есть в ленинградской партийной иерархии занимал второе место после Зиновьева.
Зиновьева он очень не любил. Даже не то что просто не любил, а презирал. Говорил, что был тот труслив и жесток. Когда в 1919 году Юденич уже стоял под самым городом и питерская партийная организация готовилась к переходу в подполье, Зиновьев впал в состояние истерического страха и требовал, чтобы его немедленно первым вывезли из Петрограда. Впрочем, ему было чего бояться: перед этим он и приехавший в Петроград Сталин приказали расстрелять всех офицеров, зарегистрировавшихся согласно приказу… А также не одну сотню бывших политических деятелей, адвокатов и капиталистов, не успевших спрятаться.
А Иван Михайлович в то же самое время организовывал подпольные типографии. Одна из них была использована Москвиным в период, который стал для него (как и для многих) переломным.
Когда возникла «ленинградская», или «новая», оппозиция, Москвин был среди троих крупных ленинградских партработников, которые не присоединились к Зиновьеву и его сторонникам. Но если Лобов и Кодацкий просто «не присоединились», то Москвин, пожалуй, был самым активным в противодействии зиновьевцам.
А это оказалось вовсе не таким уж и простым делом. Л. Разгон упоминает, что только рассказ самого Ивана Михайловича «дал мне представление о таком характере внутрипартийной борьбы, какую теперь и представить себе невозможно. И о том, какую роль в этом играло ГПУ».
Резолюции XIV съезда, где зиновьевцы потерпели поражение, были запрещены в Ленинграде. Газеты с ними не продавались в киосках, задерживались на почте. Ленинградское ГПУ, которое было покорным орудием в руках Зиновьева, хватало людей, распространявших материалы партийного съезда. Вот тогда-то Москвин и пустил в ход все свои связи, оставшиеся чуть ли не с дооктябрьского подполья. В законспирированной типографии, оставшейся так и не раскрытой с 1919 года, печатались материалы съезда. Их переправляли на созданные конспиративные квартиры, по ночам разносили на заводы и раскладывали в инструментальные ящики. Только когда было сменено все руководство Ленинградского ГПУ, оказалось возможным организовать знаменитый «десант» в Ленинград Калинина, Ворошилова, Чаплина и других партийных руководителей. После чего и начался процесс «очищения» организации и перевода ее в русло политики, которую тогда никто еще не называл «сталинской», но которая, конечно, именно такой и была.
«Не думаю, – замечает Л. Разгон, – чтобы в этой истории Иван Михайлович руководствовался какими-либо карьерными соображениями. Но после нее он взлетел на самый верх партийной карьеры. Из „второго эшелона“ партийной олигархии он поднялся на вершину ее. На пленуме ЦК его выбирают членом Оргбюро, кандидатом в члены Секретариата ЦК. Москвин переезжает в Москву, он становится заведующим Орграспредом ЦК. Того „могущественнейшего Орграспреда“, о котором писал оды Безыменский. Действительно, Орграспред ЦК был самым могущественным в могущественном ЦК. Тогда же не было – как теперь – отраслевых отделов ЦК. Орграспред ведал всеми кадрами: партийными, советскими, научными… В этом „могущественном“ Орграспреде его заведующий стал могущественнейшим человеком».
Таким его сделала любовь к нему Сталина. Если можно, говоря о Сталине, употреблять слово «любовь». Людей, как известно, он оценивал только степенью личной преданности. И вероятно, ему казалось, что поведение Москвина в мятежном Ленинграде было проявлением такой преданности. Во всяком случае, Сталин делал все, чтобы Москвина «приблизить». Звал на охоту, приглашал на свои грузинские пиры, приятельски приезжал к нему, отдыхая на юге. Однако трудно было найти более неподходящего партнера для этих игрищ, нежели Москвин. Он был ригористом и непокладистым человеком. Иван Михайлович в своей жизни не выпил ни одной рюмки вина или даже кружки пива. Не выкурил ни одной папиросы. Не любил «соленых» анекдотов, грубоватых словечек. Не ценил вкусной еды, был равнодушен к зрелищам. И не желал менять своих привычек. Поэтому он отказывался от августейших приглашений на застолья, от участия в автомобильных налетах на курортные города, от ночных бдений за столом у Сталина. Нет, он был совершенно неподходящим «соратником», и падение его было неизбежным. Оно наметилось, когда произошло событие, казалось бы, весьма камерное, носившее характер чисто семейной трагедии. Однако любые трагедии, к которым имел отношение Сталин, обыкновенно превращались в трагедии намного большего размаха.
Таким событием стало самоубийство жены Сталина – Надежды Сергеевны Аллилуевой. Судя по всему, это была скромная, добрая и глубоко несчастная женщина. Л. Разгон вспоминал по этому поводу: «Несколько раз, когда я приходил в Кремль к Свердловым, я заставал у Клавдии Тимофеевны заплаканную Аллилуеву. И после ее ухода сдержанная Клавдия Тимофеевна хваталась за голову и говорила: „Бедная, ох, бедная женщина!“ Я не расспрашивал о причинах слез жены Сталина, но об этом, в общем, знало все население того маленького провинциального городка, каким был Кремль до 1936 года. Как в любом маленьком городке, его жители живо обсуждали все личные дела друг друга: и о любовнице Демьяна Бедного, и о женитьбе Сергея – сына Владимирского; и о веселых ночах, проводимых Авелем Енукидзе… И конечно, о бедной Надежде Сергеевне, вынужденной выносить характер своего страшноватенького мужа. И про то, как он бьет детей – Свету и Васю, – и про то, как он хамски обращается со своей тихой женой. И про то, что в последнее время Коба стал принимать участие в забавах Авеля….»
Достаточно распространены несколько версий о причинах самоубийства Аллилуевой. Среди них и та, что Надежда Сергеевна не выдержала преследования Сталиным старых партийцев, в том числе и ее друзей. Л. Разгон полагает, в частности, что это было не так и желаемое выдавалось за действительное. В кругах, близких к партийному Олимпу, о причинах самоубийства жены Сталина были более точные сведения. Это было время, когда Сталин объявил, что «жить стало веселее». Очевидно, он полагал, что веселее должны жить не только его подданные, но и он сам. И начал участвовать в той свободной и веселой жизни, которую вел его самый близкий, еще с юности, человек – Авель Енукидзе – и тогда пошли слухи о том, что «железный Коба» размягчился…
Содержание письма, оставленного Аллилуевой, было известно «наверху» и живо обсуждалось там в семейных кругах. Надежда Сергеевна писала, что она не может видеть, как вождь партии катится по наклонной плоскости и порочит свой авторитет, который является достоянием не только его, но и всей партии. Она решилась на крайний шаг, потому что не видела другого способа остановить вождя партии от морального падения.
Широкое хождение получила легенда, что Аллилуеву застрелил сам Сталин. Это, по мнению Л. Разгона и многих других компетентных историков, – совершенный апокриф; Сталин сам никогда никого не убил и, вероятно, был просто не способен это сделать. А то, что такая легенда может возникнуть, он понимал. Когда Сталина и Авеля вызвали с гульбища, где они предавались «изнеженности нравов», Енукидзе предложил составить акт о скоропостижной смерти из-за сердечного припадка. На что мудрый Сталин ответил: «Нет, будут говорить, что я ее убил. Вызвать судебно-медицинских экспертов и составить акт о том, что есть на самом деле, – о самоубийстве».
«Общественное мнение» тех, что составляли основной слой «старейших» – ригориствующих функционеров, – было смущено и даже возмущено всей этой историей. Бедный Сталин должен был еще считаться с этой толпой старых, ничего не понимающих в нем людей. Надо было им что-то кинуть… И он бросил на пики своего ближайшего друга. На последовавшем вскоре Пленуме ЦК Енукидзе был обвинен в моральном разложении. Его исключили из состава ЦК, сняли с поста секретаря ЦИКа и выгнали из Москвы – руководить Минераловодскими курортами. А сам Сталин посыпал главу пеплом и изображал глубочайшее раскаяние.
Скульптор воздвиг на могиле Аллилуевой прекрасный памятник из белого мрамора, напротив бюста покойной была устроена мраморная скамейка, на которую приезжал тосковать безутешный супруг-вдовец. Специально для него рядом с могилой в старинной стене бывшего Новодевичьего монастыря был пробит проход, затворявшийся металлической калиткой. Специальный прожектор освещал милое лицо Аллилуевой, за ближайшими надгробиями пряталась охрана. Все Новодевичье кладбище перед его прибытием неизменно прочесывалось и оцеплялось войсками, чтобы никто не мог помешать Сталину предаваться скорби. А также размышлениям о тех, кто посмел «возмутиться».
"Думаю, – замечает Л. Разгон, – что тогда в его великолепной памяти начали откладываться списки обреченных. Но все это было потом. А пока смерть и похороны жены стали для Сталина некоей меркой отношения к нему. Он требовал сочувствия и проявления любви. Естественно, не к Аллилуевой, а к себе. Когда тело покойной лежало в Хозяйственном управлении ЦИКа, которое занимало теперешний ГУМ, мимо гроба проходил поток людей, в почетном карауле стояли все верные соратники, в газетах печатались выражения беспредельного сочувствия Сталину. Даже Пастернак – и тот выражал.
А сам Сталин все время сидел у гроба и зоркими, все видящими, желтыми своими глазами всматривался: кто пришел, кто как себя ведет, какое у кого выражение лица… Это было свойство его характера. И, ничего не зная о похоронах Аллилуевой, точно об этом написал Борис Слуцкий в своем стихотворении: «Когда меня он плакать заставлял, ему казалось – я притворно плачу…»
Иван Михайлович Москвин плохо умел притворяться. Может быть, по этой самой причине он и не поехал в ГУМ, не встал в почетный караул, не подошел со скорбным лицом к убитому горем супругу покойной. Он сидел дома. А Сталин быстро обнаружил, что человек, которого он возвел, приблизил, на кого рассчитывал, – этого человека нет среди той толпы «тонкошеих вождей», которые его окружали.
Куйбышев, который был в дружеских отношениях с Москвиным, позвонил ему из ГУМа:
– Иван! Он спрашивает, где ты, был ли ты?
– Нет, не был. И не буду. Спросит – скажи, что, вероятно, нездоров.
– Иван! Не глупи! Приезжай сейчас! Процессия движется. Москвин не поехал. А Куйбышев и вправду, очевидно, был верным другом. Он позвонил с дороги:
– Иван! Он уже два раза спрашивал про тебя. Не совершай глупости, которую нельзя будет поправить. Бери машину и поезжай на кладбище".
Л. Разгон рассказывает о тех днях так:
"Софья Александровна, которая понимала Сталина лучше, нежели ее муж, и которая потом мне об этом подробно рассказывала, рыдая, вцепилась в Москвина, требуя, чтобы он пожалел ее, Оксану, чтобы он сейчас же ехал. Софье Александровне Москвин никогда не возражал – так было на моей памяти. Он поехал на кладбище.
У открытой могилы Сталин стоял, опустив голову или же закрывая лицо руками. Но так, чтобы видеть: все ли тут? Не поворачивая головы, он спросил:
– А Москвин здесь?
Ивана Михайловича, стоявшего позади толпы вождей, Куйбышев вытолкнул вперед. Сталин с протянутой рукой пошел навстречу Москвину:
– Иван! Какое горе!..
Иван Михайлович выполнил церемониал соболезнования, но Сталин – как писал по другому поводу Зощенко, – «затаил в душе хамство». На конечную судьбу Москвина, я думаю, этот эпизод влияния не имел. Потому что конец Ивана Михайловича был точно такой, как и конец тех «соратников», которые рыдали у гроба и всем своим существом выражали беспредельную любовь и преданность. Но на карьере Москвина это сказалось".
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.