Текст книги "Таврический сад: Избранное"
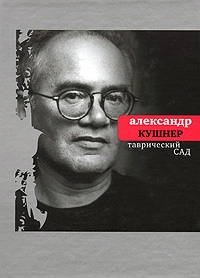
Автор книги: Александр Кушнер
Жанр: Поэзия, Поэзия и Драматургия
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 13 (всего у книги 20 страниц)
«Мы-то знаем с тобою, какие цветы…»
Облаков на небе маленьких так много!
Мелких-мелких, в темном небе, в поздний час
Из гостей мы. Что за странная тревога
На Суворовском охватывает нас?
Убыстряем шаг, зачем? Остановиться
Было б правильней, подумать, постоять…
Эта белая ночная вереница
Разве лучшим нашим мыслям не под стать?
Или трудно нам собрать свои волокна?
И в рассеянье закончить легче день?
И собор покрашен в цвет какой-то блёклый,
И бесформенной толпой стоит сирень.
Как бы я себя ругал, как недоволен
Был бы я собой, когда б я шел один!
Ты спешишь – и я как будто приневолен.
Пусть плывут себе подобьем мелких льдин!
Так хорош он, этот мир, что не по силам
Нам… скорей, скорей домой, скорее лечь,
Да, немыслящим; бездушным, да; бескрылым!
Счастье в том, что можно счастьем пренебречь.
«Есть где-то церковка, увитая плющом…»
Мы-то знаем с тобою, какие цветы
Всех милей и нежней, как у тихой воды,
К ним склонясь, теребила их ты.
Мы-то знаем с тобою, какая вода
Ниоткуда всех тише течет в никуда,
Под быками какого моста.
Мы-то знаем с тобою, какие слова
Значат больше, чем все золотые права,
Как мягка на откосе трава.
И как глупость, нахмурясь над лучшей строкой,
Ничего не поймет, – мы-то знаем с тобой, —
Будет требовать мысли прямой.
Мы-то знаем с тобою, в каких дураках
Ходит ум в самых лучших, горячих стихах,
Как он сеном и мятой пропах.
Мы-то знаем с тобою средь многих помех,
И забот, и тенет, кто любимее всех,
Сомневаться нам было бы грех.
Мы-то знаем с тобою, кто лучший поэт,
Но пока не прошло ста и более лет,
Никому не расскажем. Секрет!
«Мне весело: ты платье примеряешь…»
Есть где-то церковка, увитая плющом,
Им сплошь одетая в клубящуюся ризу, —
Так волны плещутся, – я издали прельщен
Обросшей, затканной, на холм похожей снизу.
Есть где-то церковка. Черты ее лица
Не разглядеть, увы, что страннику обидно.
Вся, вся курчавится, как местная овца, —
Кто пострижет ее? Охотников не видно.
Есть где-то церковка. Я знаю где: в глухом
Углу Нормандии, на берегу скалистом.
О, как топорщится, как ходит ходуном,
Струится шерсть ее с отливом серебристым!
Переливается, шуршит на ветерке.
Есть где-то церковка, расшитая листвою,
Плющом увитая, как будто в парике.
Есть где-то церковка… в ней нам не быть с тобою.
Молитва вязкая стоять, как в горле ком,
Там не посмела бы, – колеблется, струится,
Течет, пропитана латинским языком.
Есть где-то церковка и плющ, как черепица.
Карквильской, кажется, ее назвал поэт,
Писавший прозою, спеша, в начале века.
Есть где-то церковка… такой на свете нет.
Вблизи Бальбекских скал; но нет ведь и Бальбека.
«Сторожить молоко я поставлен тобой…»
Мне весело: ты платье примеряешь,
Примериваешь, в скользкое – ныряешь,
В блестящее – уходишь с головой.
Ты тонешь, западаешь в нем, как клавиш,
Томишь, тебя мгновенье нет со мной.
Потерянно смотрю я, сиротливо.
Ты ласточкой летишь в него с обрыва.
Легко воспеть закат или зарю,
Никто в стихах не трогал это диво:
«Мне нравится», – я твердо говорю.
И вырез на спине, и эти складки.
Ты в зеркале, ты трудные загадки
Решаешь, мне не ясные. Но вот
Со дна его всплываешь: всё в порядке.
Смотрю: оно, как жизнь, тебе идет.
«Сегодня – мглистое, сегодня – никакое…»
Сторожить молоко я поставлен тобой,
Потому что оно норовит убежать.
Умерев, как бы рад я минуте такой
Был: воскреснуть на миг, пригодиться опять.
Не зевай! Белой пеночке рыхлой служи,
В надувных, золотых пузырьках пустяку.
А глаголы, глаголы-то как хороши:
Сторожить, убежать, – относясь к молоку!
Эта жизнь, эта смерть, эта смертная грусть,
Прихотливая речь, сколько помню себя…
Не сердись: я задумаюсь – и спохвачусь.
Я из тех, кто был точен и зорок, любя.
Надувается, сердится, как же! – пропасть
Так легко… столько всхлипов, и гневных гримас,
И припухлостей… пенная, белая страсть,
Как морская волна, окатившая нас.
Тоже, видимо, кто-то тогда начеку
Был… О, чудное это, слепое «чуть-чуть»,
Вскипятить, отпустить, удержать на бегу,
Захватить, погасить, перед этим – подуть.
«На корабле не знают, сколько глаз…»
Сегодня – мглистое, сегодня – никакое.
Как бы не выспалось, во сне забыло цвет.
Не приставай, махни рукою…
Я тоже пасмурен… Меня как будто нет.
Что называется, я с левой встал сегодня
Ноги… Когда б оно сверкало, тяжелей
Мне было б; сонное, оно еще дремотней
Из-за уснувших кораблей,
Как бы на привязи улегшихся в унынье,
В тоску, в беспамятство, в отказ от новых встреч:
Как будто маленькие клинья
Забиты в зыбкий грунт, и в мысль мою, и в речь.
Не знаю… Кажется… Наверное… Не буду…
Сейчас не хочется, но, может быть, потом…
Как будто отняли отраду и причуду
С вогнуто-выпуклым хребтом,
О берег бившую, под самым сердцем лежа.
Полцарства рухнуло, полдня
Пропало; мнится, мир покрыт гусиной кожей.
Читай… похаживай… не замечай меня.
Водопад
На корабле не знают, сколько глаз
Любуются им в светлый этот час,
Когда, как тень, по плоскости покатой
Крадется он, столь белый, мимо нас,
Как если бы пошла одна из статуй.
Как если бы Гермес иль Дионис
С обшарпанного пьедестала вниз
Шагнул, и в путь пустился по тропинке,
И виден был бы, то за кипарис
Зайдя, то сквозь перила, паутинки.
На корабле не знают, сколько слов
Ему вослед звучит из-за кустов,
С балконов, лестниц, улочек и пляжей…
Боюсь, к такой нагрузке не готов
Он – белый штрих, деталь морских пейзажей.
Земля и впрямь, должно быть, тяжела,
Коль так легка мечта ее, бела,
Бесплотна так, безбытна, мимолетна,
И плохи, видно, впрямь ее дела,
И зло к сухой пристало слишком плотно…
«Говорю тебе: этот пиджак…»
Чтобы снова захотелось жить, я вспомню водопад:
Он цепляется за камни, словно дикий виноград,
Он висит в слепой отчизне писем каменных и книг, —
Вот кто всё берет от жизни, погибая каждый миг.
Весь Шекспир с его витийством – только слепок, младший брат,
Вот кто жизнь самоубийством из любви к ней кончить рад!
Вот где год считают за три, где разомкнуты уста,
В каменном амфитеатре все заполнены места!
Пусть церквушка на церквушке там вздымаются подряд,
Как подушка на подушке, горы плоские лежат,
Не тащи меня к машине: однолюб и нелюдим —
Даже ветер на вершине мешковат в сравненье с ним!
Смуглых рук его сплетенье и покатое плечо.
Мне теперь ничье кипенье на земле не горячо!
Он живой, а ты – живущий, поживающий, слегка
Умирающий, жующий жизнь, желанья, облака…
«Весны прекрасный сор: все эти молоточки…»
Говорю тебе: этот пиджак
Будет так через тысячу лет
Драгоценен, как тога, как стяг
Крестоносца, утративший цвет.
Говорю тебе: эти очки.
Говорю тебе: этот сарай…
Синеокого смысла пучки,
Чудо, лезущее через край.
Ты сидишь, улыбаешься мне
Над заставленным тесно столом,
Разве Бога в сегодняшнем дне
Меньше, чем во вчерашнем, былом?
Помнишь, нас разлучили с тобой?
В этот раз я тебя не отдам.
Незабудочек шелк голубой
По тенистым разбросан местам.
И, посланница мглы вековой,
К нам в окно залетает пчела,
Что, быть может, тяжелой рукой
Артаксеркс отгонял от чела.
«Посмотри: в вечном трауре старые эти абхазки…»
Весны прекрасный сор: все эти молоточки,
И кисточки, и пыль зеленая, и прах,
Янтарные крючки, алмазные цепочки,
Валяющиеся у нас с тобой в ногах,
И тополь обведен каким-то желтым кругом,
Но звук совсем не тот, что осенью, ничуть
На шелест не похож, и весело мне с другом
Похрустывать, давя расползшуюся ртуть.
Топтать их нам не жаль, – скрипучие излишки,
Избыток юных сил, как радость, через край
Бегущая, – бог с ней! – как пена из-под крышки,
Зато в ветвях – листвы несчитанный Шанхай
Так свеж, так прихотлив, так смерти недоступен,
Увы, еще шуметь едва умеет он,
Но сыпятся с него отходы эти, струпья —
Залог густых теней и многодумных крон.
«Ушел от нас… Ушел? Скажите: убежал…»
Посмотри: в вечном трауре старые эти абхазки.
Что ни год, кто-нибудь умирает в огромной родне.
Тем пронзительней южные краски,
Полыхание роз, пенный гребень на синей волне,
Не желающий знать ничего о смертельной развязке,
Подходящий с упреком ко мне.
Сам не знаю, какая меня укусила кавказская муха.
Отшучусь, может быть.
Ах, поэзия, ты, как абхазская эта старуха,
Всё не можешь о смерти забыть,
Поминаешь ее в каждом слове то громко, то глухо,
Продеваешь в ушко синеокое черную нить.
«Замерзли яблони и голые стоят…»
Ушел от нас… Ушел? Скажите: убежал.
Внезапной смерти вид побег напоминает.
Несъеденный пирог, недопитый бокал.
На полуслове оборвал
Речь: рукопись, как чай, дымится, остывает.
Не плачьте. Это нас силком поволокут,
Потащат, ухватив за шиворот, потянут.
А он избавился от пут
И собственную смерть, смотри, не счел за труд,
Надеждой не прельщен, заминкой не обманут.
Прости, я не люблю стихов на смерть друзей,
Знакомых: этот жанр доказывает холод
Любителя, увы, прощальных строф, при всей
Их пылкости; затей
Неловко стиховых, и слишком страшен повод.
Уж плакальщиц нанять приличней было б; плач
Достойней рифм и ямба.
Тоска, мой друг, тоска! Поглубже слезы спрячь
Иль стой, закрыв лицо, зареван и незряч, —
Шаблона нет честней, правдивей нету штампа.
Бой быков
Замерзли яблони и голые стоят,
Одна-две веточки листвой покрыты редкой —
Убогий, призрачный наряд.
Как Баратынского прикован был бы взгляд
К их жалкой участи, какою скорбью едкой
Обуглен был бы стих! Ну что ж, переживу
Легко крушение надежд… на что? На годы
Плодоносящие. Где преклонить главу?
И не такие назову,
Молчи, не спрашивай, убытки и расходы.
А тот, с кем я сажал их лет тому назад
Пятнадцать, новости печальной не узнает,
И если есть тот свет, то значит, есть там сад,
Где он задумывает ряд
Нововведений, торф под яблони сгружает,
Приствольный круг рыхлит – и, вспомнив обо мне,
Кого-то просит там бесхитростно за сына
И улыбается, и страх, что на войне
Томил и мучил в мирном сне, —
Забыт, и к колышкам привязана малина.
Аполлон в траве
Я видел, как смерть выбегает из тьмы
На воздух, как с нею играют вприпрыжку
И жалят за всё, с чем когда-нибудь мы
Столкнемся, разят, пропуская под мышку,
Вонзая в загривок ее острия, —
И смотрит, набычась, увешана острым,
Несчастную вспомню когда-нибудь я,
К ее привыкая обыденным сестрам.
Я видел, как смерть обижают, шутя,
Смеются над дикой угрюмой, дремучей
Как бы вокруг пальца ее обведя,
Запомню на всякий мучительный случай,
Как жарко горит золотое шитье,
Как жесты ее победителя ловки,
Как, мертвую, тащат с арены ее
В пыли и позоре на длинной веревке.
«Две маленьких толпы…»
В траве лежи. Чем гуще травы,
Тем незаметней белый торс,
Тем дальнобойный взгляд державы
Беспомощней; тем меньше славы,
Чем больше бабочек и ос.
Тем слово жарче и чудесней,
Чем тише произнесено.
Чем меньше стать мечтает песней,
Тем ближе к музыке оно;
Тем горячей, чем бесполезней.
Чем реже мрачно напоказ,
Тем безупречней, тем печальней,
Не поощряя громких фраз
О той давильне, наковальне,
Где задыхалось столько раз.
Любовь трагична, жизнь страшна.
Тем ярче белый на зеленом.
Не знаю, в чем моя вина.
Тем крепче дружба с Аполлоном,
Чем безотрадней времена.
Тем больше места для души,
Чем меньше мыслей об удаче.
Пронзи меня, вооружи
Пчелиной радостью горячей!
Как крупный град в траве лежи.
«Дорогой Александр!..»
Две маленьких толпы, две свиты можно встретить,
В тумане различить, за дымкой разглядеть,
Пусть стерты на две трети,
Задымлены, увы… Спасибо и за треть!
Отбиты кое-где рука, одежды складка,
И трещина прошла, и свиток поврежден,
И все-таки томит веселая догадка,
Счастливый снится сон.
В одной толпе – строги и сдержанны движенья,
И струнный инструмент поет, как золотой
Луч, боже мой, хоть раз кто слышал это пенье,
Тот преданно строке внимает стиховой.
В другой толпе – не лавр, а плющ и виноградный
Топорщится листок, —
Там флейта и свирель, и смех, и длится жадный
Там прямо на ходу большой, как жизнь, глоток.
Ты знаешь, за какой из них, не рассуждая,
Пошел я, но – клянусь! – свидетель был не раз
Тому, как две толпы сходились, золотая
Дрожала пыль у глаз.
И знаю, за какой из них пошел ты, бедный
Приятель давних дней, растаял вдалеке,
Пленительный, бесследный
Проделав шумный путь в помятом пиджаке…
«С опозданьем, во всем своем грозном…»
Дорогой Александр! Здесь, откуда пишу тебе, нет
Ни сирен, – ах, сирены с безумными их голосами! —
Ни циклопов, – привет
От меня им, сидящим в своих кабинетах, с глазами
Всё в порядке у них, и над каждым – дежурный портрет.
Нет разбойников, нимф,
Это всё – на земле, как ни грустно, квартиры и гроты;
Что касается рифм,
То, как видишь, освоил я детские эти заботы
На чужом языке, вспоминая прилив и отлив.
Шелестенье волны,
Выносящей к ногам в крутобедрой бутылке записку
Из любимой страны…
Здесь, откуда пишу тебе, море к закатному диску
Льнет, но диск не заходит, томят незакатные сны.
Дорогой Александр,
Почему тебя выбрал, сейчас объясню; много ближе,
Скажешь, буйный ко мне Архилох, семиструнный Терпандр,
Но и пальме сосна снится в снежной красе своей рыжей,
А не дрок, олеандр.
А еще потому
Выбор пал на тебя, нелюдим, что, живя домоседом,
Огибал острова, чуть ли не в залетейскую тьму
Заходил, всё сказал, что хотел, не солгал никому, —
И остался неведом.
В благосклонной тени. Но когда ты умрешь, разберут
Всё, что сказано: так придвигают к глазам изумруд,
Огонек бриллианта.
Скольких чудищ обвел вокруг пальца, статей их, причуд
Не боясь: ты обманута, литературная банда!
Вы обмануты, стадом гуляющие женихи.
И предательский лотос
Не надкушен, с тобой – твоя родина, беды, грехи.
Человек умирает – зато выживают стихи.
Здравствуй, ласковый ум и мужская, упрямая кротость!
Помогал тебе Бог или смуглые боги, как мне,
Выходя, как из ниши, из ямы воздушной во сне,
Обнимала прохлада,
Навевая любовь к заметенной снегами стране…
Обнимаю тебя. Одиссей. Отвечать мне не надо.
«В наших северных рощах…»
С опозданьем, во всем своем грозном
И сверкающем виде, как Бог,
Ты являешься в гости, нервозным
Кашлем сдавлен хозяйский смешок,
Изреченья твои и обмолвки
По уходе твоем в дневнике
Заиграют узором на шелке,
Расшалившейся рыбкой в реке.
Так и надо. Для нищего духом
Расстоянье меж ним и тобой
Не должно быть устелено пухом:
Пусть потрудится… Или любой
Слышит то, что волшебному слуху
Внятно в пенье отзывчивых муз?
Не обидеть и думать за муху?
Гнев мешает, препятствует вкус.
Но милей, чем пылание это,
Мне, признаюсь, неловкий рассказ,
Как неузнанный жил у Адмета
Олимпиец, стада его пас;
Знаешь, быть заодно с пастухами,
Утомленными грубым трудом,
Притушив – да не носятся с нами —
Свет таинственный свой за столом…
«Боже мой, среди Рима…»
В наших северных рощах, ты помнишь, и летом клубятся
Прошлогодние листья, трещат и шуршат под ногой,
И рогатые корни южанина и иностранца
Забавляют: не ждал он высокой преграды такой,
Как домашний порог, так же буднично стоптанный нами;
Вообще он не думал, что могут быть так хороши
Наши ели и мхи, вековые стволы с галунами
Голубого лишайника, юркие в дебрях ужи.
Мы не скажем ему, как вздыхаем по югу, по глянцу
Средиземной листвы, мы поддакивать станем ему:
Да, еловая тень… Мы южанину и иностранцу
Незабудочек нежных покажем в лесу бахрому,
Переспросим его: не забудет он их? Не забудет.
Никогда! ни за что! голубые такие… их нет
Там, где жизнь он проводит так грустно… Увидим: не шутит, —
И вздохнем, и простимся… помашем рукою вослед.
Боже мой, среди Рима, над Форумом, в пыльных кустах
Ты легла на скамью, от Траяновых стен – в двух шагах,
В трикотажном костюмчике, – там, где кипела вражда,
Где Катулл проходил, бормоча: – Что за дрянь, сволота!
Как усталостью был огорчен я твоей, уязвлен
Тем, что не до камней тебе этих, побитых колонн, —
Как стремился я к ним, как я рвался, не чаял узреть.
Ты мне можешь испортить всё, всё, даже Рим, даже смерть!
Где мы? В Риме! Мы в Риме. Мы в нем. Как он желт, кареглаз!
Мы в пылающем Риме вдвоем. Повтори еще раз.
Как слова о любви, повтори, чтоб поверить я мог
В это солнце, в крови растворенное, в ласковый рок.
Ты лежала ничком в двух шагах от теней дорогих.
Эта пыль, этот прах мне дороже всех близких, родных.
Как усталость умеет любовь с раздраженьем связать
В чудный узел один: вот я счастлив, несчастен опять!
Вот я должен сидеть, ждать, пока ты вздохнешь, оживешь.
Я хотел бы один любоваться руинами… Ложь.
Я не мог бы по прихоти долго скитаться своей
Без тебя, без любви, без родимых лесов и полей.
На сумрачной звезде (1994)
В мировом спектакле
Дайте мне, дайте башмаки пурпурные с загнутыми носками
И одеяние, шитое золотом, с брильянтами и аметистами;
Сколько можно ходить в пиджаке, пробавляться тусклыми мазками
Повседневной живописи, с ее красками водянистыми?
Сколько можно читать газеты, пить чай, надоело притворство!
Братья мне микенские цари: кого свергли, кого придушили,
Кто спасся бегством – выручило с рабом-садовником сходство, —
Потом трясся в арбе, плыл на корабле, мчался в наемном
автомобиле.
О, как интересно, как интересно
Жить, участвовать в мировом спектакле,
Сброшенным быть со скалы отвесной,
Найденным быть в камышах и распеленутым нимфой или цаплей.
Друг меня предавал, за стеной обо мне шептались,
Я пережил пятерых владык, мне шестой симпатичен,
Нынче, когда, чуть что, говорят: ментальность, —
Рекомендую в снегу кувыркающихся синичек.
Телефон, звони; пой, хор грубоголосый;
Проноси записочки под кофтой, старая служанка.
Что всего дешевле в этом мире? Слезы.
Ничего не стоят. Говорил: «Не плачь, гречанка
Верная». Про мирты что-то на мече героя.
Мы сейчас сказали б: на прикладе автомата.
Встать за всех обиженных одни стихи горою
В этом мире рады, и строка чуть-чуть горбата.
Но тот, кто видел в сетке крошечных
Перепелов несчастных, участи
Ужасной ждущих, кучкой сложенных,
Как овощи, полузамученных,
Дрожащих, маленькие головы
В ячейки узкие просовывающих,
Боящихся прилавка голого
И смуглокожих рук чудовища, —
Я тверд, и ты не слабонервная,
И жизнью вылеплены строгою,
Старик абхазец прав, наверное,
Что ужас наш его не трогает, —
Кто видел пестрых, видел обморочных,
На вес идущих грудой ды' шащей,
Тому уже не надо поручней,
Перил, тот верит силе мышечной,
Тот знает, что и в худшем случае
Не упадет, что роли воина,
Ловца, раба, царя получены
Из сильных рук, что так устроено.
Молодой Рембрандт с кошачьими усами
Хорошо относится к себе и к жизни тоже.
Ничего плохого в этом нет, судите сами:
Разве кто-то хуже был, когда он был моложе?
Разве завтра на небо опять не выйдет солнце?
Разве жизнь закончится на нас, судите сами.
Жаль, что подозрительность с годами разовьется.
Хороша доверчивость с горячими глазами!
Этот цвет коричневый, вот именно, табачный,
И еще не ясно, кто тут мышка, кто тут кошка.
Разве осмотрительность не надоела, мрачность?
«Поиграй, судьба, со мной, – просил, – еще немножко».
Так чужое, скрытое бывает не под силу
Недоброжелательство, что хочется проститься
С жизнью, уступить ему и вместе с ним в могилу
Проводить себя скорей, да стыдно живописца.
Шляпу так носить, как он, никто не будет, точно.
Бархатную, с мягкими, рифлеными полями.
Можно ль осуждать его, тем более заочно?
Зная, как потом сгустится мрак, судите сами.
Если кто-то Италию любит,
Мы его понимаем, хотя
Сон полуденный мысль ее губит,
Солнце нежит и море голубит, —
Впала в детство она без дождя.
Если Англию – тоже понятно.
И тем более – Францию, что ж,
Я впивался и сам в нее жадно,
Как пчела… Ах, на ней даже пятна,
Как на солнце: увидишь – поймешь.
Но Россию со всей ее кровью…
Я не знаю, как это назвать, —
Стыдно, страшно, – неужто любовью? —
Эту рыхлую ямку кротовью,
Серой ивы бесцветную прядь.
Нет дороги иной для уставшей от бедствий страны,
Как пойти, торопясь, по пути рассудительных стран.
Все другие дороги безумны, бездомны, страшны, —
Так я думаю, с книгой садясь на диван.
Рассужденья разумны мои – потому неверны.
И за доводом лезть надо в самый глубокий карман.
А в глубоком кармане, внутри пиджака, на груди, —
Роковая записочка, скомканный, смятый листок,
И слова полустертые неразличимы почти,
И читать надо тоже не прямо ее – между строк:
Будь что будет, а будет у нас впереди
То, чего ни поэт, ни философ не знает, ни Бог.
Каждый раз выбирает Россия такие пути,
Что пугается Запад, лицо закрывает Восток.
Запиши на всякий случай
Телефонный номер Блока:
Шесть – двенадцать – два нуля.
Тьма ль подступит грозной тучей,
Сердцу ль станет одиноко,
Злой покажется земля.
Хорошо – и слава богу,
И хватает утешений
Дружеских и стиховых,
И стареем понемногу
Мы, ценители мгновений
Чудных, странных, никаких.
Пусть мелькают страны, лица,
Нас и Фет вполне устроить
Может, лиственная тень,
Но… кто знает, что случится?
Зря не будем беспокоить.
Так сказать, на черный день.
Все эти страшные слова: сноха, свекровь,
Свекр, теща, деверь, зять и, боже мой, золовка,
Слепые, хриплые, тут ни при чем любовь,
О ней, единственной, и вспоминать неловко.
Смотри-ка, выучил их, сам не знаю как.
С какою радостью, когда умру, забуду!
Глядят, дремучие, в непроходимый мрак,
Где душат шепотом и с криком бьют посуду.
Ну улыбнись! Наш век, как он ни плох, хорош
Тем, что, презрев родство, открыл пошире двери
Для дружбы, выстуженной сквозняками сплошь.
Как там, у Зощенко? – «Прощай, товарищ деверь!»
Какой задуман был побег, прорыв, полет,
Звезда – сестра моя, к другим мирам и меркам,
Не к этим дышащим тоской земных забот
Посудным шкафчикам и их поющим дверкам.
Отдельно взятая, страна едва жива.
Жене и матери в одной квартире плохо.
Блок умер. Выжили дремучие слова:
Свекровь, свояченица, кровь, сноха, эпоха.
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.








































