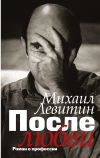Текст книги "Штукатурное небо. Роман в клочьях"

Автор книги: Александр Строев
Жанр: Современная русская литература, Современная проза
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 5 (всего у книги 15 страниц) [доступный отрывок для чтения: 5 страниц]
Всё остальное складывается из других воздушных вопрошариев. Друзья-компаньоны-товарищи глядят глубоко и бессмысленно в твои глазницы, чтобы ты что-то осмысленное принесла им, оправдав их мечты и на тебя – траты. Печаль, конечно, но это так…
ТётьЛяль схватила меня за руку на Казанском, хотя о встрече мы не сговаривались. Что она там делала, не знаю – с пирожком капустно-постным во рту недожёванным стояла, тылом ладони крошки с губ смахивая.
Почему-то вырвала меня из рук какого-то дядьки, у которого в авоське был гремучий складень шахматной доски, а дядька уже тащил меня куда-то за рукав по платформе. Откуда ты взялась – Чудо!?
И, в общем-то, здесь – обрывается нить… Мать умерла довольно скоро. Жужа первая принесла эту весть, окатив в ночи весь двор скорбным и нескончаемым воем. К матери она никого не подпускала, встав на неё в кровати передними лапами, и в своей безобразной истерике напоминала химеру с Собора Парижской Богоматери. Сила и беззащитность вели в ней сокрушительные бои и вызывали, конечно, не страх, а горькое сочувствие и уважение, пока кто-то не принёс одеяло, которым её поймали – с сочащейся сукровицей спиной, обглоданной от диатеза. Церемониться долго не стали и подальше от посторонних глаз вышли задней калиткой, отправившись рядом с подводой в последний путь. Жужа молча бежала рядом, но в стороне, поглядывая то на плетущихся сзади людей с лопатами, то на дорогу вперёд. Странно было, что яма под захоронение была уже кем-то вырыта и её пришлось просто расширять по краям. На канатах из спортивного зала рояль опустили «на днище истории», чтобы поскорее избавиться от ненужных воспоминаний. Жужа тихо бегала вокруг ямы, словно умоляя об аккуратности.
Потом прыгнула следом в могилу, не желая из неё вылезать, посмотрела наверх, поскребла когтями крышку и, то ли притворилась мёртвой, то ли и вправду умерла – просто, пошатнувшись, упала, замерев на боку с открытыми немигающими глазами. Все подождали изрядно, опустив глаза долу, потыкали её длинным прутиком на предмет – а жива ли, и вместе с хозяйкой во чреве рояля стали быстро забрасывать могилу песком вперемешку с землёй и глиной.
Я куда-то бежала всю жизнь. Теперь сижу прикованная к инвалидной коляске. В славном городе Монреале.
Где-то потерянная в своей мон-реальности. Через месяц мне будет – 81. Меня мучает бессонница и вопросы, на которые нет ответов. Или мне просто кажется, что я не сплю. И всё это – сон во сне…
…Белый саркофаг с четырьмя позолоченными ручками и растрескавшейся полировкой на шести плечах уплывающий вдаль в песчаную бурю. Беззвучный, выпотрошенный… Переплавленный в новые пули войны из своего остова, которые смертельно пронзят сердце очередного Шопена, который так и не узнает зачем он явился на Свет Божий…
– Сколько тяготиться ещё мне чувством вины, Рояль?! Поговори же со мной, наконец-то!
– Я храню в себе память о твоей матери. Для меня это не пустой звук. Когда-то музыкой для неё был я. Теперь Она для меня музыка – внутри и навеки! Я прЕдал её земле, ты предалА – забвению! Всего и дел, что – в ничтожной чёрточке ударения над маленькой буквой. Но это меняет весь смысл. Всю жизнь меняет – бесповоротно.
И сам я не сразу понял, что греха таить, благодаря чьим рукам и заботам ты смеешь называться Роялем, и кто вдохнул в тебя твоё королевское величие… Всё дело в тишине шерстяных молоточков, проеденных бе-молью, когда музыки больше нет и ты мучительно начинаешь соображать, что было причиной, оправдавшей твоё существование.
Кто-то из великих сказал:
– Жизнь – это мысль. Её нельзя повторить. Её можно только помыслить заново. И в жизни будут были и есть совершенно невозобновимые вещи.

Пётр Исаевич.
– Документальных несоответствий тонну, конечно же, вижу, хотя высказывание мне понятно.
Павел Исаевич.
– Но это уже и не дневник, как я понял, а издевательство над чужими воспоминаниями?!
Пётр Исаевич.
– Ну почему издевательства! Вот Вы живьём ни Отца, ни Сына не видели, а столько букв настрочили после Дамаска. Явился Вам, говорите. Ну вот и автору что-то померещилось на основе сновидений, рассказов и домыслов. Да. Нет таких холодов ни в Ташкенте, ни по дороге к нему. Сами плавали на верблюдах – знаем. Где-то – враньё полное! Но к существу дела это вообще не относится.
Павел Исаевич.
– О Вас я, вообще, помолчал бы. Про третьих петухов «допетрили», когда сделать ничего уже нельзя было.
Пётр Исаевич.
– Так, ладно! Закроем пока эту полемику! Перед нами другие задачи на сегодня стоят.
Глава 15
Очистки совести
I
Cнежок в окно – это условный знак.
Знак того, что пришла любовь.
Она стоит во дворе и хочет войти.
Я еще сплю, но скоро проснусь.
Второй снежок. Это уже не сон.
Я должен открыть дверь и впустить любовь.
Расцеловать на пороге
И помочь снять пальто.
Любовь – в вязаном свитере и джинсах,
Я – в трусах и футболке.
Времени десять утра.
Мы идем чистить зубы.
Сначала я, потом любовь.
Одной и той же щеткой.
Это волнительно.
Нам нечего сказать друг другу.
Дыхание и румянец говорят за себя.
Мы крадемся по квартире как воры.
Никто не должен знать, что мы были здесь.
Следов не должно остаться.
Предательски скрипят половицы,
Пружины немолодого дивана —
свидетеля наших встреч.
Сначала мы просто лежим,
не решаясь на долгие поцелуи —
любовь в уличном, я – в исподнем.
Я счастлив.
Через час мы уже наравне —
ее одежда лежит на полу.
За что мне такое счастье?!
Через два – я подбираюсь к святая святых,
чтобы снова услышать: «Нет, не сейчас, не надо…»,
и получить серию тихих, но оглушительных
от стука крови в ушах поцелуев
в знак благодарности за понимание.
Внезапный, как взрыв соседнего дома
Звонок в дверь
Звонок возвращает давление
в допустимую в юном возрасте норму.
Любовь хватает одежду.
Через мгновение она в ванной,
Чтоб быть одетой через минуту.
На полу остаются гольфы.
Эта экстренная мера ставит нас вне подозрений.
Я должен открыть дверь и впустить того,
Кто пришел
На пороге моя бабушка Александра.
Сбившаяся шапка и шарф,
Влажное и красное от мороза лицо, лопата в руках,
Тыльной стороной ладони она утирает нос.
– Саня, ты дома что ли?! А в школу что…?
– Отменили…
– Собирайся, помоги-ка мне его перенести за гаражи
И вырыть поглубже.
Землю прихватило с мороза,
А в квартире уже невозможно,
Воняет-дэк я не знаю как…
– Я не один. (Ко мне пришла любовь).
– Здорово, барыня! Чем занимаетесь?!
– Здравствуйте, Александра Ивановна…
Конечно, поможем. Одевайся, Саш…
Втроем мы волочим невыносимо пахнущий,
Промокший почти насквозь плед
С содержимым килограммов на двадцать.
Мимо детской площадки, через дорогу, за гаражи.
Иногда ветер уносит в сторону
Ровно поднимающийся вверх запах тления.
Мы с благодарностью одновременно вдыхаем
Свежий воздух и переводим дыхание.
Я и любовь вожделеем друг друга.
– Ну, далеко еще?!
– Нет, вот туда и направо.
Я вырыла так, чтобы он лежал головой к нашим окнам…
Все, кладите здесь, пришли…
– Я хочу на него посмотреть.
– Не на что там смотреть…
Любовь отходит в сторону.
Я отбрасываю ногой покрывало.
Мокрая шерсть вокруг шеи.
Прежде пушистый слипшийся в сосульку хвост.
Бессмысленно перепутанные друг с другом лапы
И огромный (почему-то огромный!) синий,
Будто прикушенный изо всех сил язык,
Свесившийся на бок из пасти.
«Что бы с тобой ни случилось, молчи!
Никому ни о чем не рассказывай!»
Из найденных неподалеку камней
Я сооружаю символическое надгробие
Верному другу своего детства,
Лью над могилой несколько слез.
Любовь сочувственно на меня смотрит.
II
С любовью с самого начала у меня
Все как-то складывалось неудачно.
В детском саду с жизнерадостным названием
«Веселый стриж»,
Которому я, бесспорно, отдал лучшие годы своей жизни
На прогулке между мальчиками и девочками
Была игра в эротические салки —
Она убегает, ты догоняешь —
Осалил – целуешь в щечку и наоборот.
Я был влюблен в одну девочку,
Вика ее звали, кажется,
В меня была влюблена другая – Яна.
Как обычно и водится – Вика не любила меня,
Я не любил Яну. Яна и Вика были подружками.
На одной из прогулок все долго играли в эти салки,
Целуясь, разумеется, тайком от воспитателей.
Из робости я долго не мог встроиться в эту игру,
Пока кто-то из некрасивых девочек
Не крикнул мне: «Чего стоишь?! Догоняй!» —
И я оказался в центре беснующейся толпы малышей.
Меня тут же осалила и поцеловала Яна.
По правилам я должен был бежать за ней.
Она дразнилась, то, сокращая, то, увеличивая дистанцию.
Я делал вид, что хочу ее догнать, но, к сожалению, не могу.
Мне все равно пришлось бы ее осалить,
Пришлось бы поцеловать, сгорая от стыда перед Викой…
Погоня закончилась тем, что Яна споткнулась,
И выбила молочные зубы
Об свежий рябиновый пенёк,
Растянувшись в грязи.
С этого мгновения
она потеряла ко мне всякий интерес.
Были слезы, была кровь,
Выясняли, кто виноват в этом падении,
Приехали Янины родители,
Но она не проронила ни слова.
Я не проронил тоже.
Из чувства вины перед Яной
И досадой из-за внезапного и полного безразличия
По отношению ко мне,
Неприступная Вика далеко ушла в моем сознании
За безнадежные горизонты,
Я полюбил Яну,
Яна разлюбила меня.
Отчего этот ветер из прошлого
Отворил в мою голову двери,
Поднял пыль
И, как мыльный пузырь,
Исчез…?
Мы снова идем в квартиру
По лестнице
Руки мои в земле,
Я не успею их вымыть.
С нами творится что-то
Невероятное…
III
Я хочу любви, – говорит мне моя любовь.
Любовь и Смерть не мешают друг другу.
– Я хочу любви тоже.
– Времени – три с копейками.
– Есть еще время.
Желаемое – вечно не вовремя.
Никто не готов к мечте, но уже
Нестрашны половицы паркета,
Скрип дивана смешон. Сегодня
Нет причин быть застигнутыми врасплох.
Странно, что нет удовольствия,
Есть решение, есть желанная боль.
Нам нечего больше стесняться друг друга.
Мы повзрослели, хотя
Счастье придет чуть позже.
Мы с головой уходим под одеяло
Во мрак. Мрак – это исповедь.
– Мне так светло от того,
Что я чиста пред тобой.
– Мне так темно от того,
Что руки мои в земле…
– Пройдет восемь лет
И мы встретимся с той,
Пред кем был чист я,
Ее щеки были в огне!
Любовь отбрасывает одеяло —
Свежий воздух и яркий свет.
– Я не верю, скажи, что это неправда.
– Это правда, Любовь моя.
Это все, что ты должна знать обо мне.
Все – для очистки совести.
Времени – пять с копейками,
Мелочь звенит в карманах
Брюк, надеваемых наспех.
Красные ленты в косах распущены.
Любовь застирывает простыню.
Цветное становится белым,
Я наблюдаю как умирает любовь.
Листаю книгу, в которой
Одна за одной исчезают
Все буквы…
IV
Любовь отомстила мне —
Без спросу уехала в Крым…
Мужьями ее были Звезды,
Скалы – местом прогулок с теми,
Чьи руки были в земле.
«Здесь были Я и Любовь!» – не про нас.
От нас не осталось следа,
И камня на камне от нас
Не осталось…
«Что бы ни приключилось, молчи!
Ничего никому не рассказывай!»

Петр Исаевич.
– Творчество что ли чьё-то?
Павел Исаевич.
– Рассказ, о юнышестве, вероятно…
Петр Исаевич.
– И кому это нужно?
Павел Исаевич.
– В этом-то и разница, когда человек делает то, что важно ему, а не то, что его попросили. И наград за это не ждёт особо, заметьте!
Творчество – это то, чего от тебя не ждут и не просят.
Петр Исаевич.
– Павел Исаевич, откуда вы эту «мудреную» дрань-то выудили?
Павел Исаевич.
– Мудреную немудреную, а человек хотя бы на минуту задумывается. Кстати, если поторопиться, то мы вполне бы могли им помочь, хотя времени по большому счёту и не существует!
Петр Исаевич.
– Вот именно, что на минуту, потом забудет и плюнет. Но, главное, Вы забыли о подписанном нами пакте о невмешательстве. Так что давайте-ка завязывать с этими путешествиями и явлениями народу.
Павел Исаевич.
– Ваша правда, Петр Исаевич, отвлекся. Давайте, дальше я читать буду.
Петр Исаевич.
– Читайте. Там дальше, действительно, с палец толщиной выдрано. Видите, нитки торчат. Только Павел Исаевич, ничего не пропускайте!
Павел Исаевич.
– Ничего, кроме того, что выдрано. Это же непреложное наше с вами условие. Но зрение что-то с годами падает! Текст перед глазами плывёт.
А ведь каждый человек – это Текст, созданный, чтобы быть записанным, прочитанным, услышанным! И именно в Тексте – голос здесь обретают те, кто безмолвствовал, кто не мог, не решался сказать о себе сам.
Пётр Исаевич.
– Текст – текстом, а жизнь – жизнью! Как думаете, вся эта макулатура от одного индивида или от нескольких неведомым образом к нам залетела?!
Павел Исаевич.
– Думаю, что от многих… Точнее, если, то это – наблюдения за многими – через себя самого… Ну, или наоборот. За собой самим через многих.
Пётр Исаевич.
– Ох уж мне эти Ваши ребусы!!!
Глава…
Индейское лето
I
Ирэн Гэрибэй – матери Мишель, черноволосой девочки индейских кровей, рожденной на юге Чикаго, в голову пришла спасительная мысль, которая уберегла ее от отчаяния, когда ее муж, едва Мишель исполнилось 19, покинул семью из-за того, что у дочери пожелтела кожа. Он назвал это дурным знаком, взял дорожный планшет, хлопнул дверью и уехал в Аризону, откуда был родом и где по сей день его никто не встречал из родных и знакомых. Мысль, посетившая Ирэн, должна была спасти не семью, а скорее ее – Ирэн – представление о семейственности, устоях, укладе и о том, как уже раз и навсегда ее покойные предки запечатлели свои неразрывные узы на семейном древе, которое ученые умы назвали бы генеалогическим, что, впрочем, никак не изменяло сути. Она вынула из обитого жестью сундука все старые и старинные фотоальбомы, разложила фотографии на полу в гостиной, придав им порядок, ведомый ей одной, и отметя все лишнее, оставила одни портреты. С них Ирэн заказала копии на эмалированных жестяных пластинах в соседнем штате и через неделю (не без помощи участливых соседей) превратила секвойю средних лет, расположившуюся на просторном дворе ее дома, в местную достопримечательность и реликвию. Дерево теперь не только укрывало своих хозяев от солнца, но и рассказывало всем желающим историю рода Гэрибэй, пустыми ветвями намекая, на его бурное продолжение. Это занятие превратило Ирэн в настоящего ученого, и с лихвой вернуло ей всех забытых родственников, с которыми она теперь часами переписывалась по электронной почте и говорила по телефону, выясняя все новые и новые подробности и детали из жизни совершенно незнакомых, но все-таки невероятно близких теперь для нее людей. Это же занятие помогло Ирэн с достоинством перенести диагноз, поставленный Мишель, спустя полтора месяца после ухода отца – аутоиммунное расстройство на фоне дисфункции почек. Пожелтевшая кожа была предупредительным знаком, и Мишель отправилась в ряды инвалидов, ожидая несчастного случая с кем-нибудь из своих соотечественников, чтобы он сам того, уже не подозревая, превратился в «донора М. Гэрибэй» для трансплантации в случае совпадения группы крови и многих других условий, ставших теперь столь необходимыми для жизни. Диализ до трех раз в неделю на весь период ожидания операции – таков был вердикт лечащего Гэрибэй врача. И новая условность вонзилась в жизнь Мишель с этим безапелляционным заявлением – прятать катетер под майку, платье, пуловер, словом, подо все, в чем придется появляться на людях. В 19 уже хотелось иметь втайне от матери друга. Но друг появился только в двадцать, когда Мишель заканчивала первый курс института, в который поступила, несмотря на свой тяжелый недуг, скрыв желтизну кожи под толстым слоем европейского грима.
Артур Бадилло работал на строительстве частных домов и коттеджей по плотницкой линии, унаследованной им от отца. Он был на два года младше Гэрибэй. Окончив экологический колледж, Бадилло решил поискать свой жизненный путь и, как это водится в протестантских семьях, не торопиться с окончательным выбором профессии. Работа в течение месяца в канадской пекарне не принесла ему ни малейшего удовлетворения – открылась аллергия на пряности и муку. Он бросил вызов судьбе, в конце испытательного срока явился на работу в респираторе, немедленно был поднят на смех и в тот же день уволился, получив расчет.
Это был юноша, не лишенный обаяния, здравого смысла и своего взгляда на порядок вещей. Порядок он действительно очень любил. В своем доме он складывал отдельно на выброс газеты и глянцевые журналы, отдельно – алюминиевую и жестяную тару, мыл стаканы от йогурта, отправляя их в отдельный мешок вслед за опустевшей пластиковой посудой, никогда не носил одежду из кожи, но обожал барбекю. Вот, пожалуй, и все принципы, которыми исчерпывалось его экологическое сознание.
С Мишель они познакомились по Интернету и буквально с первых же дней стали встречаться в прачечной в подвале дома, где он снимал первый этаж, благо, что хозяева неделями пропадали то в Мексике, то в Калифорнии, что по карте примерно одно и то же. Мишель была влюблена в Артура, Артуру нравилось, что их встречи происходили еженедельно в среду и в пятницу между семью и половиной девятого после полудня. Они гасили в прачечной свет, запирали дверь и включали стиральные машины. В половине девятого он появлялся во дворе с корзиной просушенного белья и шел в сторону крыльца дома, Гэрибэй, заправляя за ухо волосы и потупив глаза, направлялась к дороге, куда без четверти девять подъезжал предпоследний автобус.
Что привлекало Артура в Гэрибэй сказать было трудно. Скорее всего, то счастье, которым в темноте светились ее глаза после каждой их встречи, та тайна, которой сопровождались их отношения. Однажды Ирэн обнаружила на рукаве блузы Мишель еще не подсохшие следы соития и попросила немедленно познакомить ее со своим другом. С тех пор они получили законную возможность встречаться в комнате Гэрибэй. Не желая мешать счастью дочери, Ирэн наотрез отказалась знакомиться с родителями Артура, а его портрет на эмалированной пластине водрузила на фамильную секвойю во дворе дома рядом с портретом Мишель.
II
Когда три года спустя Мишель и Артур расстались на Валентинов день, Гэрибэй была на шестом месяце беременности. Ей было 23 и она была потрясена. Он подарил ей табурет в виде сердца, сделанный им специально для этого случая и сказал, что уезжает в Бухарест для изучения румынского языка, в склонности к которому Мишель никогда его не подозревала. Был февраль, на юге Чикаго стояла дождливая погода, Гэрибэй колотил озноб оттого, что все так безнадежно складывалось в ее жизни. Она успешно окончила институт, но об устройстве на работу в архив государственной библиотеки штата можно было не помышлять. Она ждала очереди на операцию, и каждый год отнимал у нее и красоту и силы. В свои двадцать три она выглядела на восемь лет старше. На третьем месяце Ирэн заметила у Мишель живот, когда та стояла под душем и потащила ее по врачам. Те в один голос твердили об одинаковой опасности и беременности и родов, о том, что состояние Гэрибэй не располагает ни к одному, ни к другому и пагубно отразится и на здоровье матери, и на здоровье ребенка, если он вообще родится живой. Когда Мишель отказалась от аборта, вполне понимая опасность своего положения и вместе с тем его исключительность, Ирэн приготовилась к худшему, сходила к священнице, та посоветовала ей положиться на волю Божию и молиться деве Марии.
13 мая Мишель Гэрибэй родила здоровую девочку. Вместе с Ирэн они выбрали для нее красивое и редкое имя Элис. В метриках, две недели спустя, было аккуратно записано Элис Бадилло, и фамильное древо рядом с Артуром и Мишель на одной ветви пополнила еще одна жестяная пластинка с изображением маленькой только что проснувшейся Элис.
Элис росла радостной и здоровой, с губ ее не сходила всеобожающая улыбка, в год она уже говорила и носилась по двору как конь без привязи, в два требовала, чтобы ее вывозили из города в лес и на берег. Двадцатипятилетняя Гэрибэй уже передвигалась с трудом и роль гида целиком и полностью была поручена бабушке Элис Ирэн. И все-таки Мишель чувствовала себя самым главным человеком на свете, когда, возвращаясь с прогулки, к ней на шею с визгами «мама!» кидалась ее смуглая со смолисто-черными волосами счастливая дочь. Дом звенел от ее смеха и дрожал от ее топота и, казалось, что она проживает ту жизнь, которой сама Мишель не сумела насладиться из-за болезни. Когда бабушка отправляла Элис спать и что-то мурлыкала, гладя ее по щеке, Мишель сидела на кухне и утирала полотенцем слезы, потом шла спать и за полотенцем ее сменяла Ирэн, которая плакала до полночи, шепотом причитая: «Что же будет с Элис, когда Гэрибэй уйдет от нас!»
III
За три с половиной года жизни Элис вместе с ней подросла и секвойя, ветви ее окрепли, корни глубже ушли в землю, а самой Элис двор уже не казался таким огромным как в первый год ее жизни. Втайне от Мишель и Ирэн она научилась зажигать и выключать газ, настраивать радио, получать почту, открывая маленьким ключиком, полукруглый почтовый ящик на высокой ножке, а по вечерам устраивала чтение Киплинга по слогам для бабушки с мамой, несмотря на то, что сама еще в Киплинге не все понимала. Индейское лето подходило к концу, нужно было ловить последние теплые дни уходящего на зиму солнца, и вместе с бабушкой они вывозили Мишель на прогулки в коляске. Элис, высоко подняв руку, держалась сзади за ручку колесного кресла и изо всех сил старалась помочь Ирэн везти недееспособную мать так, что к концу прогулки сама валилась с ног от усталости и, придя домой, засыпала, свернувшись на коленях у матери. Спящую ее Ирэн раздевала и, прижав к себе, относила на детскую кровать. Такой же, но только в крови на руках собственной матери Мишель и запомнила Элис навсегда.
Это случилось в один из октябрьских дней, когда над Чикаго пронесся, круша все на своем пути, ураган. Где-то он похозяйничал основательно, где-то походя надавал подзатыльники треугольным крышам жилых домов, где-то с корнем вырвал деревья, где-то на фоне всего кошмара, скорее всего, случайно поломал ветви.
Вдалеке чернело небо, вероятно, собирался обыкновенный осенний дождь. Почтовая машина гудком дала о себе знать и, тронувшись с места, пропала в соседней улице за поворотом. Как это было заведено, Элис схватила с маленького гвоздика, прибитого специально для нее низко у двери, почтовый ключ, привстав на цыпочки, потянула на себя дверную ручку и тремя прыжками оказалась во дворе, не затворяя за собой двери. Что-то взревело за окном, словно на огромной скорости низко над домом пролетел самолет. Дверь с бешеной силой захлопнулась так, что на пол вместе с глиняной вазой упали засушенные цветы, и всю улицу за секунду заполонила пыль. Когда пыль осела, Мишель и Ирэн уже вытаскивали из-под огромной ветви, увешанной гирляндой жестяных эмалированных портретов, Элис с закатившимися глазами и пробитым затылком. Черная кровь капала на руки матери. На портретах был изображен с убранной перьями головой старый индеец со своим семейством. В руке Элис сжимала какое-то покрытое слоем пыли письмо, которое никто никогда так и не прочитал. Оно затерялось где-то среди мусора, и потом было выкинуто. Внезапно к Мишель вернулись силы и, оставив Элис на руках Ирэн, она ворвалась в дом, схватила трубку и набрала три цифры.
IV
Гэрибэй заполняла какие-то бумаги на разрешение использовать органы Элис в донорских целях в случае ее смерти, когда из операционной вышел Крис Тоус хирург реанимационного отделения, сел рядом с ней и, глядя себе на руки, сказал, что мозг Элис умер несколько минут назад. Мишель никак не отреагировала на его слова, молча продолжая вписывать в пустые графы значки, говорящие о ее согласии со страховыми условиями, в конце поставила подпись, осторожно положила ручку на стол и, упершись локтями в колени, закрыла руками лицо. Под сбившимся рукавом майки, в которой еще час назад Мишель собиралась идти спать, Крис Тоус заметил приклеенный пластырем к руке диализный катетер и только сейчас обратил внимание на ее абсолютно желтую кожу. Он на минуту отошел в кабинет к компьютеру, затем вернулся к Гэрибэй и сказал:
– Почки Элис могли бы спасти вам жизнь…
– Нет! Я хочу умереть, чтобы быть с ней вместе…
– Только что я посмотрел в нашей базе, что вы уже больше семи лет стоите в очереди на трансплантацию… Вы в крайне плохом состоянии… Элис – ваш единственный шанс… Органы сохраняют жизнеспособность от 48 до 72 часов.
Крис посмотрел на Ирэн, сидящую неподалеку, потом открыл дверь операционной и прошел внутрь. Мишель с матерью следом за ним подошли к мертвой Элис.
– Это Бог нам послал ее, – сказала Ирэн и, зарыдав, опустилась на пол.
Мишель нежно поцеловала Элис, погладила ее запекшиеся кровью волосы и молча направилась к выходу.
Ночью во сне к Мишель пришел извалянный в перьях ангел. И ангел сказал:
– Тебе осталось не больше года. Ты умрешь, и все о тебе забудут. О твоей дочери будут помнить всегда. Твоя жизнь бесполезна – и ты должна жить, ее – преисполнена смысла – она умерла. Подумай об Элис. Позвони Крису Тоусу.
Гэрибэй проснулась, мучительно соображая, несколько мгновений она сидела в кровати, подобрав ноги, уткнувшись носом между колен, потом взглянула на часы, сорвавшись с постели, подбежала к телефону и набрала номер Криса:
– Это Гэррибэй, доктор. Я… Да… Я согласна.
И за окном рассвело.
* * *
Мишель не смогла быть на похоронах. Она лежала в госпитальной кровати и приходила в себя после тяжелой операции. Несколько часов спустя, после того как гроб с телом Элис опустили в землю, на щеках Гэрибэй появился румянец, о котором она еще не могла догадаться. Она сжимала и разжимала занемевшие пальцы, и когда поднесла руки к лицу, увидела, что ногти ее порозовели.
– Спасибо, Элис, – сказала Мишель и в первый раз заснула спокойным и крепким сном.

Пётр Исаевич.
– Что важнее? Высокое или низкое?! Сиюминутное или годами длящееся?! Хотя, понять всё равно опять ничего невозможно!
Павел Исаевич.
– Вот, Вы сейчас спросили, а я, как на бумаге было – представил! Хирург Крис Тоус – это кто, думаете!? Только – вслушайтесь!
Пётр Исаевич.
– А нет ощущения, что нас с Вами кто-то за нос водит!
Павел Исаевич.
– Никто никого никуда не водит! Все сами идут куда глаза глядят!!
Пётр Исаевич.
– И ощущение такое, что закона – нет. Несчастный случай всё на свои места ставит. Но вопрос – на свои ли?!
Павел Исаевич.
– Это Вы сейчас, как человек низшей ступени рассуждаете!
Пётр Исаевич.
– Конечно, – низшей! Просто пытаюсь себя на их место поставить… А Вы не пробовали?!
Внимание! Это не конец книги.
Если начало книги вам понравилось, то полную версию можно приобрести у нашего партнёра - распространителя легального контента. Поддержите автора!Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?