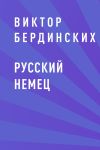Текст книги "Ящик водки"
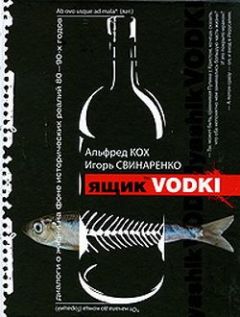
Автор книги: Альфред Кох
Жанр: Биографии и Мемуары, Публицистика
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 38 (всего у книги 75 страниц)
Всегда, всю свою жизнь я хотел быть писателем. Это не так: «А вот буду я писателем». Нет… Это глубже. Это такое восприятие, что писательство и есть стоящее занятие для настоящего человека. Остальное – ерунда. Переделывать историю – пустое дело. Воевать? Наверное… Но как-то не удалось, а специально – не стремился…
Все говорят: у тебя получается, хороший слог, темперамент… Но я-то знаю. Ни-че-го. Стоит только от публицистики уйти в беллетристику, и на тебе – сюжет сыплется, герой не выдерживает заданного характера, композиция рыхлая… Кошмар! Настоящая литература не дана. Так, мемуаристика дешевая. А хочется быть писателем. Настоящим, как Лев Толстой! Черт его знает почему…
И вот был я свидетелем революции. Просто описать это в терминах «я шел, он сказал, этот выстрелил» – глупо, неорганично. Однако осенью 1993 года я был свидетелем русского бунта. Я его видел собственными глазами. Такая удача для русского писателя. Вон Пушкин через сорок с лишним лет ездил по пугачевским местам, собирал по крохам воспоминания… Глаз там выбитый, на жиле висит, осетров баграми ловят… Ножиками режут… Казачки… Любимое племя… А я – видел! Освирепевшие лица. Дикость. Ярость. Зависть, переварившаяся в погром.
Может, попробовать? Описать это по-настоящему? С героями, сюжетом, с личной линией? Слабо?
«…В черном плаще с кровавым подбоем, шаркающей кавалерийской походкой…» Неужели? Думаешь, получится?
Блок писал: «Слушайте музыку революции». Мудак. Слушайте, блядь, музыку революции. Хули ее слушать? Грязища, тупая ненависть, болтовня жидовская…
Счастье, молодость. Тридцать два года. Худой, энергичный. Все просто – наивность. Обожаю… Приехал в Москву. Делать приватизацию. Без меня – никак. А тут – бунт!
По Смоленской площади идут. Лица перекошены. Давно идут, уже пару часов. С Октябрьской. Где Ленин. Уже озлобились подходяще. Переворачивают автомобили – тогда сплошь «жигуленки». Поджигают. Громят витрины. Мелкие лавочники – первые жертвы. Всегда. Сами себя заводят. Кричат. Видеть их противно. Как будто случайно застал срущую девушку. Вся магия пропала. Ба, а это ведь народ!
Все, что дорого… Все милое, красивое, родное. Буржуазное. Мещанское. Вышитые наволочки. Шторы – портьеры гобеленовые. Слоники в ряд по росту. Свинина в котлетах. Старый комод. Это и есть – человеческое. На х… – пролетарское искусство. Ненавижу худых истеричных баб. Дайте мне задницу. Большую задницу. Как у лавочника Ренуара.
Вот эту кустодиевскую красавицу спасал я 3 октября 93-го года. Я не хотел, чтобы блядские Лили Брик опять на 100 лет захватили мой народ своими свингерскими замашками. Моя родная задастая кулацкая Родина с теплыми пухлыми губами, с белозубой красивой умной улыбкой должна была победить. И победила. Мелкобуржуазный Лужок с мелкобуржуазным Коржаковым выиграли у дебила Руцкого. У Макаша, засранца. Жулье!
…Идет, дрожит от страха. Самому страшно. Держится за руку. Все теснее… Ясность: не бойся! Горло перегрызу! Не дам в обиду ни при каких обстоятельствах. Никогда. Можешь не сомневаться. Маяковский был пролетарским поэтом, а я буду – мещанским.
Плевать на сюжет. Плевать на цельность характера – в гробу видал! Не хочу быть великим писателем. Почему неэстетично – буржуа? А раз неэстетично, то прозой? Только в конце узнал, что всю жизнь говорил прозой…
Наконец я понял, кто я. Ровно в тот день. Я – кулак. И буду всегда – кулаком. И любить буду – кулацких дочек. Я не крупный капиталист. Я – русский. Кох. Альфред. Рейнгольдович. Счастье любить тебя. Моя Родина. А не этих козлов.
Комментарий СвинаренкоПутч октября 1993 года прошел мимо меня
Как это странно! Ведь я в детстве только и думал, как бы мне поучаствовать в каком-нибудь восстании. Революционные матросы, пулеметные ленты, «маузер», расстрел буржуев… Между прочим, лично мною… После – учреждение справедливости, и победители едут строить узкоколейку. И в лесу там мерзнут и вкалывают задаром, для общего блага. Вот оно, счастье! А буржуи смотрят и завидуют. Что у них есть, кроме денег? Что-то такое мне виделось.
После все переменилось, я имею в виду – у меня в голове. К 93-му я был уже совершенным антикоммунистом, давно уже сокрушался – вот, неподавленная революция сделала нас дикой страной, с первобытными порядками, с жалкой убогой жизнью. Сегодня как-то странно про это думается, но что ж за картину такую нам рисовали, если на ней венец творения – заводской слесарь… Который уж точно очень и очень далек от идеала. Такой идеал мне точно не нужен. Но – была ли у меня в 93-м мечта расстреливать коммунаров, хотел ли я уподобиться Тьеру? Хотелось ли мне лично загонять взбунтовавшуюся чернь обратно в бараки? Нет, не было у меня такой мечты. Помню – не было. Я пытаюсь теперь поточней вспомнить свои ощущения. И понимаю, что они были совершенно мещанские, обывательские. Я думал: вот, беспорядки, – а ну как стекла в квартирах начнут бить? Или – про очереди за хлебом и куревом думал. Про перспективы богатого глянцевого журнала, в котором я тогда работал и который непонятно как бы жил, затянись разборки между ветвями власти.
А что же стрельба, бои, вывоз трупов на грузовиках? Банда Эльцина расстреливает отважных русских коммунаров? Верил я в это? Думал ли об этом? Задевало это меня? Нет… Да и страну это, насколько я заметил и запомнил, это не сильно волновало. Гражданская война как-то не началась тогда. Я предлагаю такое объяснение: революции надоели широкой публике. Перебор получился. А давайте все бросим и побежим на баррикады! Ага, щас! А какого такого хрена? Тем более что мы уже усвоили Бисмарка: революции совершают герои (мы), а плодами их пользуются проходимцы (они).
Скучно, взросло, солидно. Слово «взросло» тут, может, ключевое. Как сейчас помню, перед началом восстания, накануне, я по пути в офис завез жену с дочкой в кукольный театр на Бауманской. Новости по пути слушал краем уха, и в воздухе что-то такое уже летало. И я им сказал, они и сейчас помнят: «Вы это, после спектакля никуда не ходите, дуйте сразу домой. Мало ли чего». То есть я не отвез их сразу домой, но и не отнесся к ситуации легкомысленно. Что-то среднее. И вот сейчас я думаю: я уж был отцом семейства! Какие ж тут революции? На кой они? Наверно, это принципиально. Не зря же революционеры – такие молодые, восторженные, бесстрашные – лезут в пекло. Они себя ведут как бездетные. Они часто такие и есть. И потому чего их слушать? Пустое занятие. Их надо призвать к порядку, и все тут.
Еще помню одну картинку, которая тоже упала на ту чашу весов. Я помню 9 мая – то ли того же 93-го года, то ли 92-го. Время к обеду. Я стою у «Метрополя» и с сильным чувством смотрю на колонну демонстрантов, которая заняла всю Тверскую, по всей ширине, и, зловеще сверкая красными флагами и такими же транспарантами, идет вниз, на меня, – и, чуть не упершись, как-то нехотя, преодолевая инерцию, сворачивает к Большому театру. Эти красные флаги в таком количестве в руках у таких сосредоточенных нервных людей я рассматривал без всякого удовольствия. Я подумал тогда, что вся перестройка, весь русский капитализм только и действительны внутри МКАД, а все, что дальше, – это очень и очень условно. Страна если и замечает, думал я тогда, капитализм, то ничего хорошего о нем не думает. И в такой ситуации вдруг и внутри Садового кольца собрались – чужие, сильные, построенные в колонны люди. Довольно легко было мне представить, что где-то за углом им раздадут винтовки и пойдут они громить все вокруг, крушить режим. И дальше что?
Или даже не так. Еще проще и реалистичней: банальная лимонка взрывается вдруг в этой краснознаменной толпе. Дальше – крики, паника, раздавленные люди и так далее. И опять пошло-поехало. Да и 91-й год не забылся. Те танки, которые были присланы в мирную, наивную еще Москву. Они немного вправили нам мозги. Мы немножко ощутили, какие силы бродят, скрыты и могут вырваться наружу. Мы тогда еще мерили все такими грузовиками, с тентом, под которым сидели бойцы-первогодки, никак не готовые стрелять в людей. А кто-то уже выводил на позиции танковые полки… Ну а что, русский бунт – это бренд раскрученный. За что бунтуют, против кого – это вопрос третий. Тут по-любому – шутки в сторону.
Когда «свой» бунт, за свои идеалы – страшен, то что говорить про чужой? Про красный, про левый, про коммунистический?
Нечего тут и говорить. Бунт этот – подавить без разговоров, и все.
Итак, деталь еще сюда же. Бунт под управлением таких нерасторопных менеджеров, как Хасбулатов и Руцкой, – это еще та была бы акция. У них бы точно вся ситуация вырвалась из-под контроля, и понесло б нас с разгону на камни. Революция под управлением сбитого летчика – это слишком уж экстремальный спорт.
Эту ситуацию октября 93-го я как-то обсуждал с опытным зэком Валерием Абрамкиным, видным диссидентом. И вот он что сказал про те дни: «У меня было похожее настроение, когда в зоне начался беспредел, когда в зону вот-вот введут внутренние войска…»
Понимаете? Не важно, по какому поводу зона восстала. Да хоть на почве самой высокой справедливости. Все равно нет другого выхода – только войска вводить. И мочить зачинщиков. Когда это однажды не было сделано, после четыре года вся страна, вместо того чтоб ходить на работу и воспитывать детей, бегала с ружьем и толку ни от кого добиться было невозможно.
Помню, в том октябре я таки поучаствовал в создании «летописи революции». В Белом доме в самые горячие дни была корреспондент «Коммерсанта» Вероника Куцылло. И вот, когда все там кончилось, она приехала в редакцию. Причем в состоянии страшно возбужденном, еще бы – как же иначе, если по тебе палили из танковых пушек! Приезжает она, значит, и ей поручают быстренько в номер дать 100 строк. Не просто вдохновенно что-то продекларировать, а осветить новость, причем срочно, уже близился дедлайн. Это ж производство, график, дисциплина, штрафные санкции, договоры с распространителями, с почтой, с типографией, с автохозяйством – все как у взрослых. Вероника возмутилась: у нее революция, люди там погибли, ветви власти гнулись и трещали, а к ней тут с прозой жизни – да кто вы такие, тыловые, типа, крысы! Это было просто картинное столкновение – с одной стороны, революционный пафос и блатная повстанческая романтика, а с другой – капиталистическая экономика, в которой все завязано на деньги. В том числе и на зарплату неистового репортера Куцылло. И вот меня к ней приставили, чтоб я ей оказал моральную и техническую поддержку. Чтоб заметка была написана как положено, причем немедленно. И я провел в жизнь ту точку зрения, что твои политические симпатии – твое личное дело, а если ты подрядился делать работу, так сделай ее. В революцию все развивается по противоположной схеме. В общем, в итоге заметка про восстание была поставлена в ближайший номер. И вышел он без задержки. А Вероника после сделала про этот путч книжку, и Яковлев ее издал.
– Мой друг Игорь Футымский, физик и философ, выдвинул теорию. Теория такая. Если начинается бунт и его слишком мягкими средствами пытаться подавить, то не будет эффекта. А если слишком жестокими, то опять будет слишком серьезное кровопускание, гражданская война, выведение экономики из строя… А нужно именно найти оптимальный вариант… Одного человека убить – мало. Сто – много. А надо десять – двадцать, причем не в подвалах из пистолета, а каким-то серьезным оружием. И тогда волна сбивается, бунт прекращается и снова идет нормальная жизнь. В новейшее время это нам продемонстрировал Пиночет – когда он убил Альенде и с ним десяток бунтовщиков. Убил ракетой, выпущенной с боевого самолета. У нас Борис Николаич в октябре 93-го использовал ровно ту же методику. Он из танковых пушек велел пальнуть, и бунт сразу пошел на убыль. Все успокоились.
– Ну, это не Пиночет изобрел, я думаю, это значительно раньше изобрели. Но громкое, публичное, жестокое проявление непреклонности власти сразу, в начале бунта, когда власть видит, что в случае проигрыша пощады не будет, а вероятность проигрыша достаточно высока, – значительную часть бунтовщиков приводит в себя. И кстати, вот эту непреклонность в различных видах демонстрировал еще Николай Палыч, государь-император, «непреклонность» – это было любимое его слово. В его время бунтов было много. И твой любимый Астольф де Кюстин в 39-м году находился в Российской империи как раз в царствование Николай Палыча. А как император польский мятеж подавил? А как венгерский подавил? Не говоря уже обо всех этих бунтах, которые были по всей России. Вот этой самой непреклонностью подавил. Пушкин об этом писал в «Дубровском». Финал, когда солдаты пришли – и деревню расстреляли. Крестьяне же там в разбойники подались во главе с Дубровским-младшим. Прислали полроты солдат – и пи…дец, всю деревню расстреляли.
– Если бы Ленина пораньше застрелили… Проявили б к нему непреклонность…
– Не-е-ет.
– Как-то тоже бы сгладилось.
– Нет. Нет. С Лениным ситуация была более сложная, там стрелять некому было – вот что.
– Ладно, спецназ какой-то оставался.
– Корниловский мятеж был летом еще при Керенском, он пошел на Питер – но остановился под Гатчиной.
– Но ты помнишь, как в «Поднятой целине» или в «Тихом Доне» кто-то говорит, кулак какой-то: «А правда, что в 1903 году большевиков было двадцать человек?» Ему отвечают – да, правда. Он говорит: «Вот бы тогда их перестрелять всех…»
– Ха-ха!
– А я никакого не видел путча в том октябре, потому что в это время запускался журнал новый – «Домовой». А журнал когда запускается, то нет ни денег, ни людей. Надо и самому все писать, и за другими переписывать. Ты будешь смеяться – иногда ночевали даже в редакции. В таких случаях часто акции обещают. Но, как правило, кидают.
– Короче, ты путча не помнишь. Тогда рассказывай про «Домовой».
– Так я тебе и рассказываю. Я в курсе, что идет путч. А сам сижу в редакции. И пишу, как пить шампанское, чем хорош Париж… Какие «мерсы» новые поступили. А на улицах какая-то стрельба… Я прихожу к Яковлеву, говорю: «Слушай, чего там вообще такое? Давай, может, я съезжу на путч, чего-то напишу, а?» А он говорит: «Не отвлекайся, нам надо срочно сдать номер. Путч через три дня закончится, и только зря пролазишь по баррикадам, сорвешь выпуск журнала, и все». И я, значит, вернулся к компьютеру и стал дальше сочинять про сладкую жизнь. А сразу же по окончании путча поехал в командировку в Париж. В журнале «Домовой» была рубрика «Тусовка», где раз в месяц должен быть репортаж с какого-то события международного. Я, собственно, под это и пошел в «Домовой».
Комментарий СвинаренкоВ один прекрасный летний день 1993 года Володя Яковлев, основатель «Коммерсанта», сказал мне озабоченно, что ищет человека для нового проекта – чтоб тот ездил по всему миру и писал заметки о разных забавных событиях.
– Ну так вот он я! – говорю.
– Куда тебе? Писать ты, ладно, умеешь. И фотографируешь… Права есть у тебя?
– Только что получил.
– Это хорошо… Но языков-то не знаешь!
– С чего это ты взял, что не знаю?
– Да откуда ж тебе их знать? Ты с Макеевки, спецшкол не кончал…
– Fuck you! – сказал я и грязно выругался.
– Гм, – буркнул он.
Мы обменялись еще парой реплик по-английски…
– Ах да! – спохватился он. – Ты же, точно, еще и немецкий знаешь!
Немецким я его в свое время достал. В начале 90-х, когда я работал на немецкие газеты, в редакции был только один телефон с выходом на международную линию – и всего один факс. Этот аппарат стоял в приемной Яковлева, я звонил оттуда и, поскольку связь в те годы была паршивая, долго еще орал, переспрашивая, читается ли факс. На мой ор выходил из своего кабинета Яковлев и возмущался – как я смею с его телефона звонить немцам! Евреи иногда слишком чувствительны ко всему, что связано с Германией. Но мне таки удалось его убедить, что, раз другого пригодного для моих задач аппарата в редакции нет, я вправе пользоваться командирским.
Когда мы разобрались с языками германской группы, я сообщил руководству, что у меня еще и кое-какие романские языки есть в запасе, так что скорей про Яковлева можно сказать, что он не знает языков, чем про меня. Несмотря на эту мою неполиткорректную реплику, вопрос был как будто совсем уже решен в мою пользу – и тут Яковлев вдруг обратил внимание на мою стальную нержавеющую улыбку: у меня с десяток зубов были накрыты железными коронками.
– Пора тебе нормальные зубы вставить, – сказал он.
– Знаешь что? Мои зубы – это мое личное дело. – Железные коронки меня вполне устраивали, а чужое вмешательство в мои дела – нет.
– Согласен, это твое личное дело. Но тогда и мое личное – решать, кого я назначу главным путешественником.
– Да ладно! – миролюбиво сказал я. – Ну что ты сразу горячишься! Да поставлю я зубы, подумаешь…
Я продал свой «Москвич» 41-й модели и на вырученные 2 тысячи долларов таки обзавелся белыми нерусскими зубами.
И в итоге этим счастливым парнем, которому пришлось мотаться по разным континентам в силу производственной необходимости, оказался я.
Иду, бывало, по коммерсантовским коридорам – загорелый, усталый – jet lag ведь – с тремя загранпаспортами, распухшими от наклеенных виз, и простые репортеры, бледные, сгорбленные над казенными компьютерами, недобро смотрят мне вслед. Иногда меня окликали и невесело пытались шутить:
– Ты к нам надолго? Проездом? Из Африки в Китай?
– Нет – из Штатов в Австралию, – честно отвечал я.
– Да… Когда я учился в школе, думал: «Вот надо работать журналистом – то есть ездить в Париж и Нью-Йорк „по делу срочно“, собирать там фактуру, фотографировать для глянцевых журналов…» Когда я, готовясь к этому, учил иностранные языки, знакомые говорили: «Ну ты дурак! Куда тебе в Париж?! С шахты-то? И без тебя полно желающих!»
– Скажи, а теперь, оглядываясь на пережитое, ты можешь сказать, что свои школьные амбиции – стать журналистом – ты удовлетворил полностью? В том виде, в каком они тогда были?
– В том – да.
– Теперь ты понимаешь, что это херня на постном масле?
– Вовсе нет. Это было очень забавно!
– Не, ну ты сейчас удовлетворен тем, чего достиг?
– Насчет удовлетворения – вопрос непростой. Но могу сказать, что к 93-му году я осуществил свои самые смелые планы – касательно журналистики.
– Журналист, который ездит по заграницам.
– В том числе и по заграницам. А не просто сидит гниет в редакции.
– И в колхозе «Стальное вымя»…
– Ну, типа. И не воюет с пьющими и трахающимися сотрудниками, когда все всё забыли и ничего не успели, когда личный состав грызет тебе спину и пьет твою кровь.
– А, я понял – репортер в том смысле, в котором поздний Юлиан Семенов описывал свое пребывание за границей. Да-да…
– Ну да. И бабки еще платят нормальные, как начальнику. Еще был советский фильм «Журналист» – черно-белый, помнишь?
– Да-да.
– А скорей даже образцом был, как я теперь понимаю, журналист из «Фантомаса». Мотался человек по Парижу, дружил с девушками, красиво обедал, гонялся за Фантомасом… И не сказать, чтоб он сильно дежурил по типографии и выковыривал шилом отлитую на линотипе строчку. Ловля Фантомаса или как минимум раздобывание о нем информации – это все было очень близко к моей службе в отделе преступности.
– А сейчас ты в следующую стадию перешел? Ты ведь уже издатель! Уже журналисты по твоим указаниям ездят в Париж!
– Ну, мне не в падлу и самому съездить в Париж. Зачем людей гонять, отрывать от их работы… Помню, меня как-то спросили там: «А вы часто в Париже бываете?» И я честно ответил: «Да вот в последний раз я тут был в прошлый уикенд».
– Мог бы уже кого-то и послать.
– Так по-французски ж никто не знает. Надо переводчика. А я во время этих поездок стал бойчее болтать по-французски. Не в «совершенстве», как некоторые любят говорить, но и не «со словарем». А так средне – с одной стороны безграмотно и примитивно, а с другой – бойко и убедительно. И еще с человеком-то надо фотографа посылать. Или съемку покупать. А так – я один. Чистая экономия! Я снимаю не гениально, но в целом приемлемо. Когда хуже, когда лучше. Хотя и не профессионал. А профи должен всегда выдавать качество «не ниже».
– Я тоже ведь снимаю. Помню, я снимал Бранденбургские ворота, когда только что сломали Стену… Рейхстаг там стоит…
– О! Давай устроим фотовыставку совместную! Двух писателей.
– Давай.
– Короче, к 93-му году я в части журналистской карьеры достиг всего.
– Не зря листал языковые самоучители. «Недаром мы гремели кандалами!»
– И что горько, сколько ж времени было потеряно в этом смысле! Я должен был бы, по-хорошему, поступив на первый курс, сразу начать работать в настоящей газете, а на лекции и вовсе не ходить. Как это случилось с моим бывшим стажером, а ныне звездой телеэкрана Глебом Пьяных (с которым у нас одно время был общий псевдоним Лев Свиных) – он вроде как учился на журфаке, женился там, а на самом деле сочинял заметки в режиме full time и получал за это зарплату как взрослый.
– Ну, у него жизнь другая – молодой парень.
– Та же ситуация была и с Мишей Михайлиным, который теперь главный редактор газеты «Газета» (далее gazeta.ru). А вот у меня, увы, все было иначе. В университет я поступил в 75-м, а настоящие газеты стали появляться только в 90-е. И вот эти пятнадцать лет для ремесла прошли практически впустую. Да… И вот в 93-м я приезжаю в Париж… В октябре, сразу после обстрела Белого дома… первый раз я там побывал тем же летом, кстати. А осенью поехал на FIAC – это ярмарка современного искусства. Ну, это в «Grand Palais», знаешь? Возле моста нашего Александра Третьего. На правом берегу.
– А правый – это где Лувр или где Орсэ?
– Где Лувр.
– А, такое здание в стиле модерн, со стеклянной крышей?
– Модерн? Скорее ампир.
– Ну, поздний ампир, ранний модерн.
– И вот мы приехали с фотографом. Из Москвы, со стрельбы, с битого стекла, там все на нервах, на измене, уже темно и слякотно… А у нас в Париже никакой тебе, понимаешь, стрельбы! Все так тихо, безмятежно… Светло, чисто, можно в белых замшевых туфлях по бульварам гулять…
– Каштаны жарят.
– Каштаны… Да… Десять франков кулек, свернутый из обрывка газетки «France soire»…
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.