Текст книги "Судить Адама!"
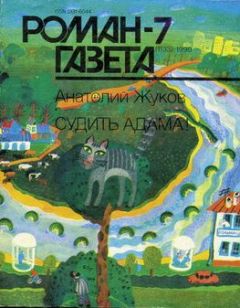
Автор книги: Анатолий Жуков
Жанр: Современная русская литература, Современная проза
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 21 (всего у книги 25 страниц)
– Стыд? Да ты сам чуть не каждый год запиваешь, в больнице отхаживают.
– Я запиваю от мыслей, я против мировой собственности иду, а вы чего?
Смех стал стихать, послышалось самокритичное:
– Вообще-то пьем многовато…
– И хоть бы польза была от тех свадеб: нынче сойдутся, а через месяц-два расходятся. И детей нет.
– А ведь правда, бабы.
– Не молиться же на свадьбах! Пра-авда…
– Если бы одни свадьбы, а то и поминки, и крестины, и гости, и с получки, и так, со скуки, от нечего делать.
– Насчет шуму тоже правильно. Молодежь от рук отбилась. На гитарах наяривают во всю мочь без понятия, песни кричат без ладу, магнитофоны опять же.
– А вот мне Камал Ибрагимович рассказывал, как у них на Кавказе двое мужиков одному трезвому голову отвернули.
– Как так?
– А так: ошиблись. Тот ехал, значит, на мотоцикле осенью, а ветер встречный, дожжик в лицо и в грудь, холодно. Он тогда остановился, переодел пиджак задом наперед, чтобы грудь закрыть до горла, поехал дальше. А тут навстречу двое мужиков в телеге. Он хотел их объехать, поскользнулся и кувыркнулся в кювет. Те к нему на помощь. Глядят – батюшки, голова-то у него за спину повернута. Сграбастали, посадили, один держит, а другой голову поворачивает лицом к пуговицам. Тот орет, не надо, мол, а они свое: молчи, говорят, терпи, ничего ты не понимаешь от сотрясения мозгов. Мы твою голову' живо на место поставим. Так и отвернули.
– Анекдот, поди, байка.
– Федька-черт в пятницу песню про это пел. «Хотят ли русские вина? – спросите вы у Фомина. И вам ответит Черт-Фомин, что нам нельзя без крепких вин. Что в зимы холодно у нас, что утомлен рабочий класс, что жизнь скучна родных крестьян, вот потому народ и пьян…» Вишь как складно.
– Складно-то складно, а как бы за эту песню не того… Да и наврал много. Какое утомленье, когда работаем вполсилы, а зарплату отдай не греши. Врет.
– Товарищи, так же нельзя, мы опять отклонились от темы. У вас все, гражданин Баранов?
– Не все. За Титкова, хоть и не прихожанин, хотел слово замолвить. Люди мстят ему за прошлую ревностную службу по сбору налогов, а он выполнял служебный долг, выполнял, не отступая, как герой, как великий человек.
– Точно! – усмехнулся кто-то. – Собирать в то время налоги и герой не всякий смог бы.
Отец. Василий покивал головой:
– Но вы неверующие, и я вам скажу слова мирского ученого Карлейля Томаса, философа. Он жил в Англии в прошлом веке и хорошо говорил о героях и героическом в истории. Великие души, говорил он, всегда лояльно покорны, почтительны к стоящим выше их; только ничтожные, низкие души поступают иначе… Искренний человек по природе своей – покорный человек; только в мире героев существует законное повиновение героическому.
– Так нам что, награждать Титкова теперь?
– Нужна мне ваша награда! Да моя бы власть…
– Не награждать, а разобраться как следует. Вы же затеяли лицедейское судилище и не боитесь греха. Тот же философ Карлейль говорил прямо: «Существует бог в мире, и божественная санкция должна таиться в недрах всякого управления и повиновения, лежать в основе всех социальных дел людских. Нет дела, более связанного с нравственностью, чем дело управления и повиновения. Горе тому, кто требует повиновения, когда не следует; горе тому, кто не повинуется, когда следует! Таков божественный закон, говорю я, каковы бы ни были законы, писанные на пергаменте; в основе всякого требования, обращенного человеком к человеку, лежит божественное право или же адское бесправие». Так говорил ученый Карлейль Томас из далекой страны Англии прошлого века. А я скажу так: помните о божественном праве каждой твари на жизнь и берегитесь адского бесправия, адского желания распоряжаться жизнью ближнего своего.
– Аминь! – добавил балбес Витяй.
– Я все сказал. – Отец Василий осенил себя крестом, поклонился в сторону Титкова и его кота: – Помоги вам бог пройти судное узилище. – И пошел, приволакивая ноги в стоптанных туфлях, сквозь говорливую толпу.
– А здорово он про Карлея-то завернул!
– Начитанный…
Митя Соловей посмотрел в сутулую спину уходящего священника и подумал, что время ушло, публика слишком развеселилась и допрашивать Ветрову и Маёшкину вряд ли нужно. Он сказал об этом на ухо Чернову, потом Юрьевне, и те согласились: не надо, лучше в будний день, когда народу придет меньше. Вот только согласятся ли сами потерпевшие.
– Они не дуры, – сказала Юрьевна.
И действительно, Анька с Клавкой обрадовались отсрочке и живо убрались, провожаемые недовольными замечаниями зевак: те обиделись, что представление закончено.
Митя Соловей постучал карандашом по графину и выговорил присутствующим свое неудовольствие за такое развеселое поведение.
– Мы больше не будем, – сказал Витяй, обнимая за плечи смело декольтированную Светку Пуговкину.
– Зачем же тогда открытый суд, если молчать?
– Да, но вы не имеете права допускать выкрики и дезорганизовывать работу. Будем налагать штраф и удалять. Впереди у нас много работы, и я прошу относиться к суду со всей серьезностью. Следующее заседание состоится в среду в 17.00 здесь же, а если погода будет неблагоприятной – в помещении уличного комитета. Спасибо за внимание. До свидания.
IX
Чернов уходил домой расстроенный? Из обоих нонешних заседаний получился один глупый смех. И ведь говорил спервоначалу, и Юрьевна говорила, что зря затеваем такое дело – не послушали. Положим, не послушали они не без понятия: Митя Соловей с Башмаковым резолюцию судьи выполняли, а судья у нас строгая, не дай бог ослушаться. Опять же и Мытарин обсказал все по закону. В старые времена такие суды случались не только у нас, врать он не станет. Федя-Вася тоже протоколы принес настоящие, всё честь честью, разбирайтесь, судьи. И разбирались мы хорошо, как надо. По мне, так дело не в цыплятах и утятах, а почему такое дело.
В прежние годы цыплят больше было, в каждом дворе выводок, и коты их не трогали, мышами занимались. А нонче мыши остались только в продуктовых магазинах, а в домах редко водятся: хлебных запасов не держим, амбаров своих нет, скотину извели, а где нет скотины, там и корму не предвидится. Откуда быть мышам. И в магазинах-то, поди, для списания своих грехов держат, а то бы давно потравили.
Чернов шаркал праздничными туфлями по доскам тротуара и горевал о потерянном воскресенье. В другое время пробивать бы загодя косы, ладить грабли да готовиться недели на две в луга, а нонче про сенокос мысли только гоняешь попусту.
А все старушка Прошкина со своим веником. Выставилась, а ни ей прибыли, ни Титкову – убытку, одна неуместность. Всю жизнь, видать, уж истратила и малым дитем стала. Правда, она и прежде без плану жила, всегда скупилась, тряслась над каждой малостью, ходила с ранней весны до самой зимы босиком.«
Сбоку раздался треск мотоцикла, и из проулка, наперерез Чернову, вылетел запыленный Мытарин в красном шлеме, застекленном спереди до подбородка. Он сразу заметил своего бывшего бригадира, развернул мотоцикл и, остановившись, откинул вверх прозрачный щиток шлема.
– Кириллыч, можно на минутку?
Чернов подошел.
– Добрый вечер. – Мытарин, не слезая с мотоцикла, протянул ему угребистую руку, пожал несильно, бережно. – Как у вас с судом-то? Я тут замотался совсем. То совещание, то заседание, а сегодня вот летние животноводческие лагеря объехал. – Он потер широкий, как бульдозерная лопата, подбородок, устало помигал выпуклыми серьезными глазами. – Торопился к вам, а опять, видно, не успел. Закончили?
– С нашим народом скоро не кончишь. Нонче вот ржали, храпоидолы, на всю Хмелевку… – И Чернов обстоятельно рассказал, как проходило заседание.
Мытарин заметно оживился, усталость пропала, слушал радостно, а под конец с сожалением почмокал губами:
– Жаль, меня не было, жаль. Ну ничего, и то хорошо, что не кончили. В среду я постараюсь быть. А насчет полезности не сомневайся, Кириллыч. Полезность будет, а вредность учтем, и без всяких трагедий.
– Я про это догадываюсь, Степан Яковлич. Как говорится, если бы не голо, тогда бы и не плешь. Много у нас чего делается, а ты хозяин, тебе все знать надо.
– Хозяин здесь не только я, но все равно спасибо, Кириллыч, за подмогу. Кланяйся от меня тетке Марфе. – Опустил прозрачный наглазник, мотоцикл захрапел, как жеребец, потом взвизгнул и улетел с тучей пыли, будто и не был.
Вот как теперь! И голубое, без пятнышка небо самолет развалил надвое белой бороздой. А ночью поглядишь – звезды летают, а в тех звездах – люди, космонавты. Хочешь увидеть, включи телевизор в нужное время и увидишь. Поднять сейчас из могилы дедушку или отца – с ума сойдут от страха, от недоуменья. А если оклемаются, и тогда обсыпь их золотом, не поверят в такую жизнь и в таких людей. А она, жизнь-то, и теперь всякая, люди разные. Даже если это одни и те же люди. Мы вот с Митей Соловьем да с Юрьевной кота судим, а когда-то с буржуями воевали, с фашистами. Анька Ветрова с Клавкой Маёшкиной тоже в свое время комсомолками были, а теперь, поди, свое тайное совещание устроили и ухитряются, как нас облапошить, а самим чистенькими остаться. Витяю Шатунову была бы машина да девки, а его отцу Парфеньке ничего не надо, дай только речку да удочки. Сеня Хромкин всю жизнь изобретает разные механизмы или мечтает про мировую жизнь с философской точки…
Марфа встретила выговором:
– Нарядился как молодой и опять шатался незнамо где.
– Как незнамо, когда кота судим. Сказывал же!
– Ох, горюшко-горе! За мухой – с обухом, за комаром – с топором. Разоблачайся да ужинать.
Чернов у порога стащил тесноватые желтые туфли, смахнул с них тряпочкой пыль и поставил под лавку. Потом прошел в горницу и там бережно снял черные, тонкого сукна костюмные брюки и сатиновую кремовую рубашку-косоворотку, в которых венчался с Марфой. У доброго хозяина любая вещь долго живет, а если праздничная – до самой его смерти.
– Ты скоро там? – позвала Марфа.
– Ай соскучилась?
– Тьфу тебе, старый! Простынет все, холодное будешь есть.
Чернов высунулся с брюками в раскрытое окошко, несколько раз встряхнул их над кустом сирени, дивясь, что набрал столько пыли, повесил под пиджак на плечиках в платяном шкафу и занялся рубахой. Крепкая рубаха, хорошая, надо наказать, чтобы после смерти в нее обрядили.
Повесив на место рубаху, Чернов переоделся в трикотажный тренировочный костюм меньшака Бориса Иваныча и вышел в прихожую.
Марфа сидела у стола на табуретке, ожидая хозяина. В обливном блюде исходила паром и мясным радостным духом тушеная картошка, стояла банка со свежей сметаной и тарелка с хлебом.
– Где такое добро спроворила, нешто на базаре?
– Укупишь нонче на базаре. – Сухонькая, сгорбленная Марфа»распрямилась от похвалы. – В магазине это я. Вчера вечером стою с бабами, жалюсь, мужика кормить нечем. Анька, продавщица, мне и подморгни. Я не дура, дождалась, как все уйдут, Анька мне кило мякоти да полтора с косточкой и взвесила. Утром щи мясные сварю. Ты, говорит, бабка Марфа, послезавтра зайди, колбаски оставлю. До чего обходительная эта Анька, слов нет.
– А сметану, стало быть, Клавка принесла?
– Она, Клавка. Нонче утром. Нарядная была. Ты как узнал?
Чернов покачал головой, нехотя сел за стол и стал есть картошку, не трогая мяса. Марфа забеспокоилась:
– Не за так ведь брала – за деньги. Я и Клавке рупь давала, она сама не взяла: я, говорит, из уважения к вам, к Кириллычу. Тоже уважительная, будто подменили.
– А ты не подумала, с чего они такие?
– Как не подумать, подумала, да ведь мало ли что с людьми деется, а нам вреда нет, одна польза.
– Эх, Марфа, Марфа, дура ты у меня окончательная.
– Пошто так-то: дура, да еще окончательная? – Тонкие губы Марфы поджались в ниточку.
– А старая потому что, некогда уж умнеть-то. Анька с Клавкой весь день передо мной на скамейке сидели, на кота свое воровство хотят свалить. И тоже обходительные, смирные, руки на коленках. В другое время от них грому на всю Хмелевку, а тут вежливость показывают.
Марфа не отступала, взяла своих благодетельниц под защиту:
– Не строжись, Кириллыч, не строжись, кто из нас без греха. Себе бы они только брали, а то и другим дают… Туфли-то у тебя неразношенные, как жених ходишь, а тоже продавщице зелененькую сунула, она и достала. Последние, говорит, завалялись, забыла про них.
Чернов перестал есть.
– А ты ешь, ешь, не гневайся, я правду говорю. Кофточки восейка продавали шерстяные так же. Выкинули пяток для блезиру, а на другой день пошла я на базар, а там исполкомовские дамочки лук покупают, огурцы. И все в новых этих кофточках, а в очереди я их не видала. И из райфо барышень там не было, а ходют в кофточках. Я, грешница, пошла к продавщице, пятерку ей сунула – Нинка, говорю, нагишкой ходит, дочка моя, уважь, Христа ради. И она, милушка, живой рукой спроворила. Ситец вот тоже модный стал, за свою цену не укупишь, носки бумажные солдатам дают только, а в магазины – отменили. Витяй Шатунов в область ездил, там у прапора, говорит, полдюжины купил за бутылку.
– Хватит, все сплетни высказала.
– Да какие сплетни – истинный бог, не вру! Хоть кого спроси, то же скажут. Спле-етни…
В воротах стукнула калитка, Чернов насторожился:
– Идет кто-то, убери посуду от греха.
Марфа живо сгребла блюдо с нетронутым мясом и сметану и, ворча, что с таким судьей скоро и есть придется украдкой, скрылась в чулане, а Чернов встал встретить нежданного гостя.
Осторожничали не напрасно: явился озабоченный Федя-Вася.
– Я зачем к тебе, гражданин Чернов? По секретному делу. Как ты член суда и живешь близко.
– Садись, Федор Василич, к столу. Марфушк, чаю бы нам спроворила.
– Счас, счас, самовар горячий.
Федя-Вася оглянулся на колыхающуюся занавеску, подумал и, сняв форменную фуражку с невыцветшим местом герба, присел на табуретку:
– Я что хотел? А то, что на суде я нынче не был из-за веников. Матрена послала навязать для бани.
– Молодец ты, Федор Василич, заботливый. Березовые?
– Да, березовых хотел. Но я про что? Про самогонный пункт. Как я его обнаружил. Думаешь, случайно? Нет, законно. Это я за вениками поехал случайно. – Матрена прогнала. Почему? А пенсионер потому что. При должности она меня не посылала. И вот я поехал на бударке через залив.
– К дамбе?
– Нет, к Коммунской горе. Почему? Там лес лучше потому что, береза плакучая есть. А у плакучей березы ветки какие? Длинные, гибкие.
– Оно конешно… – Чернов в душе не одобрял такие веники: прутьев много, а листа мало, от хлестанья на теле полосы. – Ребятишек ими пороть способно.
– Телесные наказания у нас отменены, гражданин Чернов. И говорю я не про то. Я про самогонный пункт.
Марфа поставила на стол медный самовар, чайные чашки и блюдца, выставила банку домашнего варенья и тарелку белых магазинных сухарей.
От угощенья Федя-Вася не отказался, поскольку Чернов не был на подозрении, и, прихлебывая из чашки чай вприкуску с сухарями, рассказал о том, что много лет омрачало его жизнь и задерживало продвижение по службе. Раскрой он это дело раньше, на пенсию он вышел бы не старшиной, а младшим лейтенантом или полным лейтенантом. Офицером то есть. А он раскрыл только сейчас. Что? Да тот самогонный пункт общественного назначения, который, извини за выражение, использует коллективно вся Хмелевка. Сегодня один гражданин, завтра другой. Да, в том самом Коммунском лесу, который до революции Барским звали. Бударку-то свою он спрятал в ивняке, а сам с серпом пошел резать березовые веники. И вот когда нарезал вторую вязанку, услышал стук лодочного мотора. Тут же скрытно спустился к берегу и увидел кого? Гражданина Фомина, по кличке Федька Черт, и его рыбацкого напарника гражданина Рыжих без клички, поскольку рыжистее не бывает. С чем? С молочной флягой приплыли и с бидоном…
Задавая себе вопросы и отвечая на них, Федя-Вася рассказал, как он крался за рыбаками по лесу, как чуть не выхлестнул ветками глаза и как зашел в глухую чащобу, где пряталась землянка. В ней и скрылись означенные рыбаки с двухпудовой флягой и пустым бидоном. Вскоре из трубы завился синий дымок, а потом Федя-Вася почувствовал и запах самогонки. Значит, во фляге они несли бражку, а бидон взяли для самогонки.
Федя-Вася хотел накрыть их с поличным, но вовремя вспомнил, что теперь не при должности и без оружия, а Федька Черт и Иван Рыжих мужики отчаянные, долго разговаривать не станут. Пришлось лежать в кустах и ждать, когда они уйдут. А они ушли только к вечеру. Фляга теперь была пустой, а бидон Федька Черт нес бережно, дорогой отхлебывая, чтобы не расплескать.
В землянке Федя-Вася обнаружил нары для отдыха, печку с вмазанным котлом и плотной крышкой, змеевик с охладителем, запас сухих дров и колючие скелеты сушеной рыбы, которой они закусывали. У единственного окошка стояла на чурбачке семилинейная керосиновая лампа со стеклом – значит, и ночью самодельный заводик работал. На дощатом подоконнике вырезаны ножом цифры: «20.10.45 г.». Должно быть, пункт открыт в этот день. А Федя-Вася думал, что в 1946-м – тогда прошелестел слушок, что где-то в лесу есть самогонный пункт, куда ездят с бардой хмелевцы. По-над нарами, с потолка на стену косо висел большой лист плотной бумаги с надписями химическим карандашом: «КТО ПЬЯН ДА УМЕН – ДВА УГОДЬЯ В НЕМ». «ПИТЬ ПЕЙ, А ДЕЛО РАЗУМЕЙ». «РАБОТА – НЕ ВОЛК, В ЛЕС НЕ УБЕЖИТ». «АЛКАШ! ЗАКУСЫВАЙ ГРИБАМИ, А ЯЗЫК ДЕРЖИ ЗА ЗУБАМИ, ПОНЯЛ!…»
Федя-Вася оторвал лист и на обороте увидел плакат о производительности труда. Какая жалость! В то засушливое лето сорок шестого года он обошел весь Ивановский лес, ездил в Хляби, был и здесь, на Ком-мунской горе, но пункта так и не нашел. Расспросы же ни к чему не привели, даже бабы не выдали тайну мужиков, хотя и костерили их нещадно.
– Повезло тебе, Федор Василич, в это воскресенье – сразу и самогонщиков и веники.
– Нет, гражданин Чернов, не повезло. На месте не застукал потому что, свидетелей не было, запросто откажутся. И веников не привез. Как так? А так: веники украли. После осмотра землянки пришел я на место и вижу что? Ни вязанок моих, ни серпа, одна примятая трава у березы. Приехал пустой. Хорошо хоть лодку оставили. На этом берегу спросил ребятишек – нет, говорят, рыбаки приехали без веников, несли только флягу и бидон и пели песню про несчастную любовь. И вот я сразу к тебе. Как рассудишь?
Чернов почесал седую потылицу: дело сугубое, сразу не ответишь. Если попросту, то сказать бы участковому, и до свиданья. Но Федя-Вася участковому не сказал, и вряд ли из одной ревности: пусть, мол, этот лейтенантик с дипломом поищет, как я столько лет искал. Заводик, как ни кинь, ничейный, главного виновника не найдешь, а найдешь, так давность большая. Можно выследить других и накрыть на месте, но опять же накроешь одного-двух, а остальные будут в стороне. Развалить у них землянку? Сделают новую, в другом месте. Да и дома выгнать можно, в простой металической кастрюле или в ведре, без всяких змеевиков и котлов.
– Как же, гражданин Чернов? – напомнил Федя-Вася.
– По правде сказать, не знаю. – Чернов виновато развел руками. – Одно могу посоветовать – в наш суд. Все равно уж разбираться. Опять же народу много, глядишь, кто-нибудь и проговорится, а Федьку Черта с Ванькой Рыжих все равно вызывать: они заявление написали,, что кот у них сети изгрыз. Заседать будем в среду.
– Согласен с тобой, гражданин Чернов. – Федя-Вася встал, надел милицейскую фуражку, подал хозяину руку. – В среду обязательно приду. Беспорядок внутри нашей жизни что? Не допустим. Верно?
– Само собой, – сказал Чернов.
На том и разошлись.
Федя-Вася хотел товарищеским судом перевоспитать нарушителей порядка, а того не знал, что сам стал нарушителем. Пока он лежал в кустах за незаконной землянкой и ждал ухода самогонщиков, на его березовых вязанках сидел Монах с ружьем за спиной и ждал погубителя родной природы. Не дождавшись, сгреб обе вязанки, воткнув в них серп с чернильными инициалами «П. Ф. В.» на ручке, и пошел завершать егерский обход. Вечером он переправил веники к себе на остров, а на другой день явился с ними в редакцию районной газеты. Он мог бы сразу в милицию, мог бы добиться штрафа для нарушителя, но дело это долгое, попробуй еще узнать-, по тем трем буквам с точками, кто он такой, тот стервец, который обкорнал зеленые подолы у плакучих берез, глупый хулиган или только до подола достающий шибздик. В Хмелевке же народу несколько тыщ, не скоро узнаешь. Да и штрафа за веники дадут немного, а хлопот наберется до потолка. Стало быть, прямая дорога в газету. Они в институтах учились, пускай разбираются.
– Понятно, – сказал, не вставая из-за стола, редактор Колокольцев и поглядел сперва на веники у порога своего кабинета, потом на сердитого Монаха. – Что вы конкретно хотите?
– Пропечатать на весь район, – сказал Монах и надел форменный картуз. – А насчет штрафа не старайтесь, штраф я ему, хулигану, припаяю. Если найду.
– А если не найдете?
– Найду. А вы народ посовестите, не повредит.
– Действительно. Сейчас самый сезон заготовки веников. Мухин! – крикнул он и стукнул кулаком в стену. – Комаровский! Зайдите срочно.
И почти тотчас рядом с Монахом возникли два современных молодца в синих джинсовых костюмах, оба одинаково поджарые, спортивные, шустрые. Мухин русый, а Комаровский черный.
– Вот вам наш егерь, товарищ… – редактор споткнулся, не зная фамилии Монаха, и вскинул хитрые глаза на готовых ко всему своих сотрудников.
– Чего там, шеф, – нашелся первым Комаровский, – ясно: печальник природы, лесной человек, специалист по экологическим проблемам.
А Мухин взял Монаха под руку:
– Пойдем, дядя, потолкуем про твои елки-палки-веники.
– Племянник объявился. – Монах выдернул свою руку, но пошел следом за парнями в соседнюю комнату, синюю от табачного дыма. Сел там в простенке на стул между двух столов, у окон, положил именной серп на колени. – Ну что скажете хорошенького? – спросил у «племянника».
– Говорить будете вы, а хорошенькое или нет, сейчас увидим, – сказал Комаровский, открыв блокнот. – Итак, записываю.
– Я тоже, – сказал Мухин.
– Хоть одно окошко бы открыли, натоплено как в бане. – Монах обернулся и ткнул ладонью в крестовину оконной рамы – створки распахнулись, и с улицы звонко застучал типографский движок. – Во-он что вы! От шума в дыму прячетесь…
– Точно. Ты, отец, наблюдательный, – перевел его из дядьев в высший чин Комаровский. – Ну давай повествуй.
Монах уже оценил нахальность Комаровского и прилипчивую настойчивость Мухина и стал рассказывать, вежливо поглядывая то на одного, то на другого, про веники, про испорченные подолы плакучих берез, таких пригожих, слов нет, про молодые погубленные деревца. Никто не против веников, но с умом надо делать, правила резки соблюдать. Чтобы после тебя природа не страдала, чтобы вместо ее красоты не возникало безобразия, подлости. Ты отдыхать отдыхай, но не ломай кустов и деревьев, не жги ненужных костров, не оставляй банок, бутылок и разного copy, бесстыжие твои глаза…
– Понятно, дед, напишем как надо. И подпись поставим твою, с указанием чина.
– Да, да, авторскую заметку дадим, не сомневайтесь. Мы тоже дети природы. Кстати, как ваша фамилия?
– Шишов. – Монах встал, не дожидаясь, пока его произведут в прадеды, и пошел к двери.
– Веники не забудь, дедок. У редактора-то.
– Парьтесь на здоровье. Только если суд спросит, потом подтвердите.
– Какой суд? – насторожился Мухин.
– Товарищеский. Скажу и там. А то кота судят, а до людей, которые природу губят, и дела нет.
– Постой, дед, постой! – Комаровский и Мухин мигом выскочили из-за столов и взяли Монаха под руки. – Кто судит? Какого кота? Где?
– На Новой Стройке. А кот – Титков Адам. Пустите, чего вцепились! – Монах сердито высвободил от газетчиков руки. Что за дурацкая привычка брать будто барышню или преступника. – Митя Соловей там председатель. Взаймыобразный.
– Взаимнообоюднов? Тот, что в райисполкоме работал?
– Он самый.
– Это же сенсация, Мухин!
– А кто ее открыл?
– Да сама открылась. Дед сказал. Правда, дед?
– Про суд вся Хмелевка знает, не спорьте.
– В самом деле?
– Врать я, что ли, стану. Вторую уж неделю вожжаемся. Объявленья Федя-Вася по всему райцентру развешивал, три заседанья было. Или четыре. Где у вас глаза-уши?!
– Действительно…
– Как это мы зевнули, старик?
Газетчики голодно посмотрели в форменную сутулую спину уходящего егеря и ринулись в кабинет редактора. Комаровский влетел первым и упал у порога, не заметив оставленных веников. Мухин с улыбкой напомнил ему о Цезаре:
– Плохая примета, старик. Не забывай историю.
– А-а, отстань. – Комаровский мигом вскочил, отряхнул деревянно загремевшие джинсы и устремился к редактору: – Шеф, поручите это дело мне!
Колокольцев поднял рыжую, с хохолком голову от гранок, не забыв прижать пальцем то. место, где остановил чтение.
– Почему тебе? – подоспел Мухин. – Как что свеженькое, так ему. А кто спровоцировал старика на разговор о суде? Я!
– Не ты один – вместе…
– Вот видишь! Тогда и писать – вместе!
– Нет, с ним невозможно… Шеф, примените наконец власть! У меня же острее перо, тоньше!
– У него острее – наглец! А вот насчет власти, шеф, он прав: примените. К нему. Пока он так выскакивает, мне нет ходу.
– Да зачем тебе ход, Мухин? Да ты…
Колокольцев ударил ладонью по столу:
– Хватит. Как на базаре. В чем дело? Рассказывайте кто-нибудь один. Ты, Мухин.
– Почему он?
– А почему ты?
– Я – Комаровский, понятно?
– А я – Мухин!
– Опять заорали. Ну, кто умнее, замолчите. – Колокольцев подождал и удовлетворенно хохотнул: – Оба замолчали. Молодцы. Докладывай, Мухин.
– На Новой Стройке товарищеский суд рассматривает дело кота Титкова Адама, – доложил Мухин.
Колокольцев снял трубку и попросил телефонистку соединить его с уличным комитетом Новой Стройки.
– Новая Стройка? Кто говорит?… Здравствуй, товарищ Башмаков… Да, Колокольцев. Что там у вас за суд происходит?… Это я знаю, дальше… Так, так, подробней, пожалуйста. Минутку, я запишу. – Колокольцев поискал взглядом по столу, не нашел, перевернул ленту гранок и на чистой оборотной стороне стал быстро писать. – Так… так… Интересно… И директор Мытарин? И народный судья?… Скажи пожалуйста!… Так. Когда? В среду? Значит, надо торопиться, спасибо… А?… Да, возможно, пришлем сотрудника, точно не скажу. До свиданья.
– Почему «не скажу», шеф? Я готов!
– Опять «я». Ну, Комаровский, погоди!
– Ладно – «мы»! Мы с Мухиным готовы, шеф, хоть сейчас. Мы немедленно пойдем…
– Никуда вы не пойдете. Первую полосу забили?
– Почти. Единственная дырка в тридцать пять строк.
– Вот и досылай про веники, чего ждешь? Монах тебе на блюдечке принес, в рот положил, разжевать не можешь?
– А суд?
– А суд – когда выясним. Надо согласовать.
– Да чего согласовывать? – не удержался опять Комаровский. – Как чуть что, сейчас согласовывать. Любую филькину грамоту…
– Ты думай, когда говоришь. Филькина грамота, Комаровский, может появиться только в шарашкиной конторе. Понял? Дай тебе волю, ты превратил бы газету в такую контору. Надо же иметь хотя бы какое-то представление о том курьезном деле!
– Вот и пошлите меня.
– Нас! – уточнил Мухин. – Здесь наклевывается фельетон, материал открыли вместе и писать будем вместе. Я не отступлю, Комар, не мечтай, ты меня знаешь!
– Ну хорошо, пусть вместе. Когда, шеф? В следующий номер?
– Когда подробно выясню и согласую.
– Видишь, Мухин, вечно у нас выяснения, согласования, никакой сенсации.
– В нормальном, хорошо организованном обществе сенсаций не бывает. Выметайтесь, я передовую еще не вычитал. – Колокольцев перевернул гранки, ища начало статьи. – Где вот кончил, черти? И ведь пальцем зажимал, думал, на минутку зашли. Что теперь, сызнова ее, такую-то скучищу? Кто писал, ты, Мухин?
– Вы сами, – сказал Мухин, оборачиваясь к двери.
– Не может быть. Я вчера на совещании весь день просидел.
– Там и написали.
– Да? Впрочем, кажется, действительно что-то такое писал. Ну иди и вязанку веников возьми. С Комаровский поделишься.
– А вторая?
– Вторую – мне. Могли бы догадаться, эгоисты чертовы!
Мухин взял зеленый пахучий сноп и пошел за Комаровским в общую комнату писать в «Письма трудящихся» заметку от имени Монаха. Колокольцев стал заново читать передовую статью. Теперь она, своя-то, читалась куда веселее,
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.








































