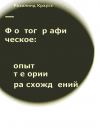Текст книги "Фотография. Между документом и современным искусством"

Автор книги: Андре Руйе
Жанр: Изобразительное искусство и фотография, Искусство
Возрастные ограничения: +12
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 16 (всего у книги 45 страниц) [доступный отрывок для чтения: 12 страниц]
Возможно, именно в семейной фотографии, которую долгое время не принимали в расчет и презирали, диалогический принцип и выражение присутствуют в наибольшей мере – во всяком случае, наиболее спонтанно. Вопреки расхожему верованию, семейная фотография имеет свой характер и идентичность. Будучи обширной, обычной и по преимуществу частной практикой, она обладает реальной специфичностью своих тем, способов использования, процедур и эстетики.
Ее фундаментальный диалогизм строится главным образом на оригинальной позиции оператора, который максимально близок к своим моделям, находится с ними в одном пространстве, то есть сам является частью изображаемых сцен. Кроме того, он одновременно и производитель, и адресат своих снимков. Никакая другая практика не обеспечивает такой близости, такого слияния с Другим. Репортаж «на скорую руку» обращается с Другим как с чужим или вещью, папарацци третирует его как «добычу», диалогический репортаж стремится трансформировать Другого в партнера, деятеля. В семейной фотографии оператор и Другой принадлежат к одному миру, частному семейному кругу. Диалогизм варьируется с дистанцией, которая разделяет фотографа и Другого. Минимальный диалог и максимальная дистанция характеризуют традиционный репортаж, где фотограф остается радикально внешним по отношению к территории Другого; диалог устанавливается, когда фотографу удается встать на границе этой территории, и, конечно, он достигает самой высокой степени в семейной фотографии, когда оператор разделяет свою жизнь или многие ее моменты с Другим: отцом, матерью, ребенком, братом или другом.
Фотографический процесс здесь полностью изменен. Диалогический репортаж – это удел закаленных операторов, он происходит через изобретение, как правило, длинных и всегда специфических процедур, тогда как семейная фотография широко распространена как деятельность любителей, часто неопытных, не знающих элементарных правил процедуры или безразличных к ее принципам. Тем не менее эта сравнительная неопытность связана не с особой сложностью процесса и даже не с упорным отказом любителей им овладевать. Она происходит оттого, что мастерство им не кажется необходимым: семья ежедневно и естественно создает изнутри именно то общение, которое ставят своей целью создать извне с помощью своего мастерства и особых процедур такие фотографы, как Марк Пато, Ник Ваплингтон, Оливье Паскье и многие другие. С одной стороны, диалогизм – это эффект территории (семьи), с другой – он является эффектом фотографических процедур. Кроме того, мастерство довольно мало добавляет к семейному кадру, где отношения и чувства главенствуют над качеством изображения, где выражение в конечном счете оказывается важнее, чем денотация или искусство. Формы изображений (как, впрочем, и формы большинства символических продуктов) на самом деле сильно зависят от их территории, в особенности от ее приватного или публичного характера. Как, например, домашняя одежда несет в себе небрежность, невозможную в одежде городской или вечерней, как частная беседа более экспрессивна и груба, содержит больше аллюзий, чем публичная речь, так и снимки, сделанные для себя и нескольких близких, подчиняются более гибким формальным и техническим правилам, чем публичные изображения репортажа, моды, рекламы, иллюстрации и искусства. Именно строго приватное использование, далекое от требований социальной жизни и ограничений экономики, позволяет семейным снимкам жертвовать техникой и эстетикой ради выразительности. Именно домашнее использование приводит к тому, что они избирают экспрессивное схватывание (мимолетной сцены) в ущерб качеству снимка.
Очевидно, что не все семейные фотографы равнодушны к эстетике; некоторые пытаются достичь эффектов, но их усилия по большей части ограничиваются кодексом формальных правил и редко направлены на достижение настоящей оригинальности. Если некоторые изображения и являют несомненные формальные достоинства, это чаще получается случайно, поскольку достоинств часто и не требуется – более того, они даже остаются непонятны операторам. Поскольку семья не является средой эстетической легитимации, в отношении этих снимков следовало бы говорить о невольной эстетике, лишенной преднамеренности и осознанности. Дикое и всегда неопределенное письмо, случайная техника, невольная эстетика: выразительная сила снимков парадоксальным образом строится на пренебрежении техникой и письмом и на той принципиальной близости, которую крошечная территория семьи обеспечивает деятелям процесса. Словом, если семейная фотография выразительна, это происходит при пустоте ее форм и благодаря ее имманентному диалогизму.
Итак, изображения скорее выражают, чем изображают ситуации, места, иногда даже чувства, но в особенности – сплоченность и семейное счастье. Они выражают это сами по себе, но также и внутри машины иллюзии – альбома. Альбом – это не только место для семейных снимков, как журналы, рекламные щиты или художественные галереи являются местом для фотографий прессы, рекламы или искусства. Особенность альбома в том, что он является точкой, где индивиды встречаются со своими собственными изображениями и изображениями своих близких. Альбом, составленный из торжественных (или, напротив, простых и обычных, но в любом случае хороших) моментов, создает ткань семейной памяти, памяти неполной, принимающей форму забвения и ностальгической иллюзии, потому что на альбомных фотографиях часто улыбаются, иногда грустны и меланхоличны, но редко плачут или страдают. Ситуации труда и усилия, горестные эпизоды (болезнь, смерть и т. д.) редки. Что касается секса, вдохновляющего домашнее производство эротических видов, альбом, который всегда остается на границе интимности, его в расчет не принимает. Таким образом, иллюзия счастья и семейной сплоченности строится на уважении традиций, то есть на старомодном изображении семьи. Манихейский и стереотипный альбом является местом стабильности, ободрения, укрепления уверенности.
Огромное количество создаваемых семейных фотографий внутри себя характеризуется весьма узким спектром тем, где доминирует ограниченное число мест, предметов, индивидов и ситуаций, варьирующих в изображениях до бесконечности. Действительно, эта продукция строится вокруг полюсов детства, ритуалов и праздников (свадьба, день рождения и т. д.), провождения свободного времени, семейных мест (внутри – накрытый стол, снаружи – ближайшие окрестности дома), нескольких повседневных предметов (коляска, автомобиль, игрушки) и домашних животных. Только развлечения (туристический лагерь, пляж, горы и т. д.) и некоторые общественные места (школа, казарма, спортивный клуб) могут вывести изображения из строгих домашних рамок. Позирование еще остается доминирующим поведением, несмотря на повсеместное распространение моментальной фотографии и свободу, которая сегодня предоставлена телу в изображениях. Но в противоположность портретам, сделанным в абстрактном пространстве студии фотографа, позирование в семье не отделяет индивидов ни от их контекста, ни от их активности: это остановка, передышка, но не абстракция.
На самом деле в альбоме пересекаются три способа выражения: изображения, часто рукописные подписи под ними и диегетическая последовательность изображений. С помощью этого приспособления субъект говорит и выражает себя, проявляет свои желания и верования и таким образом вносит вклад в построение семейной иллюзии. Субъект, который фотографирует, не обязательно тот, кто делает альбом, но действия первого и второго сходятся в объекте, соединяющем видимое и произносимое, исходящем из семьи, но не дающем ее репрезентацию, поскольку отношения между ситуациями и людьми с одной стороны и изображениями, подписями, альбомом – с другой (то есть между вещами и знаками) не сводятся к репрезентации. Знаки воздействуют на сами вещи, в то время как вещи вторгаются в знаки, развертываются через них. Такой-то альбом, его снимки и подписи под ними, будучи репрезентацией вещей и людей такой-то семьи, всегда включается в само это положение вещей и воздействует на него. Разве не об этом писал Кафка своей невесте Фелице Бауэр: «Когда я смотрю на твою маленькую фотографию – она передо мной, – я всегда удивляюсь той силе, которая связывает нас друг с другом. За всем, что можно рассматривать, за дорогим лицом, серьезными глазами, улыбкой, плечами, которые хотелось бы как можно скорее обнять, – за всем этим действуют силы, которые так близки мне, так необходимы. Все это тайна…»[287]287
Kafka, Franz, Lettres à Felice. Paris: Gallimard, 1972, t. 1, p. 238.
[Закрыть]
Эти взаимные отношения между вещами и знаками становятся особенно рельефными в семейной фотографии, и прежде всего тогда, когда в ней случайным образом выражаются конфликты и драмы. Действительно, сила обиды может привести к тому, что изображение повреждают: зачеркивают, отрезают, вырывают из альбома. Такого рода «иконоборческие» поступки, продиктованные страданием или злостью, показывают не только меру страстей, которые концентрируются в изображениях, но и ту силу, что они в себе таят. Взаимодействие изображений и вещей может доходить до их символического смешения, особенно в семье, где фотографическая близость изображения-снимка с моделями сочетается с аффективной близостью. Иначе как понять популярный культ портретов-реликвий, украшающих каминные полки и наполняющих бумажники, это фетишистское пристрастие, безразличное к качеству непохожих, зачастую размытых, поврежденных или даже почти неразличимых снимков, эту социальную практику, которая далеко превосходит пределы репрезентации? «Изображение может быть размытым, деформированным, бесцветным, не имеющим документальной ценности, – пишет Андре Базен в 1945 году, – но по своему происхождению оно восходит к онтологии модели: оно есть модель. Отсюда очарование этих альбомных фотографий»[288]288
Bazin, André, «Ontologie de l’image photographique» (1945), in: André Bazin, Qu’est-ce que le cinema? Paris: Cerf, 1985, p. 14.
[Закрыть]. Далее он развивает свою онтологическую концепцию: «Фотография располагает возможностью переносить реальность вещей через репродукцию. Самый верный рисунок может нам дать больше знаний о модели, но он никогда не будет обладать, вопреки нашему критичному разуму, иррациональной властью фотографии, которая поддерживает нашу веру». Отталкиваясь от этого, Базен считает возможным апеллировать к «психологии реликвий и сувениров, также обладающих возможностью совершать перенос реальности, происходящий из комплекса мумии», а затем сообщает, что «Туринская плащаница осуществляет синтез реликвии и фотографии».
VI
Фотография между
Онтологическая концепция, не отличающая фотографию от реликвии, сопровождается целым пучком прочных убеждений: что фотография – это зеркало реальности, что она ведет к появлению объективного и автоматического изображения, что она подобна настоящему «природному феномену». Андре Базен твердо верит в «сущностную объективность» фотографии, гарантированную, по его мнению, заменой человеческого глаза фотографическим, а именно объективом. «Впервые, – настаивает он, – между исходным объектом и репрезентацией ничего не стоит, кроме другого объекта. Впервые изображение внешнего мира формируется автоматически, без творческого вторжения человека, согласно строгой детерминированности»[289]289
Bazin, A ndré, «Ontologie de l’image photographique» (1945), in: André Bazin, Qu’est-ce que le cinema? Paris: Cerf, 1985, p. 13.
[Закрыть]. Оригинальность фотографии в сравнении с живописью или рисунком следует искать «не в результате, но в происхождении»[290]290
Ibid, p. 12.
[Закрыть] – «автоматическом происхождении», которое исключает человека.
Изложенная Андре Базеном вполне традиционная сумма положений, связанных с восприятием теорий американского семиотика Чарлза С. Пирса, и в особенности его понятия индекса, с 1980‑х годов и до сегодняшнего дня будет служить настоящим кодексом дискурса о фотографии (см. выше, с. 71, «Способы высказывания истины»).
Понятия следа, отпечатка и индекса, конечно, обладали определенным достоинством: они хорошо определили семиотический статус фотографии в отличие от рукотворных изображений, показали, что отношения между вещами и снимками, полученными с помощью солей серебра, в равной мере основаны на смежности и сходстве, а также установили связь фотографии с оптическим сходством и сходством через контакт. Но эти понятия были крайне неудобны, поскольку слишком тесно связывали изображения с предварительным существованием вещей, отводя им только роль пассивного регистратора следов вещей. Теория индекса вызвала к жизни кропотливые исследования, посвященные фотографическому «носителю» и фотографическому акту[291]291
Работы Розалинд Краусс, Филиппа Дюбуа, Жана-Мари Шеффера или, на другой лад, «Camera lucida» Ролана Барта.
[Закрыть], но она питала глобальную, абстрактную мысль, безразличную к сингулярным практикам и продуктам, к конкретным обстоятельствам и условиям. Согласно этой теории, «единая» фотография – это главным образом категория, общие законы которой следует выявить, а не ансамбль различных практик с их особыми детерминациями и не корпус уникальных произведений. Этот отказ от сингулярности и контекста, исключительное внимание к сущности ведет онтологическую мысль к тому, что «единая» фотография сводится к элементарному функционированию ее технического устройства, к простейшему ее пониманию как светового отпечатка, индекса, механизма регистрации. Таким образом, парадигма «единой» фотографии построена на ее нулевой степени, техническом принципе и смешении ее с простым автоматизмом в противовес мысли о живописи, которая обычно питается бесконечной сингулярностью произведений.
Кроме Розалинд Краусс[292]292
Krauss, Rosalind, «Notes on the Index: Seventies Art in America», October, N 3 et 4, New York: MIT Press, 1997. Франц. пер. в: Macula, N 5–6, Paris, 1979.
[Закрыть] в Соединенных Штатах, теорию индекса в приложении к фотографии наиболее последовательно и систематично защищали, вероятно, Филипп Дюбуа в работе «Фотографический акт» и – конечно, в своей манере – Ролан Барт в «Camera lucida». Никто и не мечтал усомниться в том, что «единая» фотография – это что-то общее с отпечатком, следом, хранилищем, реликвией, руиной. Кто посмел бы спорить с тем, что «референт соприкасается» с фотографией, как прекрасно написал Барт? И это несмотря на то, что он с 1961 года непрестанно утверждал, что «единая» фотография – это «сообщение без кода»[293]293
Barthes, Roland, «Le message photographique», Communications, N 1. Paris: Seuil, 1961.
[Закрыть] (мысль, которую подхватывает и развивает Филипп Дюбуа).
Итак, Дюбуа идет по следам Базена, Барта и Пирса, предлагая синтез теории индекса. Эта теория с неизбежностью отмечена редукционизмом, поскольку она меньше интересуется фотографиями (изображениями) и операторами (людьми), чем «единой» фотографией вообще (техническим устройством), меньше занята тем, что может быть общим для той или иной конкретной практики, чем тем, что составляет фотографию «в ее принципе, в ее основании»[294]294
Dubois Ph., L’Acte photographique, p. 57.
[Закрыть]. Таким образом, фотография сводится к «теоретическому устройству: фотографическому», к «категории мысли» (символично, что статьи Розалинд Краусс о фотографии опубликованы по-французски под заглавием «Le Photographique» – «Фотографическое»). Так теория индекса стремится стать онтологией, рассмотрением сущности фотографии, вполне сопоставимым с тем, что Гринберг предпринял в отношении живописи. Но как именно эссенциализм совершает переход от фотографий к фотографическому, от изображений к категории мысли? Это делается через последовательность редукций, оппозиций, купюр, что приводит в результате к искажению сущности фотографии, сведенной к ничто или к весьма малому. Выстроенное таким образом фотографическое (фотография) ближе к схеме, чем к конкретным изображениям и практикам, которые ускользают от теоретической обработки.
Вторая редукция состоит в том, что икона обесценивается в пользу индекса, регистрации отдается предпочтение перед имитацией, следу – перед сходством. Избирается что-то одно вместо того, чтобы мыслить плодотворный диалог обеих сторон. «Фото – это прежде всего индекс, – отмечает Дюбуа, – и только потом оно может стать подобием (иконой) и приобрести смысл (стать символом)»[295]295
Dubois Ph., L’Acte photographique, p. 50.
[Закрыть]. Строить иерархию, устанавливать забавную последовательность (прежде всего, потом) и по существу делать выбор в пользу индекса – все это, конечно, направлено на разрушение противоположного дискурса сходства, на протяжении более ста лет сводившего фотографию к простому зеркалу реальности. Но иногда это ведет к умозаключениям столь же карикатурным, как у Жана-Мари Шеффера. По его мнению, непрочная природа, какую он приписывает (произвольно) фотографии, строится на особой природе «фотографического знака, [который] всегда характеризуется напряжением между его функцией индекса и его иконическим присутствием»[296]296
Schaef er, Jean-Marie, L’Image précaire. Du dispositive photographique. Paris: Seuil, 1987, p. 102.
[Закрыть]. Вместо того, чтобы видеть, как Жан-Мари Шеффер, в этом «напряжении между индексом и иконой» причину нестабильности, сложности, двусмысленности и в конечном счете непрочности[297]297
Ibid., p. 101–102.
[Закрыть], скорее следовало бы, напротив, считать эту смесь различных принципов фактором жизнеспособности, силы и богатства (если позволительно говорить в терминах, которые лишь описывают с противоположным знаком случайную проблематику непрочности и бедности фотографии). Шеффера, очевидно, смущает «двусмысленный статус этого фотографического знака», разрушающий категории старой доброй семиотики, комбинируя (смешивая) две функции, которые обыкновенно разделены. При внимательном чтении оказывается, что непрочность присуща скорее не фотографии, а тому способу, каким ее пытаются описывать…
Третья редукция, прямо проистекающая из предыдущей, состоит в том, что «химическим средствам» отдается предпочтение перед «оптическими приспособлениями», а фотограмма изображается как самое чистое выражение теории индекса. Действительно, фотограмма – это световой неподражательный отпечаток, получаемый в камере обскуре без оптических приспособлений, путем помещения объектов на лист чувствительной бумаги под прямое воздействие света. Фотограмма, которую блистательно практиковали Ман Рэй и Ласло Мохой-Надь, приводится в пример того, что, «воспринимаемая в том, что в ней есть наиболее элементарного, фотография не обязательно предполагает идею сходства». Более того, по мнению Дюбуа, фотограмма «реализует в своем принципе минимальное определение фотографии и выражает, если можно так сказать, ее онтологию»[298]298
Dubois Ph., L’Acte photographique, p. 67.
[Закрыть]. Здесь слышны странные отголоски заявления Ролана Барта, сделанного в 1970 году по поводу кино: «Фильмическое весьма парадоксальным образом может быть схвачено не в фильме – “ситуативно”, в “движении”, “естественно”, но только лишь в том основном артефакте, которым является фотограмма»[299]299
Barthes, Roland, «Le troisième sens» (1970), in: Roland Barthes, L’Obvie et l ’obtus, Essais critiques III. Paris: Seuil, 1982, p. 59.
[Закрыть]. Фотограмма фотографического служит для того, чтобы отделить фотографию от аналогии, так же как фотограмма фильмического утверждала, что «“движение”, которое делают сущностью фильма, вовсе не является анимацией, потоком, подвижностью, “жизнью”, копией»[300]300
Ibid., p. 59–60.
[Закрыть]. Онтологическая, эссенциалистская мысль использует фотограмму для определения фотографического, как и фильмического, тогда как ее функционирование в деятельности художников периода между двумя войнами было иным.
В-четвертых, теория индекса ведет к техницистской редукции фотографии, обращая пристальное внимание на технические средства, рассматривая на микроскопическом уровне мельчайшие подробности чувственно воспринимаемой поверхности. Фотографическое изображение, удаленное от макроскопической сферы социальных функций, экономических вопросов, культурных кодов и эстетики, сводится к «своему самому элементарному уровню»[301]301
Dubois Ph., L’Acte photographique, p. 58, 100.
[Закрыть], к своему плоско техническому и материальному «минимальному определению», к уровню изображения, которое «представляет собой прежде всего просто и только световой отпечаток, точнее, след, фиксированный на двухмерном носителе с помощью чувствительности кристаллов галоидных соединений серебра, и т. д.». Кроме того, кристаллы чувствительной поверхности обеспечивают «окончательное и минимальное единство фотографии», а также создают очарование этого изображения, что «передает сообщение о той телесной бесформенности, какую являют собой песчинки снимков на неопределенных отмелях репрезентации». Такого рода близорукость, удерживающая анализ на уровне носителя и элементарных составляющих изображения, необходима для онтологической позиции, которая ищет само существо фотографии, ее предполагаемую сущность в функционировании технических средств, взятом как вещь в себе. Пристрастие к технике, материальности и элементарному функционированию изображения является для онтологии способом отрицания сингулярных практик и изображений, конкретных обстоятельств и условий – в конечном счете способом сведения «единой» фотографии к стабильной категории с естественными и универсальными закономерностями. Идет ли речь о фотографии моды, рекламы, прессы или о семейном снимке, помещена ли она на странице газеты или в семейном альбоме, на стене виллы или в музее, неважно, – ее сущностные законы все равно одни и те же. Это законы одинокой машины, нечувствительной к истории, контексту, узусу. Напротив, возобновление связей с множественностью практик, изображений и произведений, восстановление их исторической, социальной и эстетической плотности ведет к утверждению, что «единая» фотография «может быть объяснена только через закон своего движения, а не через инварианты»[302]302
Adorno, Theodor W., Théorie esthétique. Paris: Klincksieck, 1995, p. 11.
[Закрыть] (Теодор Адорно). Такой подход состоит в том, чтобы не отделять анализ техники и носителей от конкретного изучения фотографического поля и его трансформаций. Например, какие механизмы (социальные), какие условия (экономические), какие обстоятельства (культурные) и какие ситуации (институциональные) приводят сегодня к утверждению фотографии в современном искусстве, откуда еще вчера она была радикально исключена? Чем фотография, сделанная «на руинах музея»[303]303
Crimp, Douglas, On the Museum’s Ruins (with photographs by Louise Lawler). London, Cambridge: MIT Press, 1993.
[Закрыть], отличается от фотографического искусства? Как эволюционируют отношения между документальными, художественными и любительскими практиками? Когда и как художественная ценность снимка стала главенствовать над экономической ценностью, которая измеряется временем работы, единицами поверхности и стоимостью затраченных материалов? Эти и еще многие другие вопросы онтология отбрасывает, чтобы заменить их одним-единственным вопросом о существе «единой» фотографии, сведенном к единственному, самому элементарному критерию – техническому.
Этот онтологический поиск сущности «единой» фотографии приводит к пятой редукции – редукции фотографического времени к мгновению съемки, к «моменту “естественной” записи мира на чувствительной поверхности, моменту автоматического переноса видимостей»[304]304
Dubois Ph., L’Acte photographique, p. 83.
[Закрыть]. Конечно, Филипп Дюбуа признает, что фотографическое время распространяется и в прошлое, и в будущее за пределы этого «простого момента (пусть и центрального)». Но это различение «до» (времени поиска кадра) и «после» (времени изображения), расположенных по обе стороны «центрального» момента схватывания, делается только для того, чтобы подчеркнуть предположительно решающую роль самого момента съемки и обосновать идею, что фотографическое изображение представляет собой плод временного разрыва, то есть настоящее разъединение с культурой. Действительно, эссенциалисты считают схватывание перерывом, «естественным» провалом внутри констелляции «до» и «после» – вполне культурных, человеческих и социальных жестов, решений, процессов. Иначе говоря, схватывание является «моментом забвения кодов»[305]305
Dubois Ph., L’Acte photographique, p. 84.
[Закрыть] внутри фотографического времени, которое при этом признается проницаемым для плотной сети кодов. К счастью, в спорное утверждение Барта, тридцатью годами раньше рассматривавшего фотографию как «сообщение без кода»[306]306
Barthes, Roland, «Rhétorique de l’image» (1964), in: Barthes R. L’Obvie et l’obtus, p. 34.
[Закрыть], Дюбуа вносит свои нюансы, но он не ставит под сомнение эту проблематику в целом. «Момент естественной записи» и «момент забвения кодов» сильно перекликаются с «сообщением без кода» и «это было» Барта, равно как и с «решающим моментом» Картье-Брессона. Эти понятия, возвращающие к старой оппозиции природы и культуры, рассматривают фотографические акты как точки вторжения природы в, как предполагается, гетерогенное поле культуры. Ранее фотография была сведена к поверхности и частицам серебра, теперь она сводится к моменту материального и «автоматического» контакта света и чувствительной поверхности. Техника и материал снова вытесняют все другие детерминации и поддерживают иллюзию «“автоматического происхождения”, на котором основан статус фотографии как отпечатка»[307]307
Dubois Ph., L’Acte photographique, p. 83.
[Закрыть].
На самом деле фотография в ее становлении и бесконечных вариациях ускользает от теории индекса потому, что эта теория ограничивает фотографию категориями семиотики, пусть и в традиции Пирса, и потому, что эссенциализм не может избежать главных методологических подводных камней лингвистики. Теория индекса по отношению к фотографии пользуется тем методом, какой лингвистика применяет к языку, скрыто постулируя, что «существует абстрактная машина языка, которая не отсылает ни к каким внешним факторам»[308]308
Deleuze G., Guattari F., «Postulats de la linguistique», in: Deleuze G., Guattari F., Mille plateaux, p. 109.
[Закрыть] (Жиль Делез и Феликс Гваттари). Так проект теории индекса приводит к описанию функционирования фотографии как одинокой машины и к разрушению ее сущностных принципов. Совершая это, теория сводит множественность вариаций к плоской функциональной и материальной абстрактной схеме. В самом деле, если бесспорно, что фотография функционирует не так, как рисунок, если чрезвычайно важно описать теоретические последствия перехода от рукотворного изображения к химически зарегистрированному, то уже более спорно сведение фотографии к серии бинарных оппозиций (процесс или изображения, автоматическое происхождение или ручное производство, индекс или икона, отпечаток или сходство, химия или оптика, природа или культура и т. д.) и извлечение из этой серии «фотографического», с сохранением только первых элементов этих пар. Кроме того, этот редукционистский и искажающий подход постулирует существование констант или универсалий фотографии, которые позволяют описать ее как однородную систему[309]309
Ibid., p. 116.
[Закрыть]. Таким образом, теория индекса верит в существование структурных инвариантов «единой» фотографии и ищет их в материале и элементарных техниках процесса. Так материал и техника становятся аргументами в пользу позиции, соединяющей эссенциализм с онтологическим рассмотрением и перепевами прагматизма, – если учесть, что прагматика Пирса была задумана как решительно антиметафизическая, забавно, что такое объединение вообще возможно.
Фотографию не только сводят к физическому отпечатку реального объекта, оказавшегося в определенном месте в определенный момент времени. Некоторые даже без колебаний смешивают изображение с вещью. Возможно, Барт был более всех верен концепции, согласно которой «то или иное фото никогда не отличается от своего референта (от того, что оно представляет)». В «Camera lucida» он непрестанно варьирует очевидную, но ошибочную мысль, что «природа фотографии (для удобства следует принять эту универсалию, в каждый момент отсылающую только к неустанному повторению того, что с ней смежно) обладает некоторой тавтологичностью: трубка на ней – это всегда безоговорочно трубка». Можно сказать, настаивает он, что «фотография всегда носит свой референт с собой». Словом, заключает он, «референт соприкасается»[310]310
Barthes R., La Chambre claire, p. 16–18.
[Закрыть] с ней. Барт написал это в 1980 году, в момент, когда появлялись произведения, явно противоречившие этим постулатам. Он видит в фотографии кальку, а не карту, но прежде всего, считая референтом только материальное и соединяя изображение с его референтом, он ограничивается миром конкретных вещей и сводит реальность к регистрируемым данным.
Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?