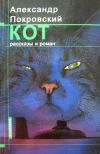Текст книги "Кабы не радуга"

Автор книги: Борис Херсонский
Жанр: Зарубежные стихи, Зарубежная литература
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 6 (всего у книги 15 страниц) [доступный отрывок для чтения: 4 страниц]
«Перекати-поле – были бы ветер и степь. Вот…»
Перекати-поле – были бы ветер и степь. Вот
и вся отчизна, плюс в небе Чумацкий Шлях.
Мужики с утра на барское поле перегоняют скот,
и скот щиплет пшеничку. А что еще делать
на барских полях?
Тем более, барин в столице, оканчивает университет,
в церковь ни ногой – ни на Пасху, ни на Рождество.
На могиле у стариков не был несколько лет.
Навряд ли когда-нибудь черт сюда принесет его.
Перехожие странники псальму поют. Пыль из-под ног.
Взлетают кузнечики, ящерки греются, оглядываясь
по сторонам,
потом разбегаются в стороны – видно, чуют подвох.
Мы любим степь. А что еще делать нам?
Были бы горы – любили бы горы или морской простор,
были бы скалы – любили бы скалы, что может быть
лучше скал?
Вот скрутят тебя, разбойник, попадешь под топор,
тогда и увидишь отчизну, которую век искал.
«Предложили на выбор: потоп или красный петух?..»
Предложили на выбор: потоп или красный петух?
Выбрал красного петуха. Горел пожар, да потух.
Потом выбрал потоп, но ушла вода, пересохла река.
Хотел удавиться, но убоялся греха.
Пошел по дороге, зажег свечу. Воск со свечи
обжигает руку. Свеча не гаснет, горит в ночи.
Вот и райски врата, что есть силы стучи.
Слышишь, старик за оградой кряхтит, достает ключи.
«как у нашей у горгоны…»
как у нашей у горгоны
змеевидны волоса
змеевидны волоса
вот какие чудеса
а у нас златы погоны
и глаза как небеса
голубые небеса
извиваются змеюки
где гадюки где гюрза
где гадюки где гюрза
каменеют наши руки
наши ясные глаза
наши ясные глаза
словно камень бирюза
а пошли-ка ты рассея
многомудрого персея
многомудрого персея
что со зеркалом-щитом
что со зеркалом-щитом
в дивном шлеме золотом
ставит воин достохвальный
пред горгоной щит зеркальный
чтобы было ей видней
чтобы было ей видней
мол сама и каменей
мол сама и каменей
если так тебе охота
и отважная пехота
каменеет вместе с ней
подъезжая под ижоры
мы твои воспомним взоры
и клубок шипящих змей
расчеши-ка их сумей
каменеет вся природа
даже люди из народа
каменеет и персей
вместе с армиею всей
все теперь окаменелость
наши шалости и смелость
а когда-то славно пелось
как штыком вперед идешь
и веселой смерти ждешь
«Мама, пойдем смотреть панораму – ту, которая про войну…»
Мама, пойдем смотреть панораму – ту, которая про войну.
Круглое здание, в нем – сражение в натуральную величину.
Что ближе – больше, со спичечный коробок то, что вдали.
Артиллеристы у пушки. Офицер командует: «Пли!»
Слева – пехота, справа строят редут.
Прямо – наши ихних пленных ведут.
Крутят запись – гром канонады, ржание лошадей.
Мальчику скоро восемь. В голове его много идей,
например, как совершить революцию раньше
на сто пять лет,
на Бородинском поле среди золотых эполет,
в кармане у мальчика новый игрушечный пистолет.
Мальчик занят, он еще не знает, кто он —
товарищ Кутузов или Наполеон.
Хороша треуголка и руки, скрещенные на груди,
но впереди Ватерлоо, Святая Елена, вся смерть впереди,
а товарищ Кутузов наш, но одноглаз и толст.
Небо сражения – декорация: масло, холст.
Нарисованный ворон, над трупами не кружи:
они, как и ты, обман, декорация, муляжи.
Мальчик стоит, улыбаясь, среди нарисованной лжи.
Мама, скажи, ведь недаром? Мама, скажи.
«Вот те Бог, а вот те порог…»
Вот те Бог, а вот те порог.
За порогом – лиловый чертополох.
За оградой темнеет пруд.
Чуть дальше река – берег полог,
а второй, как положено, крут.
Вот те речка, а вот те мост,
на другом берегу – погост,
часовенка, ржавая жесть
на кровле и куполе. Вот те крест,
казалось бы, тесно, а хватит мест,
и кому помирать – еще есть.
Хоть всего населения с гулькин нос.
Молодую кровь в город черт унес,
а старая все еще здесь —
в узловатых венах отечных кистей.
Здесь костров не жгут и не ждут гостей.
Жаль, что мир не кончился весь.
«Пока кто-то знает толк в письменности Шумера…»
Пока кто-то знает толк в письменности Шумера
и во тьме понимает клинопись подушечками пальцев,
пока кто-то помнит, как, заливая землю, вода шумела,
пока кто-то читает детям о Гильгамеше – первом
среди скитальцев,
пока кто-то еще вспоминает, как боги терзали друг друга
и создавали мир из кровавых ошметков плоти и сгустков,
пока кто-то ходит в подземных залах музеев в часы досуга
и отличает орнаменты на сосудах этрусков,
пока в средних школах проходят историю Древнего мира
и зачитан до дыр учебник, переданный дедом внуку,
пока, засыпая, хоть кто-то твердит слова вавилонского мифа
и крылатый бык с человечьим лицом простирает
над миром руку,
пока кто-то знает, что в начале было страданье
и главный закон вселенной – сносить униженье послушно,
пока кто-то знает, что книга лежит в основании
мирозданья, —
и жить не страшно, и умирать не скучно.
«Как он изменился! Видать, что-то сдохло в лесу…»
Как он изменился! Видать, что-то сдохло в лесу,
что-то облезлое, рыжее, с бельмами на глазах,
тяжелый хвост едва удерживающее на весу,
короче, то, что обычно подыхает в местных лесах.
А леса у нас частью повырублены, но все-таки есть чуток.
Синеют над речкой (вот-вот пересохнет, а все жива).
Как он был молод, часто бывал жесток,
а теперь смотрит телик да под нос бормочет слова.
Даже летом ходит в фуражке и старом сером пальто.
Говорит старуха: порадуюсь, как тебя на погост снесу!
А он все бормочет и всхлипывает, оплакивая то,
что когтило, кусалось, но вот – подохло в лесу.
«„Двенадцать апостолов“ – название не храма, но кабака…»
«Двенадцать апостолов» – название не храма, но кабака.
Глубокий подвал, у входа Петр – обломанная рука.
Часы. Написано «подлинник, семнадцатый век».
Апостолы ходят по кругу, звенят колокольчики, как у калек,
верней, прокаженных: близко не подходи.
Пей пиво, ешь венский шницель размером с тарелку,
тихо сиди.
Витринка, в ней «Тайная вечеря», надпись румынская.
Как занесло
этот образ в столицу Австрии? Видать, ремесло
солдата – воюй, хватай и тащи в нору.
Апостолы лишние на этом подвальном пиру.
Вот один говорит, что кто ест и пьет не рассуждая, тот
в осуждение ходит, дышит, объедается, пьет;
что лучше принять наказание самому, чем суд
вместе со всей Вселенной; что всякий труд
напрасен; что спасает любовь одна.
Официант несет салат и кувшин вина.
«Здесь стоял дом раввина – руины глубоко под землей…»
Здесь стоял дом раввина – руины глубоко под землей,
остатки фундамента синагоги обнаружены невдалеке.
Средневековье не пощадило ни людей, ни строений: не стой
под грузом Истории, всегда держащей в руке
бомбу, копье, окровавленный нож, на худой конец.
Кто слишком хорош для мира – тот не жилец.
И тот, кто плох, – не жилец, и пришедшийся ко двору —
не жилец, ни в прежние, ни в нынешние, быстротекущие дни.
Только успел оглядеться – проваливаешься в дыру,
в объятья холодные давно истлевшей родни.
То-то радости в преисподней – прибавленье в полку, нет,
скорей
в легионе скованных холодом. Попробуй всех отогрей!
Что до церкви – она уцелела. Готика. Там резной
алтарь, раскрашенные Христос, Себастьян, Варфоломей.
И еврейская, и христианская Пасха бывает только весной.
Пробужденье природы, знаете ли, зелени, ящериц, змей,
медведей и прочих тварей. Господь говорит: "Внемли!
Услышишь два хора – с небес и из-под земли".
«Что есть исповедь, как не попытка оставить прошлое…»
Что есть исповедь, как не попытка оставить прошлое
в прошлом?
Так сбрасывают рюкзак или пепел стряхивают с папиросы.
И что толку нам в исповеднике – въедливом, дошлом,
без конца задающем уточняющие вопросы?
Что есть истина, как не странное утвержденье,
с которым только ленивый соглашался с первого слова?
Что есть вечный сон и вечное пробужденье,
как не страх рыбака, вернувшегося без улова,
например, Петра, везущего в лодке пустые сети,
ждущего повелений, куда их бросить – направо
или налево?
Но это почти все равно, ибо он остался один на свете,
а тьма всегда голодна, сколько рыб ни бросай ей в чрево —
мелких ли, крупных, глубинных, с плавниками вроде
ладоней,
светящимися отростками, торчащими откуда попало,
но бессильными осветить то, что темней и бездонней,
чем древний хаос, ворочающийся устало.
«В Нью-Йорк плывет корабль, в железном корабле…»
В Нью-Йорк плывет корабль, в железном корабле
едва живых евреев полный трюм.
А в Нью-Йорке в кабачке играет Нафтуле —
веселая мелодия, а музыкант угрюм.
За спиной океан – волна за волной.
За спиной Европа – война за войной.
Внутри кита – Иона, внутри ковчега – Ной.
За спиною худший мир – впереди иной.
Нафтуле играет – замечательный кларнет!
С такою музычкой, в таком пиджаке!
Говорят, что на Земле несколько планет.
На одной стоит Свобода с факелом в руке.
За спиной кладбища заросли травой.
В корабле двигатель надежный, паровой.
Огромная Свобода кивает головой:
радуйся, Хаим, похлебке даровой.
Нафтуле играет – перед собой глядит,
клейзмер без бороды – как без головы.
Парень, где твой лапсердак, где кисти-цицит?
Там, где талес и кипа – ах и увы.
За спиной океан – а ты вперед смотри.
Вместо старой жизни будет новых две.
А Свобода пуста, там есть лесенка внутри.
Поднимись и постой у нее на голове.
«Ряженые скачут по селу…»
Ряженые скачут по селу,
блеют козлами на зависть козлу,
в кожу лица втирают золу,
мучают гармошку, дудят в дуду,
с раскаленной звездой шатаются гурьбой,
шиворот-навыворот овчинный тулуп,
гусями гогочут, зовут меня с собой,
только я никуда с ними не пойду,
потому что я не глуп, называюсь – труп.
В нетопленой церквушке тихонечко лежу,
глазом не моргну, слова не скажу,
сквозь купол гляжу на звездный небосвод,
где там их хваленый вечный живот?
«А здеся!» – говорит святой Мыколай.
А в селе бесовский гогот да собачий лай.
«А тута!» – Катька-мученица манит рукой,
красавица, во всем селе не сыщешь такой.
"Скорей ко мне! – кричит, руками машет Спас. —
Разленился, залежался ты в поздний час!"
Ряженые блеют на зависть козлу,
морде бесовской, человечьему числу,
тому, что шестьсот шестьдесят шесть.
Ох, взлетел бы я на небо, да дело есть.
Все село обойду, ни одной избы
не забуду, приснопамятный Господень холоп.
всех их поцелую в горячие лбы,
как они меня – в мой холодный лоб.
«Странно, еще случается холодный утренний свет…»
Странно, еще случается холодный утренний свет,
река, соловьи, прибрежные заросли, мелкие острова.
Рыбацкая лодка привязана, поскольку запрет
на рыбную ловлю действует. Но рыба права,
что ведет себя осторожно, подводно, нет-нет
и подпрыгнет, и снова с плеском уйдет в глубину,
и будет безмолвно лежать, прижавшись брюхом ко дну.
Понемногу солнце пробивается сквозь облачный слой.
Ветерок проточный в кронах дерев поднимает шум.
По двору проснувшийся сторож скребет метлой.
Из конуры выдвигает морду старый пес-тугодум.
Тусклый день как будто присыпан золой.
Потому что огонь мироздания остыл, хоть пока
не чувствует этого теплая человеческая рука.
«Вот какая беда случилась со всеми нами…»
Вот какая беда случилась со всеми нами:
перепутали наши всадники уздечки со стременами,
лошадь – с козлом, шашку – с трубою ржавой,
страну родную – с враждебной сопредельной державой.
И скачут на грязных тварях по чистому полю,
пустив свои души на ветер, отдав на чертову волю,
держатся за хвосты, друг друга кроют безбожно.
А нам без конницы жить никак невозможно.
Сиротеет маршал, покрытый плесенью и орденами.
Вот какая беда случилась со всеми нами.
Потому что мы измельчавший мирный народец,
нету у нас полка, не нужен нам полководец.
А случалось раньше, что и мы воевали,
и шли машины, сверкая – как это? – блеском стали.
А если образовалась какая прореха в войске,
значит, хоть даром жили, зато погибли геройски.
А теперь даже реки течение прекратили,
а озера сплошь затянуло ряскою, или
пересохли они, превратились в болота,
чтобы в них увязла наша больная пехота.
Каково нам без конницы, без боевых лошадок,
шелковиста грива, а круп выпуклый гладок,
хвост полощется по ветру, казак замахнулся нагайкой,
зэк подавился от жадности хлебной пайкой.
Да и мы разошлись – куда посылали, туда, далече,
куда Макар не гонял отар, накинув бурку на плечи,
а конники наши козлов оседлали, и нет с ними сладу.
И ныне скачут – и будут скакать до упаду.
«Видно, баре наши были в любви не слабы…»
Видно, баре наши были в любви не слабы:
перетрахали все село, что бычки – стадо коровье.
А барская кровь в жилах у мужика или бабы —
словно порча. Все мы испорчены барской кровью.
Все мы заряжены барской придурью, спесью,
бабу не выгонишь в поле, мужика – в лес за дровами.
Меж собой изъясняются неслыханной смесью
из французского, аглицкого – нет чтоб простыми словами.
А живут все как холопы, даром что не при барах,
даром что спины выпрямлены, как аршин проглотили.
Даром что на балалайках играют, как на гитарах, —
всюду грязь, запустение, запах гнили.
То ли мы изнутри гнием, то ли все снаружи —
разница невелика, при жизни – как на том свете.
На площади летом не просыхают лужи.
Летом грустим о зиме, зимою, понятно, о лете.
У кого член короток, тот мечтает о длинном.
У кого баба худая, тот мечтает о пышке.
Эта грусть и мечтательность у бар называется сплином.
Все село обтянуто проволокой, а конвойный стоит на вышке.
И собаки сторожевые спать не дают детишкам:
то лают, то воют, хоть их о том не просили.
Чтобы смирно сидели, гордились не слишком,
чтобы барскую спесь по округе не разносили.
«Худшее что может сделать с нами чужая злоба…»
Худшее что может сделать с нами чужая злоба —
вселиться в нас, угнездиться внутри.
Ожесточая нас, торжествуют враги.
Бодрствуй, душа, молись, вглубь себя смотри,
гляди, как говорится, в оба.
Господи, помоги.
«Слушай приказ: к ноге! на плечо! от-ставить…»
Слушай приказ: к ноге! на плечо! от-ставить!
унизить! возвысить! с грязью смешать! прославить!
посадить на престол! Посмотрим, как будет править.
Даст ли права и мышцы женскому полу?
Истребит ли снаружи врага, изнутри – крамолу,
велит ли ходить нагими, но очи долу?
Хорош собой – лицо утконоса, глаза удава,
что ни слово – подвох, что ни дело – подстава.
Что ни смертный грех – то бессмертная слава.
Что ни город – тюрьма, кладбищенская ограда,
жмется к ограде старушка, рядом стоит громада
собора о трех головах, больше не надо.
Между тюрьмой и кладбищем желто-красный трамвайчик,
в трамвайчике тетка, у нее на коленях мальчик,
в руках у мальца железный барабанящий зайчик.
Бей, барабан, трамвай, греми, может, все обойдется,
может быть, мальчику умирать не придется.
Эта болезнь – не к смерти. Может, найдется лекарство.
Лютая казнь, вечная жизнь, Божие царство.
«Старики не мрут, дети не растут…»
Старики не мрут, дети не растут,
а парней и девок сроду не водилось тут.
Детки выползают из норы под холмом.
А живут тут бедно, скудно, с умом.
Лес не рубят, не корчуют, вот и тянется ввысь —
солнца не видать, тоска, хоть удавись.
Развелось волков и медведей – страх.
Воют псы голодные на дальних дворах.
И у нас к спине брюхо приросло,
маковой росинки не положишь в рот.
А село у нас красивое, хорошее село.
Правда, жизни нет, зато и смерть не берет.
«Государство бывает царством, чаще некоторым, оно…»
Государство бывает царством, чаще некоторым, оно
располагается за горами-морями-полями, а там
царствует царь, в клубе крутят кино,
собирают металлолом, режут горло скотам,
домашней птице, друг другу, вертит веретено
старуха на чердаке, хоть это запрещено,
трогают стыдное, предаваясь грешным мечтам.
В ожидании каши-малаши ложкой об стол стучат,
играют в «наши – не наши», выгуливают внучат,
огурцы пересолены, плоды земные горчат.
Принцесса взбегает по узкой лесенке на чердак,
ранит пальчик веретеном, погружается в сон вековой.
В семь вечера по ТВ матч «Динамо» – «Спартак».
Черно-белый мяч летает над стриженой серой травой.
«В детстве на площади, где я жил, часто снимали кино…»
В детстве на площади, где я жил, часто снимали кино.
Горели софиты, слепя среди бела дня.
Проезжали кареты. Умершие давно
люди ходили под окнами, восхищая-пугая меня.
Я подглядывал в щелку между сдвинутых штор.
Полагалось завешивать окна, как во время последней войны,
по сигналу воздушной тревоги. Фашист курил «Беломор».
Или пил шипучку с горла, подтягивая штаны.
Хлопушка щелкала – напоминала она
микрошлагбаум, оператор наставлял аппарат,
что твой пулемет. Я столбом стоял у окна,
как суслик возле норы. Повторялся стократ
дубль за дублем один эпизод – то актер
зазевался, то оператор выбрал угол не тот.
Выход в город мне воспрещен. Можно выйти во двор
и, пока не прогонят, постоять у ворот.
И может случиться так: ты случайно в кадр попадешь,
мальчишка пятидесятых – в события сороковых.
И тебя не вырежут, как инородное тело. Мелкая ложь —
смешенье эпох, мельтешенье живых,
выдающих себя за тех, кто ранен или убит,
но вот возвратился – бесплатный живой киносеанс!
И восхищенный мальчик в проеме ворот стоит
и во все глаза глядит, впадая в спиритический транс.
Поселок Таирова
Постсоветский гном живет в постсоветской норе
у заброшенного аэродрома, с сусликами наравне.
Разваливающиеся истребители выстроились в каре.
Умрут в строю, думает гном, – вот так бы и мне!
У него под землею комнатка, кухня, баллонный газ,
по инерции радиоточка передает «Маяк»:
«Речка движется и не движется…» Треснувший унитаз.
Вода по капле течет. Нужно менять стояк.
Живя под землей, лучше быть слепым, как соседний крот.
Смотреть там не на что. Выбираться наружу – лень.
И все же он выбирается. Скалит беззубый рот.
Приморская степь. Жаркий июньский день.
Самолеты – то хвост отвалится, то фюзеляж,
то одно крыло, то другое. Не переносят жару.
Мимо идут девицы в шортах. Вероятно, на пляж.
Ноги такие – хоть прячься обратно в нору.
«Если бы всегда было, как вначале…»
Если бы всегда было, как вначале:
белые кораблики, танцы на причале.
Море качает, как мамы качали.
Мамы качали, и дети заснули,
спали, не слышали, как свистели пули.
Не видали, как в порту корабли горели.
Не видали, потому что спали, не смотрели.
И на что тут смотреть? Зарево багрово.
Ходят люди в рванье, лишенные крова.
За краюху бы убил, в карман бы залез, но
пуст карман, воровать нынче бесполезно.
Убивать – ни к чему, умирают сами.
А тут вам и ангел со своими весами:
зло – на левой чаше, а добро – на правой.
Подходи по одному, а не всей оравой.
Если бы всегда было, как вначале:
белые кораблики, танцы на причале.
Море качает, как мамы качали.
Красно-желтый вагон ползет вверх по склону.
Братики-солдатики строятся в колонну.
«Лучший способ захвата земли – это разлечься в ней…»
Лучший способ захвата земли – это разлечься в ней,
превратиться в нее, звать легко и просто своей,
как писала Ахматова. Это – захват изнутри,
он надежней и окончательней, что там ни говори.
Лучший способ присвоить чужую звезду – это спеть ей: гори,
гори, моя звездочка, и над могилой, умру ли я…
Лучший способ достичь бессмертия – всюду развесить
календари,
а листочков не отрывать, покуда стоит у руля
одинокая партия – кормчий и рулевой,
или апостол Петр, распятый вниз головой.
В общем, есть много рецептов вечности, больше, чем блюд
в кулинарной книге конца голодных сороковых.
Самолет летит в облаках. По пустыне идет верблюд.
Не хлебом жив человек, а словом – без закавык,
без подвоха, без подлости, без конфликтов языковых.
Но и хлеб сгодится при случае – каравай, каравай,
вот такой вышины-ужины, шире нашей страны,
полнее полной бутылки – открывай, разливай.
Жаль, что китайцы желты, а африканцы черны.
Потому что у нас зимой все белым-бело.
Буря мглою кроет, снежинки летят на стекло.
Дуб стоит одиноко, бедняжка, как рекрут стоит на посту.
Смены нет ему и видать его за версту.
«Медведевы, Волковы, Котовы – у каждого свой тотем…»
Медведевы, Волковы, Котовы – у каждого свой тотем.
Тень звериных предков лежит на нас, но вместе с тем,
приглядевшись, в наших лицах увидишь ты
не звериные, а людские, худшие наши черты.
Что плохого в волке с шерстью на холке, с клыками во рту?
Товарищ Котов порой завидует обшарпанному коту:
сколько стройных кошечек – и никаких проблем…
Человек обычно скучнее и тревожнее, чем тотем.
Лучше бы Кашалотов, из спины пуская фонтан,
фыркая и отплевываясь, пересекал океан.
Лучше бы Волков резал Баранова одним ударом клыка.
Одним Барановым меньше – потеря невелика.
Главное – не попадаться охотнику и стрелку.
Волков и Волкодавов служат в одном полку.
Котов и Мышкин проживают в одной норе
и спокойно друг с другом прогуливаются во дворе.
Зверь не знает смерти. Он не умер, а околел.
Жаль, что звериного имени Бог для меня пожалел.
«Старик и борода у него на лице…»
Старик и борода у него на лице.
Старик и расчесанный пес у него на руках.
Кольцо на пальце и крупный камень в кольце.
Господи, что-то есть в таких стариках.
Что-то есть в густых, закрученных кверху усах,
что-то есть в длинношерстых, ухоженных псах,
в резных подлокотниках кресла, в отглаженном сюртуке,
в этом перстне с камнем – цена ему велика,
в довоенном времени – три войны впереди, все у Бога
в руке,
кроме вот этого кресла, этого пса, этого старика.
«Вспышка за вспышкой, гром покрывает гром…»
Вспышка за вспышкой, гром покрывает гром.
Нужно успеть стулья в дом занести.
Или эта гроза нас унесет со всем убогим добром,
драгоценным скарбом жизни, которую не спасти.
Странно, я был ребенком, а гром меня не пугал.
Я считал секунды от вспышки до грома – звук медлит
всегда.
Мне рано было бояться – я был еще слишком мал.
Багровый отсвет бросает на дачный сад облаков гряда.
Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?