Текст книги "Конец старинной музыки. История музыки, написанная исполнителем-аутентистом для XXI века"
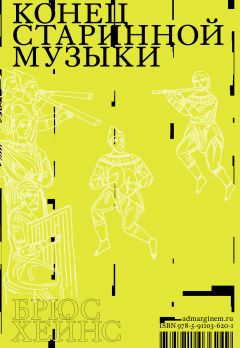
Автор книги: Брюс Хейнс
Жанр: Биографии и Мемуары, Публицистика
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 16 (всего у книги 21 страниц)
Таким образом, слово «аффект» подразумевает взаимодействие между исполнителем и слушателем; аффекты влияют на нас. Меллерс пишет: «…индейские, африканские или эскимосские шаманы никогда не спрашивают, „хороши“ ли сами по себе песни, которые они поют, гораздо важнее, насколько они действенны – полезны ли они?» [611]611
Mellers 1992:922.
[Закрыть]
Вновь процитируем Бартеля: «…многочисленные очевидцы свидетельствуют о силе и огромном влиянии <…> композиций, пробуждающих аффекты, которые в одночасье исторгали у публики слезы и рыдания» [612]612
Bartel 1997:34.
[Закрыть]. Описание Бёрни концерта, который он посетил в 1772 году, передает его интимность и спонтанность, как на джазовом концерте:
Все, присутствовавшие на концерте, найдя внимательное общество, склонное получить удовольствие, были возбуждены до той точки неподдельного энтузиазма, когда внутренний огонь передается другим и воспламеняет всё вокруг; и соревнование между исполнителями и слушателями состояло лишь в том, кто из них доставит больше удовольствия или кто громче сможет аплодировать! [613]613
Burney 1773:294 (Бёрни 1967:117).
[Закрыть]
То, что риторическая музыка должна быть, как полагает Леонхардт, «пожалуй, более экспрессивной, чем романтическая музыка» [614]614
Sherman 1997:197.
[Закрыть], кого-то удивит. Однако музыка Глюка во время его премьер в Париже в 1774 году [615]615
Речь идет о парижских премьерах опер Глюка «Ифигения в Авлиде» и «Орфей и Эвридика», которые состоялись в Королевской академии музыки соответственно в апреле и августе 1774 года. – Примеч. ред.
[Закрыть] заставила публику громко и неподдельно плакать [616]616
Johnson 1995:60.
[Закрыть].
Нойбауэр, кажется, не подозревает о таких исторических свидетельствах. Он не допускает, что музыка XVII века предназначалась и для того, чтобы «„проникать в души“ слушателей и пробуждать у них нужные чувства», поскольку используемые аффекты были слишком ординарны. Любопытно, что Томас Мор в 1516 году употребил именно это слово, когда писал о мелодии, которая «изумительным образом волнует, проникает, зажигает сердца слушателей» [617]617
См.: Мор Т. Утопия / пер. А. Малеина и Ф. Петровского. М.: Изд-во АН СССР, 1953. С. 214.
[Закрыть].
Итак, модернизм в определенном смысле есть полная противоположность риторике. Если риторическое музыкальное исполнение могло исторгать искренние и нескрываемые рыдания, то современный концерт способен породить лишь чопорные комментарии типа «[Его прочтение] вполне взвешенно, превосходно составлено, обстоятельно и очень хорошо изложено, но в нем нет того пыла, что воспламеняет слушателя» [618]618
Ричард Олдрич об игре Иосифа Левина в 1908 году; цит. по: Hill 1994:49.
[Закрыть]. Большинство из нас, вероятно, бывали на концертах, атмосферу которых можно определить как «непорочную скуку <…> возведенную в высшую добродетель» [619]619
Bekker 1922:297 ff.; цит. по: Hill 1994:58.
[Закрыть]. Убеждение однозначно не входит в повестку дня модерна.
Декламация/Экспрессия/Vortrag
Красноречие, способное взять слушателя за шиворот, еще живо. В среде политиков и адвокатов оно, возможно, стало своей бледной тенью, но к его силе и выразительности до сих пор прибегают проповедники Южной баптистской конвенции в США. Образец, известный многим американцам, – речь «У меня есть мечта» преподобного Мартина Лютера Кинга-младшего, воздействие которой, благодаря его чувству времени, дрожи в голосе и энергии, значительно сильнее, нежели слова, из которых она состоит.
Если вам довелось слышать, как Арета Франклин поет госпелы «Oh, happy days» или «Amazing Grace», значит, вы слышали отголоски легендарных проповедей ее отца, от которых, как написал один из очевидцев, «до сих пор волосы встают дыбом». Вот фрагмент проповеди преподобного К. Л. Франклина, записанной в 1955 году:
57 ▶ Преподобный К. Л. Франклин. Проповедь «Pressing on». 1955
О том, насколько далеко мы ушли от ораторской декламации как исполнительской модели, свидетельствует слово «разглагольствование» («harangue»), которое в наши дни имеет явно негативный оттенок. Однако в старые времена оно было синонимом красноречия и до сих пор сохраняет этот статус в английских словарях. Марен Мерсенн в 1636 году употребляет слово «harangues», описывая музыку как ораторское искусство, а в 1738 году Луиджи Риккобони в своих «Размышлениях о декламации» использует слово «harangue» наравне с «красноречием». Если вы музыкант, представляете ли вы, что разглагольствуете перед толпой? (Разглагольствовать, похоже, можно только перед толпой, но не перед публикой.)
Собственно, «красноречие» когда-то имело более положительный характер, и оно по-прежнему напоминает о своей изначальной яркости и целеустремленности. Стиль, который мы охотно переняли за последние пару поколений, противоположен красноречию; он максимально приземлен и повседневен. Кристофер Смолл говорит, что «музыканта, жестикулирующего слишком энергично, в сегодняшнем чопорном концертном мире примут скорее за шарлатана» [621]621
Small 1998:120.
[Закрыть]. Декламация же, напротив, это подчеркнуто выразительная речь, с утрированно четкой дикцией. Бенинь де Басийи писал, что «обыденный язык и язык вокальной музыки – совершенно разные вещи» [622]622
Bacilly 1668:253.
[Закрыть]. Барочная декламация – не уличная болтовня; она нарочита в своей ясности, в произношении, в модуляциях возвышаемого и понижаемого голоса, в расстановке пауз, обусловленных пунктуацией и т. д. Разницу можно увидеть на примере британского и американского английского, в последнем меньше пауз и интонационных перепадов. Но каким образом этого достигали при игре на музыкальных инструментах? Декламирующая игра также должна была быть выразительной, с яркой артикуляцией и подчеркнутой точностью; музыкальными эквивалентами декламации могли быть агогика, рубато, паузы, рельеф нот и фраз, динамические нюансы, артикуляция и т. д. Сегодня мы можем это только попытаться вообразить.
Вот пример того, как это могло быть: Чечилия Бартоли показывает нам, какую силу способна нести в себе музыка:
58 ▶ Il Giardino Armonico, Чечилия Бартоли, 1999. Вивальди. «Qual favellar?»
Как и проповедь преподобного Франклина, исполнение Бартоли не основывалось на старой барочной традиции декламации, но оно дает нам представление о мощи, которую она могла иметь в свое время.
Преподнесение (красноречие или произнесение) – это то, что Кванц и Карл Филипп Эмануэль Бах называли Vortrag, предмет, который оба считали достаточно важным, заслуживающим отдельной главы в их книгах [623]623
Quantz 1752: глава 11 (Кванц 2013: глава XI); Bach 1753: глава 3 (Бах 2005: глава 3).
[Закрыть]. В немецком языке значение Vortrag с XVIII века изменилось. Сегодня это просто исполнение, пусть и плохое. Когда-то оно означало нечто захватывающее и убедительное. Во французской версии своей книги Кванц называет Vortrag «la bonne expression» («хорошее исполнение»); по его словам, два наиболее существенных элемента в музыке – «de toucher & de plaire» (волновать и доставлять удовольствие) [624]624
Ibid. (Кванц 2013): Вступление, § 16.
[Закрыть].
Вот еще один пример декламации в старой записи «Кастора и Поллукса» Рамо, одной из самый значительных опер во французской истории. Записанная Арнонкуром в начале 1970-х, это была дерзкая попытка возродить так много утерянных аспектов исполнения. Результат оказался не вполне удовлетворительным: пленительная и незабываемая по красоте музыка, стремящаяся заявить о себе, но пение даже близко не напоминало красноречивый стиль. Давайте сперва послушаем одну из превосходнейших арий «Кастора и Поллукса» «Nature, Amour…». Вот исполнение 1990-х годов, которое довольно хорошо, хотя и предсказуемо, записано Жеромом Корреа с Les Arts Florissants, играющими корректно, но в музыкальном отношении посредственно.
59 ▶ Les Arts Florissants, Корреа, Кристи, 1992. Рамо. Кастор и Поллукс. Акт II, сцены 1 и 2. Ария Поллукса «Nature, Amour» и речитатив Поллукса
Теперь давайте послушаем запись Арнонкура, привлекшего певцов «старой школы», которые, как их коллеги из театра Пале-Рояль, воспроизводят стиль мелодрамы начала XX века, некоторым образом связанный, как я считаю, со старой драматической традицией декламации. Жерар Сузе в партии Поллукса явно придерживается этой стилистической конвенции с широким вибрато, манерным произнесением и непоколебимой тяжеловесностью, как дизельная фура. Вот его «Nature, Amour»:
60 ▶ Concentus Musicus, Сузе, Арнонкур, 1972. Рамо. Кастор и Поллукс. Акт II, сцена 1. Ария Поллукса «Nature, Amour»
Речитатив (II/2) в стиле Сузе и Жанет Сковотти звучит абсурдно и нарочито, и всё-таки, вероятно, у него больше общего с драматическими конвенциями XVIII века, чем у интерпретаций в более поздних записях [625]625
См.: Tucker 2002:30; Chaouche 2001.
[Закрыть].
61 ▶ Concentus Musicus, Souzay, Harnoncourt, 1972. Сузе, Арнонкур, 1972. Рамо. Кастор и Поллукс. Акт II, сцена 2. Речитатив Поллукса
Контраст между двумя записями разительный. В записи Арнонкура ария «Tristes apprêts», пожалуй, самая известная в опере, исполнена Сковотти в манере, напоминающей сольные выступления певиц с розой на груди и рукой на рояле. Запись 1992 года звучит со многими атрибутами популярной музыки (неуместным вибрато, «въездами» в ноты и в равнодушной, отстраненной манере).
Нет уверенности, что исполнительский протокол, основанный на декламации, будет принят в наши дни как в вокальном, так и в инструментальном исполнительстве. Модернистская эстетика смешивает декламацию с романтизмом (иными словами, с тем, что кажется «безвкусицей»). Джуди Тарлинг в своей книге, например, разграничивает то, что именуют «безудержными экспрессивными излияниями», которые, как она пишет, «всегда считались плохим вкусом, и я надеюсь, что сдерживание их в соответствии с хорошим риторическим стилем поспособствует подобающему уровню экспрессии в хорошем вкусе, не подавляя более экстравертного исполнителя». Вкус, конечно, субъективен; граница между плохим и хорошим вкусом у каждого своя [626]626
Лично я считаю некоторых постоянных певцов в различных сериях записей баховских кантат совершенно невыносимыми, в то время как другие (по их признаниям), наоборот, их любят.
[Закрыть]. Тарлинг продолжает: «Заставлять каждую фразу звучать „эпиграммой“ – такое же отступление от риторического стиля, как игра с каменным лицом, и к тому же довольно утомительно для слушателя, которому нужно время от времени освежаться простой бесстрастной музыкальной информацией» [627]627
Tarling 2004:239–240.
[Закрыть]. Это звучит изумительно, как знаменитое «Никакого секса, пожалуйста, мы британцы» [628]628
«No Sex Please, We’re British» – юмористическая пьеса 1971 года и снятый на ее основе фильм 1973 года. – Примеч. ред.
[Закрыть].
Участие: барочный исполнитель – «горит и пылает»
Жан Пуассон, известный актер при Дрезденском дворе, писал в 1717 году: «Все правила Цицерона, Квинтилиана и прославленных современников, размышлявших о декламации, бесполезны, если оратор пренебрегает первым правилом, суть коего – ясно понимать и глубоко чувствовать то, что он произносит, дабы это стало понятным и слушателю» [630]630
Poisson. Reflexions sur l’art de parler en publique. 1717. P. 36; цит. по: Barnett 1987:14.
[Закрыть]. Кванц (тоже служивший при Дрезденском дворе в 1717 году) советовал музыкантам при исполнении адажио настраиваться на спокойный и грустный аффект: «что не идет от сердца, не затронет душу» [631]631
Quantz 1752:14 (§ 5) (Кванц 2013:163).
[Закрыть].
Здесь Кванц вторит Цицерону, утверждавшему, что оратор должен и сам быть взволнован теми же чувствами, какие он желает внушить публике, ибо нет «такого ума, чтобы он загорался от силы твоей речи, если ты сам не предстанешь перед ним, горя и пылая» [632]632
Abrams 1953:71 (Цицерон 1972:XLV:189–190).
[Закрыть]. Роджер Норт вспоминает, как скрипач Никола Маттейс, «с горящим взором, одухотворенный, более часа удерживал слух собравшихся с такой силой и изощренностью, что едва ли кто шелохнулся, хотя слушателей был полный зал» [633]633
North 1728:271.
[Закрыть].
Коллингвуд связывал то, что он называл «репрезентативным» искусством, с отсутствием искренности, поскольку оно стремилось манипулировать страстями аудитории:
Человек, возбуждающий эмоции, воздействует на свою аудиторию таким образом, каким он вовсе не обязательно воздействует на себя. <…> Человек, выражающий эмоцию, напротив, относится к себе и к своей аудитории совершенно одинаково: он разъясняет свои эмоции для аудитории, но то же самое он делает и для самого себя. [634]634
Collingwood 1938:110–111 (Коллингвуд 1999:111).
[Закрыть]
Аргумент Коллингвуда заслуживает внимания, но он представляет в ложном свете барочных исполнителей, которые не отделяли цель (взволновать слушателей) от того, чтобы быть взволнованными самим. Так, Кванц считал, что пока музыканта «не трогает то, что он играет, все его попытки затронуть умы и души слушателей своей игрой – что и должно быть высшей и конечной целью исполнения – обречены на провал» [635]635
Quantz 1752: 11 (§ 21), 11 (§ 1), 10 (§ 22) (Кванц 2013:115).
[Закрыть].
Неискренности или притворству, даже обману противопоставлялось то, что музыканты, такие как Кванц или Карл Филипп Эмануэль Бах, подразумевали под декламацией [636]636
Кэрролл (Carroll 1998:64) называет это «условием искренности» («the sincerity condition»).
[Закрыть]. Кванц говорил о «внутреннем чувстве – пении души» [637]637
Quantz 1752:10 (§ 22) (Кванц 2013:115). По-немецки: «Das Singen der Seele, oder die innerliche Empfindung»; по-французски: «Ce chant de l’âme & ce sentiment intérieur».
[Закрыть], а К.Ф.Э. Бах полагал, что «музыка должна исходить из души, а не как у дрессированной птицы» [638]638
Bach 1753:1:119 (Бах 2005:103).
[Закрыть]. Вторя Кванцу, он писал: «Музыкант, чтобы суметь донести эмоцию до другого, должен сам ее пережить. Он обязательно должен уметь чувствовать все аффекты, которые хочет возбудить в своих слушателях. Он дает им понять свои собственные чувства и таким образом лучше всего движет их к сочувствию. В томительных и грустных местах он сам томен и печален. Видят и слышат это по нему» [639]639
Bach 1753:1:122 (Бах 2005:105).
[Закрыть].
Чарльз Бёрни, навестив К.Ф.Э. Баха в его доме в Гамбурге в начале 1770-х, записал:
После обеда, <…> я уговорил его снова сесть за клавикорд, и он играл, с небольшим перерывом, почти до одиннадцати часов ночи. В течение этого времени он становился столь взволнованным и одержимым, что не только играл вдохновенно, но и выглядел так. Его глаза были неподвижны, нижняя губа отвисла, а по лицу катились капли пота. Он сказал мне, что если бы ему почаще случалось так трудиться, к нему возвратилась бы молодость. [640]640
Burney 1773:2:270 (Бёрни 1967. С. 235).
[Закрыть]
Такая эмоциональная вовлеченность исполнителя не была, по-видимому, редкостью. Вот известное описание игры Корелли, оставленное одним из очевидцев: «…обыкновенно лицо его искажалось, глаза пылали огнем и вращались в орбитах, как в яростной борьбе» [641]641
Hawkins 1776:2:675.
[Закрыть]. Ле Серф де Ла Вьевиль приводит весьма впечатляющую характеристику, данную Рагене итальянским музыкантам, чьи инструментальные пьесы «будоражат чувства, воображение и душу с такой неистовой силой, что сами скрипачи не могут сдержать охватывающую их при игре ярость; они терзают свои инструменты и собственные тела, входя в раж, будто бесноватые и т. д.» [642]642
Le Cerf de la Viéville 1704: 61 (диалог второй) (trad. Ellison 1973:87).
[Закрыть] Он замечает, что «наши [французские. – Б. Х.] скрипачи намного спокойнее». Маттезон, сравнивая французских и итальянских музыкантов, отмечает «нарочитую жестикуляцию и манерность» певцов и находит, что итальянцы гораздо эмоциональней: «Когда они исполняют что-нибудь меланхоличное, слезы часто выступают у них на глазах» [643]643
Mattheson 1739:1:6 (§ 18–19).
[Закрыть]. Чарльз Ависон, размышляя об обязанностях церковного органиста, говорил: «…если он не чувствует в своей груди божественной энергии, тщетны попытки вдохнуть ее в других» [644]644
Avison 1753:88.
[Закрыть].
Джон Мейсон в трактате о риторике, изданном в 1748 году, категорически настаивает: «Для публики всегда оскорбительно замечать в ораторе или чтеце всякое проявление лености или рассеянности. Слушатель остается безучастным, пока видит перед собой равнодушного оратора» [645]645
Mason 1748:8.
[Закрыть]. Петь или играть, будто слушаешь пьесу со стороны (как выразился Кванц) или как если всё заранее спланировано и записано в партитуре, – вот рецепт исполнения, которое никогда не тронет слушателей.
Отношение барочного музыканта к нотам напоминает отношение актера к роли. Публика знает, что актер – не герой, которого он представляет. Партитура тоже описывает роль, и в тот момент, когда музыкант исполняет ее, он «играет» тот или иной аффект или настроение со всей убедительностью, на какую способен. Лишь немногим музыкантам (салонным пианистам, которые играют разностильный репертуар, оперным певцам и джазовым исполнителям) приходится регулярно переключаться с одного стиля на другой, большинство музыкантов понятия не имеют о школе и традиции смены стилей. Освоить разные стили достаточно глубоко, так, чтобы быть убедительным для публики, очень трудно, поэтому число исполнителей, которые могут продемонстрировать несколько стилей, невелико; практически все оркестровые исполнители ограничиваются современным стилем, а также общим и мягким вариантами риторического. Кроме того, музыканты часто играют в одном стиле, исходя из личных убеждений, им кажется фальшью переключаться с одной роли на другую подобно актеру, для которого это ежедневная работа. Для риторического исполнения нет ничего хорошего в том, что многие музыканты вынуждены как белка в колесе крутиться между концертами в современном стиле. Редко кому удается показать сколько-нибудь значительные стилевые различия.
Чтобы добиться успеха, музыкант, как оратор – и в отличие от актера, – должен убедить публику в подлинности своих эмоций. Совет, оставленный нам Квинтилианом и переведенный Джоном Мейсоном в 1748 году, весьма хорош:
Романтическая выразительность:
«автобиография в нотах»
Основная цель риторической музыки – эмоционально воздействовать на публику, призывая, провоцируя, очаровывая и разжигая коллективные аффекты, испытываемые в сопереживании.
С другой стороны, автономная музыка романтиков (какой бы прекрасной она ни была) отнюдь не стремилась к сопереживанию. Она выражала – или скорее персонифицировала – абстрактные идеи, такие как божественное в природе или бесконечность. И она полностью сосредоточена на отдельной личности, гениальном создателе произведения, «художнике». Так, например, в поэзии. Мейер Ховард Абрамс пишет: «Согласно Джону Стюарту Миллю, „поэзия – это душа, исповедующаяся самой себе в моменты одиночества…“ [647]647
См.: Mill J. S. Thoughts on Poetry and its Varieties («Мысли о поэзии и ее разновидностях», 1833). – Примеч. ред.
[Закрыть] Аудитория поэта сводится к одному слушателю, это сам поэт. „Вся поэзия, – утверждает Милль, – по природе своей монологична“» [648]648
Abrams 1953:25.
[Закрыть].
Абрамс, должно быть, прав в том, что главная отличительная черта этого нового направления – сфокусированность на художнике и обесценивание аудитории:
Задаваться эстетическими вопросами и отвечать на них сквозь призму связи искусства с художником, а не внешним миром, или публикой, или внутренними законами самого произведения было характерной тенденцией современной критики еще несколько десятилетий назад, и к ней по-прежнему склонны многие, если не большинство, критиков сегодня. Эта точка зрения очень молода по сравнению с 2500-летней историей западной теории искусства, поскольку в качестве универсального подхода к искусству, разделяемого множеством критиков, она возникла не более полутора веков назад. [649]649
Ibid.: 3.
[Закрыть]
Это написано в 1953 году. Нетрудно догадаться, какое именно направление характеризует Абрамс, называя его в следующем предложении «радикальным сдвигом в сторону художника».
Романтики выдвинули идею об искусстве, суть которого – выражать индивидуальные чувства. Они восхваляли себя за то, что первыми открыли музыку, которую можно называть подлинным «искусством», ибо это первая «выразительная» музыка, воплотившая идеальный язык чувств. Для романтиков экспрессия отражала субъективные состояния ума и сердца; это был своего рода отчет о том, что чувствовал сам композитор-художник. Многие придерживаются этой идеи до сих пор. Дальхаус назвал новую романтическую концепцию «автобиографией в нотах».
Романтическая музыка даже не обязательно пишется для публики; в конце концов, она «автономна». Уникальное художественное открытие не нуждается в зрителях и в их свидетельстве. По мнению Ноэля Кэрролла, «если пробуждение эмоций направлено на слушателей, то выражение эмоций – это скорее объяснение артиста с самим собой» [650]650
Carroll 1998:61.
[Закрыть].
Нет ничего странного во внешнем равнодушии «артистов» (и это относится даже к некоторым исполнителям риторического репертуара) к результатам их выступления. Похоже, они мнят себя теми, кого лицезреют, а слушателей – своего рода вуайеристами, мало чем отличающимися от посетителей Музея мадам Тюссо.
Мэри Хантер подробно исследовала дискурс раннего романтического исполнительства. Она, в частности, обратила внимание на то, что от исполнителя ожидали глубокого духовного преображения; «его выступление понималось как раскрытие и демонстрация цельного сознания, соединявшего в себе собственную субъективность и субъективность композитора» [651]651
Hunter 2005:384.
[Закрыть]. Сравнивая риторическое и романтическое исполнительство, она отмечает, что в риторическом исполнении «практически отсутствует представление о полностью продуманном и по существу самодостаточном произведении, ожидающем своего воплощения в звуке через общность душ» [652]652
Ibid.: 369.
[Закрыть]. Выглядит романтично.
Берлиоз описывал музыканта, забывающего обо всем на свете во время игры: «…он вслушивается лишь в себя, он сам себе судья, и когда он взволнован и его чувства передаются артистам рядом, ему нет больше дела до далекой публики». А Вагнер в одном из писем [653]653
Матильде Везендонк. – Примеч. ред.
[Закрыть] в 1860 году пишет снисходительно: «…Вы должны знать, дитя мое, что такие, как я, не смотрят ни вправо, ни влево, ни вперед, ни назад. Время и мир – ничто для нас. Только одно имеет значение и определяет наши поступки – необходимость высвободить то, что внутри нас» [654]654
Цит. по: Salmen 1983:270–271.
[Закрыть]. Вальтер Зальмен приводит немало и других высказываний, отражающих романтическую идею превосходства собственного «я» и одиночества романтического артиста.
Барочные музыканты не беспокоились об отражении субъективных состояний разума и сердца. «„Учение об аффектах“, строго говоря, не исключает возможности психологического автопортрета композитора; но признает его эстетически несущественным, личным делом, не касающимся публики» [655]655
Dahlhaus 1983:76.
[Закрыть]. Аффекты пробуждались благодаря воспроизведению не личных, а общих чувств, которые можно было распознать и понять. Бартель говорит, что «барочный разум не нуждался в личном и субъективном переживании как вдохновляющем источнике композиции. Считалось, что всякая иррациональная, неопределенная или недосягаемая музыкальная идея недостойна внимания» [656]656
Bartel 1997:79–80.
[Закрыть].
«Личное и субъективное переживание», конечно, по сути романтическое. «Самовлюбленность романтиков, – пишет Питер Гэй, – была ментальным афродизиаком». «За десятилетия до того, как Оскар Уайльд установил, что любовь к себе – это начало романа, который длится всю жизнь [657]657
Цитата из пьесы Уайльда «Идеальный муж» (1895). – Примеч. ред.
[Закрыть], они засвидетельствовали, что разочарование миром часто начинается с самоочарования перед зеркалом». Эту зачарованность личностью артиста-композитора сегодня мы видим в культе кинозвезд, тиражируемом фан-клубами и бульварной прессой.
Напротив, Иоганн Себастьян Бах тем, кто восхищался его игрой на органе, говорят, отвечал: «В этом нет ничего особенного. Всё что требуется – нажимать нужные клавиши в нужное время, а играть орган будет сам» [658]658
См.: David and Mendel 1945:291.
[Закрыть].
Романтики, разумеется, были разных мастей, и многие из этого яркого цветника часто не ладили друг с другом [659]659
См.: Gay 1995:37–42.
[Закрыть]. Но всех их объединял «практически непреодолимый» романтический соблазн – очарование индивидуальными чувствами.
Коллингвуд утверждает, что «выражение [романтической. – Б. Х.] эмоции <…> делается без цели возбудить [в другом. – Б. Х.] подобную эмоцию» [660]660
Collingwood 1938:110 (Коллингвуд 1999. С. 111).
[Закрыть]; оно просто помогает нам, говорит он, «понять, что же мы чувствуем». Романтические музыканты тоже обращались к своей аудитории и, став «прозрачными сосудами», говорили о попытке «сообщить душе слушателя чувства, которые владели душой композитора» [661]661
Цит. по: Hunter 2005:366.
[Закрыть]. Так описывал одно из выступлений в 1803 году Пьер Байо; совершенно иное описание у Кванца 1752 года, где привычно не упоминается композитор («покорить сердца слушателей, возбудить или успокоить их чувства и привести к тому или иному аффекту» [662]662
Quantz 1752:11 (§ 1) (Кванц 2013:117).
[Закрыть]).
Роджер Скратон в своей статье о выразительности в Музыкальном словаре Гроува предельно сжато излагает романтическую концепцию: «…описать музыкальное произведение как выражение грусти – значит объяснить, почему его надо послушать; описать его как вызывающее или нагоняющее грусть – значит объяснить, почему его надо избегать» [663]663
Scruton 2001:8:466. Абрамс приводит такой же пример (Abrams 1953:152).
[Закрыть]. Различие в том, что романтический артист «выражает» эмоцию, которую созерцает публика, а барочный мастер «возбуждает или пробуждает» эмоцию в сердцах своих слушателей.
Кристофер Смолл говорит о романтической идее музыкантства как об «односторонней системе коммуникации»:
Задача слушателя – просто созерцать сочинение, стараться понять его и откликнуться на него <…> ему или ей нечего добавить к его содержанию. Это дело композитора.
<…> Музыка – дело индивидуальное <…> сочинение, исполнение и прослушивание происходит в социальном вакууме; присутствие других слушателей в лучшем случае не имеет значения, а в худшем мешает личному созерцанию музыкального произведения. [664]664
Small 1998:6.
[Закрыть]
Считается, что у Девятой симфонии Бетховена бесконечное число толкований; это произведение, которое каждый слушатель воспринимает по-своему. Это хороший пример романтического дискурса, сосредоточенного, как обычно, на себе. В противоположность ему аффекты XVIII века передавали то, что Тарускин назвал «публичным смыслом». Героика барочной пьесы была коллективной, разделяемой всеми; она выглядела бы претенциозной, будь она автобиографической. Претенциозность – или то, что нам сегодня кажется таковым, – по-видимому, не мешала романтикам.
Итак, романтические чувства отличались от барочных аффектов тем, что они были индивидуальны, уникальны и, возможно, неповторимы. Вот ранняя романтическая попытка поэта Людвига Тика передать поэтическое впечатление от музыки:
Как быстро, будто волшебные семена, прорастают в нас звуки, и вот уже струятся незримые огненные силы, миг – и уже рощица лепечет тысячами дивных цветов и невероятными, неповторимыми красками, и наше детство и даже более далекое прошлое резвится и играет в листве и кронах деревьев. Тогда цветы приходят в буйство и влекутся друг к другу, краски отражаются в красках, сияние озаряет сияние, и весь этот свет, блеск, дождь лучей исторгает новое сияние и новые лучи света. [665]665
Цит. по: Dahlhaus 1989:69.
[Закрыть]
Это типичный для романтиков стиль письма (у Берлиоза, как мы видели, похожий стиль). Сейчас нам это кажется описанием случайных ассоциаций, а цветочная тема вызывает в памяти психоделический опыт 1960-х годов (с добавлением религиозных аллюзий). Но при всей горячности тут есть нечто от алеаторики, словно слушатель вполне мог бы отреагировать и по-другому, услышь он еще раз ту же пьесу.
С этим контрастирует данное Чарльзом Ависоном в 1753 году описание его выдающегося коллеги Франческо Джеминиани:
Тон и характер описания Ависона резко расходятся с описанием Тика, хотя у обоих авторов речь идет о выражении страстей.
Реальное различие Э.Т.А. Гофман и другие литераторы начала XIX века проводили между старой идеей музыки с ее упором на силу слова (в духе seconda pratica) и новым видением музыки как посредника в выражении эмоции (любой эмоции), обходящейся без общепринятого [вербального. – Б. Х.] языка [667]667
Treitler 1989:183.
[Закрыть].
Увлеченностью возвышенными чувствами, экстатической музыкой, искусством, выражающим неизбывную и неутолимую тоску, смутные переживания и иступленные мистические прозрения, отмечены работы многих художников, поэтов, композиторов и критиков этого периода, в особенности «Каллигона» Гердера (1800), романы, рассказы и музыкальная критика Э.Т.А. Гофмана, музыкальная публицистика Вебера, Берлиоза и Шумана, романы Жан Поля. Музыкальное искусство было возведено в ранг религии и считалось идеальным языком чувств [668]668
Baker, Paddison, Scruton 2001:8:464.
[Закрыть].
Риторика, покинутая романтиками: «сломавшееся искусство»
Два фактора в романтическом движении способствовали вытеснению риторического подхода. Первый – романтическая концепция «абсолютной музыки», свободного посредника, пренебрегающего «любым содействием, любым участием другого искусства». Напротив, у барочного мастера были обязанности, дела, которые следовало выполнять. В те более ранние времена музыка была «прагматичной», как называл ее М.Х. Абрамс, в произведении искусства видели «главным образом средство для достижения цели, рабочий инструмент, ценность которого определялась успехом в достижении этой цели» [669]669
Abrams 1953:15.
[Закрыть].
По этой причине многие романтики отвергали риторические произведения как «репрезентативное искусство», искусство, просчитывающее цели, – «сломавшееся» искусство.
Сама мысль воздействовать с помощью музыки на эмоции романтикам казалась вульгарной, примерно как использовать искусство для пропаганды и рекламы. Мы можем не разделять их отвращения, но понимаем его, потому что всё еще разделяем унаследованное от XIX века представление о том, что музыканты (и вообще «художники») выше денег и что употреблять свое творчество на то, чтобы провоцировать реакции публики, – значит одновременно и «коммерциализировать» и дисквалифицировать его как искусство. Современные эквиваленты ангажированной музыки – национальные и церковные гимны и, конечно, телевизионные джинглы – это определенно не бескорыстное «искусство для искусства».
Вот как уничижительно отзывался об идее «красноречия» (риторики) Джон Стюарт Милль в 1830-х годах:
[Когда поэтический] дар слова больше не цель, а лишь средство для достижения цели, то есть когда поэт, выражая свои чувства, воздействует на чувства, или мысли, или волю другого, когда в выраженных им эмоциях <…> сквозит намерение, желание повлиять на ум другого, тогда его дар перестает быть поэзией и становится красноречием. [670]670
Mill J. S. Early Essays. 1897. P. 208–209; цит. по: Abrams 1953:25; см. также Abrams 1953:321.
[Закрыть]
Абрамс истолковывает это так: «Желание влиять на других людей, которое на протяжении веков было определяющим свойством поэтического искусства, сегодня производит прямо противоположное действие: оно дискредитирует поэзию, представляя ее риторикой» [671]671
Abrams 1953:25.
[Закрыть].
Из сентенции Милля явствует, что в восприятии таких понятий, как «риторика» и «красноречие», произошел сдвиг: некогда благородные, они в XIX веке были списаны в художественный утиль.
Отсюда уничижительный оттенок слова «риторика» в наши дни; риторика – это то, посредством чего мы оправдываем свои намерения, даже если они беззастенчиво пристрастны. «[В художественном стиле] величественная и смелая поза представлялась нечестивой, фальшивой или просто нелепой. „Красноречие“ выдавалось за вычурность, а тех, к кому не питали доверия, называли „краснобаями“» [672]672
Day 2000:160.
[Закрыть].
Риторика, превзойденная прекрасным (= Эстетика)
Еще одна причина, по которой риторика оказалась на обочине в XIX веке, – новая связь искусства с прекрасным.
Открытием романтиков была не красота, а ее экстатическое созерцание. Оно стало обычной реакцией романтиков на концертах, о чем свидетельствуют многие картины первой половины XIX века. Созерцание красоты со временем стало разделом философии, получившим название «эстетика». Иммануил Кант был одним из первых, кто стал употреблять новое слово «эстетика» в 1780-х годах; к 1798 году оно вошло в английский язык (хотя лишь с 1830-х годов получило широкое распространение).
Лоуренс Дрейфус пишет, что в эпоху романтизма «критическая теория отвергла ораторское искусство в пользу эстетики, заменив постоянно совершенствуемое искусство изобретения (инвенции) божественной сферой творчества» [673]673
Dreyfus 1996:2.
[Закрыть]. Сегодня слово «эстетика» чаще всего означает философию или теорию искусства, вероятно, потому, что из-за долгого господства романтических представлений об искусстве большинство людей принимает на веру романтическую идею о том, что искусство исключительно прекрасно.
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.








































