Текст книги "Конец старинной музыки. История музыки, написанная исполнителем-аутентистом для XXI века"
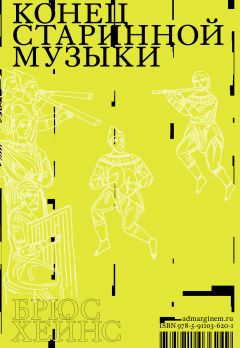
Автор книги: Брюс Хейнс
Жанр: Биографии и Мемуары, Публицистика
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 8 (всего у книги 21 страниц)
Радикальной манифестацией абсолютной музыки стала статья «Кого заботит, слушаешь ли ты?» композитора Милтона Бэббитта, появившаяся в 1958 году. Бэббитт убедительно представил ситуацию, в которой композитор «обрел бы возможность всецело посвятить себя профессиональным достижениям, в противоположность жизни на широкой публике, полной эксгибиционизма и компромиссов с непрофессионалами» [255]255
Babbitt 1966:242 (Бэббитт 2017:??).
[Закрыть]. Бэббитт сравнил современное сочинительство с продвинутыми работами из области математики или физики, понятными только специалистам. Он предложил, чтобы университеты и фонды поддерживали музыку как своего рода «чистую науку» (и, несмотря ни на что, именно это и произошло). Подразумевается, что музыкальные композиции не обязательно предназначены для прослушивания, и уж точно не для широкой публики.
У нас будет еще повод вернуться к концепции абсолютной музыки на следующих страницах.
Канон Пахельбеля становится каноном
Для слушателей эпохи риторики послушать музыкальную пьесу второй раз было то же, что для нас второй раз посмотреть спектакль или прочитать книгу. Так мы делаем лишь изредка, с очень специальными или сложными произведениями.
Когда [музыка. – Б. Х.] выдерживала несколько исполнений, в нее могли вносить и обычно вносили многочисленные изменения. Музыканты редко думали о том, что музыка переживет их в форме законченного и неизменного произведения. Повтор для музыкантов означал использование тем или частей произведения для каких-либо других случаев, а не новое проигрывание всего произведения целиком. [256]256
Goehr 1992:186.
[Закрыть]
Я думаю, лучшее сравнение в наше время – это фильмы, самые успешные из которых, кажется, редко идут дольше года в кинотеатрах, где аудитория знает о времени выхода каждого фильма, который она смотрит. В подобном же духе высказался Кванц, чувствовавший себя обязанным предостеречь своих читателей от чрезмерного энтузиазма по поводу свежесочиненной музыки: «Не стоит обращать внимание на то, была ли пьеса сочинена недавно или некоторое время назад, – довольно и того, что она просто хороша. Новое не обязательно означает лучшее» [257]257
Quantz 1752:10 (§ 21) (Кванц 2013:114–115).
[Закрыть].
Мы сегодня далеко ушли по пути создания нового канона бессмертных шедевров – но на этот раз риторических произведений. Уже есть много «великих хитов». «Мессия» Генделя – очевидный пример; Бранденбургские концерты Баха и «Маленькая ночная серенада» Моцарта теперь часто звучат как фоновая музычка. Даже некоторые кантаты Баха популярны и часто исполняются (отчасти из-за инструментовки), в то время как другими, не менее интересными, пренебрегают.
Многие современные музыканты, играющие как на романтических (современных), так и на исторических инструментах, исполняли, например, «Страсти по Матфею» Баха не менее двух-трех десятков раз (а некоторые гамбисты, приглашаемые в симфонические оркестры, – гораздо больше), и многие слушатели слышали это произведение как минимум столько же (и возвращаются к нему вновь и вновь); тогда как сам Бах, по-видимому, исполнял его всего пять раз: дважды в 1727 и по разу в 1729, 1736 и 1742 годах (каждый раз в несколько измененной версии). И для него, и для его современников даже это количество повторений было необычно. Следовательно, мы старательно превращаем риторическую музыку в новый канон. Хотим ли мы этого, или это сила привычки? Представьте, что станет с хорошей книгой, если мы будем читать ее дважды в год в течение пяти лет и если будем слушать ее аудиоверсии в лифте, именно это мы делаем с «Временами года» Вивальди.
Что бы канонизм ни сделал с музыкой, ясно одно: не он раньше определял представления о музыке. Канонизм в том виде, как мы его знаем сегодня, просто не существовал. Поэтому, чтобы понять риторический репертуар (репертуар до революции романтизма) – если вообще мы можем его понять с этой исторической дистанции, – нужно попытаться услышать музыку так, как если бы канона никогда не было. «Если мы хотим понять канон исторически, мы должны скептично отнестись к нему, освободиться от его авторитета, его идеологии и всей риторики, которая его окружает» [258]258
Weber 1999:337.
[Закрыть].
Оригинальность и культ гения
Ремесленники гордятся своим умением многократно воспроизводить одну и ту же (или очень похожую) вещь, демонстрируя владение техникой и материалами. Они нередко принимают оригинальность за отсутствие контроля или техники. Скажем, современный гончар или инструментальный мастер невысоко ценит навыки коллег, специализирующихся только на единичных изделиях, которые он считает случайными. Однако художник смотрит на вещи иначе. Для него открытие нового и оригинального объекта (как правило, неутилитарного) – признак гениальности.
Гениальность, согласно Карлу Дальхауcу, есть «радикальная оригинальность», что означает две вещи: во-первых, композитор использует произведение для самовыражения (сочиняя «изнутри», в смысле личной автобиографии, сосредоточившись на страстях и внутренней борьбе), и во-вторых, «если композитор хочет, чтобы его музыку услышали в кругах, чье мнение ему важно, он должен сказать что-то новое» [259]259
Dahlhaus 1983:147.
[Закрыть] (взгляд, безусловно вдохновленный верой в прогресс XIX века).
В «Критике способности суждения» Кант называет гением того, кто ломает стереотипы, творит новые правила в искусстве и возвышается над старыми формами.
Почему же гений так часто ассоциируется с романтической музыкой, но кажется неуместным в случае с Машо или Даулендом? [260]260
Интересное обсуждение этого явления см.: Higgins 2004.
[Закрыть]
Музыканты в эпоху риторики сочиняли и играли музыку, полагаясь на здравый смысл и простые ремесленные правила. Там, где композитор-романтик демонстрировал бы свою гениальность, превосходя или перетолковывая скучные правила, музыкант барокко доказывал бы свою изобретательность, не нарушая правил, а выполняя их [261]261
Dahlhaus 1983:75.
[Закрыть]. Сочинение «было искусством в том смысле, какой имело это слово в XVIII веке, – ловкостью исполнять работу с помощью общепринятых, проверенных техник и приемов» [262]262
Barnett 1987:11. Барнетт пишет об актерской игре, а не сочинении.
[Закрыть]. Звучит как разговор ремесленников. Роджер Норт утверждал, что «в музыке ничего нельзя оставлять на волю случая; всё должно делаться надлежащим образом либо по плану, либо по укоренившемуся обычаю; а усерднее всего следует добиваться разнообразия». Для романтика это совершенно не годилось.
Атрибуция и этикетки
Настоящий канонический музыкальный опыт требует знания того, кто написал исполняемую пьесу, когда жил и какое место занимает в иерархии музыкального Пантеона. В своей диссертации Джон Cпитцер проследил судьбу произведений, поначалу приписываемых великим композиторам, но впоследствии оказавшихся не подлинными; они сразу исчезли из репертуара, когда потеряли свои родословные. В частности, Cпитцер описывал, как в 1964 году, когда было установлено авторство Хофштеттера, стали исчезать из репертуара струнные квартеты оп. 3 Гайдна [263]263
Цит. по: Wilson 1959:142.
[Закрыть]. То же самое наблюдается в живописи и литературе.
Получается, что этикетка важнее продукта. Стыдно признаться, но должен сказать, что для меня, как, полагаю, и для большинства музыкантов, истинная оценка произведения невозможна, пока автор его неизвестен. Cпитцер пишет о том, как это влияет на наше восприятие идентичности и качества произведения. По его словам, «изменение имени автора равнозначно изменению самого произведения» [264]264
Spitzer 1983:415.
[Закрыть]. Вспомните, какое неудобство мы испытываем, включив радио в середине произведения и с нетерпением ожидая конца, чтобы узнать композитора и исполнителей! Cпитцер рассказывает о слушателе, находящемся в такой ситуации и узнающем, что это, скажем, Четвертая симфония Бетховена:
Когда слушатель внезапно восклицает про себя «Бетховен», он не просто навешивает этикетку на музыку. Одним словом он вызывает к жизни всю биографию Бетховена, другие произведения Бетховена, покровителей Бетховена, Вену начала XIX века, высказывания критиков Бетховена и так далее. Остаток Четвертой симфонии он слушает уже совершенно в другом настроении, потому что знание ее авторства значительно обогатило контекст, в котором произведение воспринимается и оценивается. [265]265
Ibid.:429.
[Закрыть]
Как отмечает Cпитцер, знание авторства удовлетворяет нашу потребность поместить произведение искусства в его исторический контекст (поскольку пока оно существует вне его). Это также помогает идентифицировать пьесу, поскольку каждое исполнение немного отличается (в некоторых случаях настолько, что делает музыку неузнаваемой).
Музыковедение изобрели в эпоху романтизма, и его первой задачей стало создание бесчисленных биографий и сборников произведений творцов-композиторов. Это естественно, ведь доминирующей парадигмой в романтической музыке был герой/автор и «шедевр». Но вместе с тем это привело к тому, что романтики стали одержимы атрибуцией произведений и выяснением, кто на кого влиял.
Несомненно, из этой сосредоточенности на том, кто написал музыку и какой ее номер в каталоге, возникла и наша современная потребность в документации на концертах. «Слушатели получали печатные программки, где всегда указывались имена композиторов и названия исполняемых произведений, иногда дополненные письменными „аннотациями“, коротко характеризующими каждое произведение, за которыми можно следить во время исполнения» [266]266
Finnegan 1986:77.
[Закрыть]. Письменные программки распространяются даже детьми, играющими для своих родителей, и служат важным атрибутом официального действа. Поскольку на концертах обычно звучит музыка прошлого, то в программках объявляются ее исторические данные, особенно для тех, кто иным способом может и не распознать в неудобопонятной звуковой массе исполнение Пёрселла или Бетховена. Этикетка наделяет музыку некой идеей и в то же время поощряет благожелательное отношение к исполнению.
Как и следовало ожидать, до того, как гениальная личность вышла на авансцену, атрибуция мало кого беспокоила. Спитцер отмечает, что в первые четыре столетия существования музыкальной нотации в Европе музыка вообще не приписывалась «композиторам». Но и позднее атрибуция песен часто касалась автора текстов, а не музыки [267]267
Spitzer 1983:17 ff.
[Закрыть]. Рукописи стали регулярно подписывать именами композиторов с конца XIV века, однако еще в XVI веке атрибуция была эпизодической.
Даже и сегодня атрибуция важна только в канонической музыке. Статус музыкального произведения как высокого искусства, вероятно, напрямую связан с точностью его атрибуции. Мы видим, сколь широк ее спектр – от подробнейше составленной концертной программы, с номерами по опусам и каталогам, полными именами и датами жизни композиторов, до приблизительных (и обычно никем не читаемых) титров в конце фильмов, случайного упоминания композиторов популярных песен и абсолютной анонимности авторов музыкальных заставок на телевидении. Напротив, названия самых тривиальных оперных арий скрупулезно идентифицированы (вплоть до акта), пьесы Моцарта почти никогда не упоминаются без номеров в каталоге Кёхеля, концерты в наши дни немыслимы без программки, и даже названия бисов объявляются исполнителями. Идентичность и атрибуция – живительная сила сознания Пантеона.
Снобизм, проявляющийся в случае Гайдна – Хофштеттера, о котором шла речь выше, подтверждается замечанием Спитцера о том, что люди меньше ценят произведение, если оно не подписано автором (то есть анонимно). По его свидетельству, «нынешняя нетерпимость к анонимному искусству сравнительно недавнее явление» [268]268
Ibid.:428.
[Закрыть], которого не разделяли музыканты и слушатели эпохи Возрождения:
Во время Ренессанса атрибуция картин или музыкальных пьес, по-видимому, носила случайный характер: ее могли принять или отвергнуть, могли сохранить или пренебречь ею. Сегодня атрибуция представляется необходимой. Если произведение искусства не атрибутировано, то целая научная индустрия пытается присвоить ему автора. Разработаны рациональные и научные методы для атрибуции анонимной музыки, литературы и живописи, а также для проверки и подтверждения уже сделанных атрибуций. [269]269
Ibid.:429.
[Закрыть]
Личность артистов-композиторов важна для приверженцев канона, потому что произведения композиторов-героев/гениев по определению пронизаны «величием» (независимо от того, обладают ли они выдающимися музыкальными качествами). И, как в случае со звездами в современной культуре, произведение вызывает интерес, если связано с громким именем, и немедленно становится достойным рассмотрения, каким бы посредственным оно ни казалось на первый взгляд:
Открытие ложного авторства произведения ясно указывает, насколько на самом деле неустойчива конструкция «автора» <…> Если бы мы продолжали слушать квартеты oп. 3 [Гайдна. – Б. Х.] – теперь Хофштеттера – и получали столько же удовольствия, как когда они принадлежали Гайдну, это означало бы, что никогда не было никакой первостепенной важности в авторстве Гайдна. [270]270
Ibid.:457.
[Закрыть]
Это в свою очередь угрожает всему каноническому карточному домику, так как, возможно, никогда и не было ничего особенного в героях-богах-композиторах, кроме собственно их музыки: «Сама возможность каких-либо разумных критериев оценки и вкуса, кажется, окончательно поколеблена» [271]271
Dutton 1983:IX.
[Закрыть].
Поэтому неудивительно, что подделыватели искусства иногда оказываются за решеткой: их работы путают идентичности, тем самым размывая величие отдельных художников и художественных произведений, требуя, чтобы их оценивали только по их достоинствам. В конце концов, художественная подделка – вопрос атрибуции: чье имя указано на произведении? Кто-то может подумать, что это второстепенный вопрос. Но романтический культ личности очень глубоко укоренился в нашей культуре. Отто Курц в 1948 году заходит так далеко, что называет художественные подделки «потенциально опасными <…> Великий художник, будь то Шекспир, Микеланджело или Коро, имеет право на то, чтобы его творчество было очищено от нежелательных дополнений» [272]272
Kurz 1948:319.
[Закрыть]. Слово «опасный» кажется в этом контексте странным. Курц использует здесь три символических атрибута канонизма: «великий художник», «œuvre» [273]273
Творчество, совокупность работ (франц.).
[Закрыть], или «произведения», и «чистота искусства».
На самом деле мы могли бы пойти еще дальше и предположить, что идея художественных подделок может существовать только в атмосфере «великих произведений», канонизированного классического искусства. Понятие «подделка» отсутствует, например, в китайской живописи, где копирование мастеров прошлых веков – обычная практика.
В написанном в 1939 году интригующем рассказе Хорхе Луиса Борхеса «Пьер Менар, автор „Дон Кихота“» повествуется об утонченнейшем французском писателе, вдохновленном идеей написать несколько глав «Дон Кихота». («Не второго „Дон Кихота“ хотел он сочинить – это было бы нетрудно, – но именно „Дон Кихота“. Излишне говорить, что он отнюдь <…> не намеревался переписывать роман. Его дерзновенный замысел состоял в том, чтобы создать несколько страниц, которые бы совпадали – слово в слово и строка в строку – с написанным Мигелем де Сервантесом» [274]274
Борхес 2011:100. Далее цитаты приводятся по этому изданию. – Примеч. ред.
[Закрыть].) В том же духе Ле Серф де Ла Вьевиль пишет о музыкантах своего времени (поколение после смерти Люлли), пишущих пьесы, которые напоминали произведения Люлли «без всякой мысли о нем. Так же и в поэзии каждый день случается, что мыслишь и говоришь то же самое, что и автор, которому не собираешься подражать. Например, г-н маркиз де Ракан написал четыре строки, слово в слово как в катрене из „Табличек“ Матьё [275]275
Имеется в виду поэтический цикл «Tablettes de la vie et de la mort» («Таблички жизни и смерти», 1610) французского поэта, драматурга и историка Пьера Матьё (1563–1621). – Примеч. ред.
[Закрыть], которые он никогда не читал» [276]276
Le Cerf de la Viéville 1704:91 (речь третья) (trad. Ellison 1973:131).
[Закрыть].
У Борхеса его персонаж, Менар, говорит: «Сочинить „Дон Кихота“ в начале семнадцатого века было предприятием разумным, необходимым, быть может, фатальным; в начале двадцатого века оно почти неосуществимо. Не напрасно ведь прошли триста лет, заполненных сложнейшими событиями. Среди них – чтобы назвать хоть одно – самим „Дон Кихотом“». «Текст Сервантеса и текст Менара в словесном плане идентичны, – говорит рассказчик, – однако второй бесконечно более богат по содержанию». Он цитирует отрывки обоих авторов, совершенно неразличимые, и удивляется тому, насколько же неправдоподобен текст Менара, учитывая время, когда он был написан. Он также подчеркивает, что «архаизирующий стиль Менара – иностранца как-никак – грешит некоторой аффектацией. Этого нет у его предшественника, свободно владеющего общепринятым испанским языком своей эпохи». Кажется, Борхес обыгрывает мысль о том, как атрибуция меняет идентичность произведения (предполагая, например, что «Властелин колец» [277]277
Неточность автора: Борхес приводит в пример «О подражании Христу», трактат Фомы Кемпийского. – Примеч. ред.
[Закрыть] воспринимался бы совсем иначе, если бы его приписали Джеймсу Джойсу). Это подталкивает к дальнейшим размышлениям. Можем ли мы обнаружить в исполнительских протоколах более ранних эпох то, что было невидимо людям той эпохи? А с другой стороны, что мы можем узнать о себе в этих риторических произведениях, полностью отождествляясь со стилем того времени (который был одним из источников вдохновения Менара)?
Повторяемость и ритуализированное исполнение
Если произведение смогло войти в Пантеон и обрести канонический статус, оно будет услышано не один раз. Эта повторяемость, вошедшая в обиход в XIX веке, сегодня привычна и стандартна. Одна из самых подкупающих идей Дальхауса заключается в том, что повторяемость необходима, ибо произведение можно и не понять или понять лишь частично при первом прослушивании [278]278
Dahlhaus 1983:148.
[Закрыть]. Вероятно, именно это имел в виду Лист, когда говорил, что мечтает «бросить копье в бескрайнюю даль будущего» [279]279
Salmen 1983:272.
[Закрыть]. Конечно, слушатель тоже должен быть заинтересован в неоднократном слушании. «Невозможно судить об опере Вагнера „Лоэнгрин“ после первого прослушивания, – говорят, сказал Россини, – и я, конечно, не собираюсь слушать ее во второй раз».
Если произведения были предназначены для вечности, то был и встроенный тормоз смены стиля. Например, если бы стиль слишком далеко ушел от Бетховена, то его музыка, вероятнее всего, устарела бы и стала неактуальной. Это противоречит сознанию постоянных перемен, свойственных XVIII веку. В 1778 году один хороший композитор сказал другому о третьем композиторе, которого он слышал накануне вечером, что его музыка «ein wenig in den ältern Styl fällt» [280]280
Леопольд Моцарт, письмо от 28 мая 1778 года.
[Закрыть] («немного отдает старым стилем»). Так Леопольд Моцарт писал своему сыну о музыке Карло Безоцци, который был на девятнадцать лет младше Леопольда.
Как отмечает Дерек Бейли, «ничто не отражает изменения быстрее, чем популярная музыка» [281]281
Bailey 1992:41.
[Закрыть], и это, конечно, потому, что в ней так много импровизации; она не сдерживается записью и фиксацией. Это могло бы объяснить, почему музыкальный стиль (а также стиль исполнения и стиль изготовления инструментов) так быстро менялся в эпоху барокко. Это происходило не только потому, что музыка записывалась лишь частично, но и потому, что она, как и нынешняя популярная музыка, не стремилась существовать долго – быть вечной и классической. Музыкантство в XVII и XVIII веках – будь то игра, или изготовление инструментов, или сочинение музыки, – редко переживало поколение, которое его создавало. Если исполнитель, композитор или мастер приобретал репутацию старомодного или passé [282]282
Прошедшее, прошлое (франц.).
[Закрыть], это имело катастрофические последствия для карьеры. Узнаваемость была негативным качеством; возможно, музыканты хотели избежать ее крайних проявлений, когда блеск превращался в пустую церемонию:
Узнаваемость смягчает тревожность: сколько раз может потрясти «Весна священная»? Время и история устраняют дискомфорт: вагнеровская революция, возможно, отправила музыкальные практики Россини в историю, но теперь Вагнер занимает место рядом с Россини – в истории и в репертуаре. Классический статус трансформирует беспокойство: самые дерзкие гармонические последовательности Монтеверди или Шёнберга уподобились надписям на памятнике, волнуя, но уже не воспламеняя. [283]283
Parakilas 1984:10.
[Закрыть]
Я проводил ранее аналогию с нынешним кино. Представьте, если бы фильмы канонизировали так же, как музыку XIX века! Зрители смотрели бы всё одни и те же двести фильмов, игнорируя новые, и смотрели бы их с религиозным благоговением. Помимо этого, появилась бы дисциплина, известная как «синематология», которая, прибегая к сложной терминологии, аргументировала бы необходимость этого канона кино.
То обстоятельство, что музыка XVII и XVIII веков не предназначалась для многократного слушания, как правило, облегчало ее понимание и делало ее общепринятой по форме. Поскольку второй шанс услышать новое произведение выпадал редко, пьеса, которую нельзя было усвоить сразу (умным и образованным слухом), могла потерпеть фиаско. Отсюда:
● наша готовность снова и снова слушать эти неканонические сочинения говорит скорее о нашей музыкальной неискушенности, и поэтому
● для композитора было бы не слишком разумно много экспериментировать. В эпоху барокко, как пишет Лоуренс Дрейфус, «сама идея особенной или противостоящей общему вкусу музыки просто немыслима» [284]284
Dreyfus 1996:35.
[Закрыть].
Одна из проблем с повторяемостью заключается в том, что исчезает неожиданность. «Прерванный каданс, который нам уже известен, больше нас не обманывает <…> Наше стремление к частому прослушиванию любимого произведения, абсолютно чуждое слушателям минувших эпох, достаточно выразительно показывает основное различие между слушательскими привычками вчера и сегодня» [285]285
Harnoncourt 1988:26–27 (Арнонкур 2019:27).
[Закрыть].
Кристофер Смолл отмечает, что симфонии Бетховена – прекрасный пример музыки, которую мы слышали так часто, что она стала для нас комфортной, тогда как для современников Бетховена она была подобна удару «кулаком в лицо» [286]286
Small 1998:160.
[Закрыть]. В отличие от нас, у слушателей два века назад не было привилегии ретроспективного знания. Пользуясь своим знанием истории, можно серьезно исказить прошлое. «Для человека 1807 года», например, «1808 год был загадкой, неизведанным путем, <…> изучать 1807 год, всё время вспоминая при этом, что случилось в 1808 году <…> – значит упустить авантюрность, величайшую неопределенность, элемент игры в их жизни. Там, где мы не можем удержаться от того, чтобы не видеть полной определенности интересующего вопроса, для людей того времени всё было неожиданностью» [287]287
Lowenthal 1985:226; цит. по: Lukács G. The historical novel (1969). Р. 22, 26 (Лоуэнталь 2004:356–357).
[Закрыть].
На мой взгляд, самое серьезное последствие повторяемости в том, что мы не чувствуем необходимости слушать внимательно, ибо знаем, что можем снова услышать пьесу. Это грозит превратить слушание хорошо нам известного произведения, скажем симфонии Бетховена, в пустую рутину. Вместо того чтобы вслушиваться в само сочинение, мы сосредотачиваемся на том, чем отличается его исполнение. «Поскольку [в XVIII веке. – Б. Х.] произведением интересовались намного больше, чем его исполнением, критики занимались почти исключительно самой вещью и лишь отчасти ее интерпретацией. Такая ситуация диаметрально противоположна нынешней, когда обсуждаются и сравниваются только детали исполнения» [288]288
Harnoncourt 1988:27 (Арнонкур 2019:150).
[Закрыть]. Мы даже изобрели канонический способ исполнения каждого из канонических произведений. Еще в 1940-х и 1950-х годах сравнение разных записей Тосканини одной и той же симфонии Бетховена было культовым ритуалом [289]289
Horowitz 1987:413.
[Закрыть]. Таким образом, музыка этого типа рискует превратиться в литургию, бездумную и без провокации, иными словами, в ритуал. Ритуальные действия суть те, которые из-за частого повторения теряют смысл, которым они когда-то обладали, и становятся автоматическими. Николас Кук, подчеркивая, что продажи CD часто мотивированы именами исполнителей, которые продаются наравне с исполняемой ими музыкой, полагает, что «канон можно определить как набор сочинений, настолько узнаваемых, что они функционируют скорее как средство коммуникации, чем как сообщение» [290]290
Cook and Everist 1999:245.
[Закрыть].
По мнению некоторых авторов, есть основания думать о ритуальных напевах симфонического концерта как о сказке на ночь для взрослых [291]291
Small 1998:187, 192; Harnoncourt 1988:27 (Арнонкур 2019:27), а также Taruskin 1995:205.
[Закрыть]. В частности, это сходство в том, что истории, став слишком знакомыми, потеряли всякую способность пробуждать беспокойство. Скотт Бёрнхем пишет, как он любит переслушивать Бетховена: «…это всегда приводит нас в одно и то же место, всегда вызывает одно и то же присутствие чего-то необъяснимого <…> нам нравится быть там» [292]292
Burnham 1995:162–168.
[Закрыть]. Исполнение канонических произведений обнадеживает, приносит удовлетворение. «Каждое произведение было многократно удостоверено восхищением поколений и теперь исполняется в этой роскошной обстановке [то есть в концертном зале. – Б. Х.], поддержанной полным социальным одобрением и всей мощью симфонической концертной церемонии».
Другое сходство – в одержимости безукоризненно буквальным повторением. Мотивированное «тем же стремлением к предсказуемости, которое побуждает пятилетнего ребенка исправлять ошибки отца при чтении знакомой сказки перед сном», наше требование буквальности распространяется не только на абсолютную точность воспроизводимых нот; мы требуем, чтобы каждая деталь была передана точно так же, как в рукописи композитора, каждая лига и каждое украшение. Иногда мы идем еще дальше, вплоть до авторских черновиков [293]293
Small 1998:192–193.
[Закрыть].
Эта абсолютная точность воспроизведения распространяется в моменты слабости даже на так называемые исторические исполнения, когда никакие украшения не могут быть ни добавлены, ни убраны [294]294
Мне рассказывали о недавних случаях, когда музыкантов, играющих «Мессию» и 4-й Бранденбургский концерт (оба произведения теперь канонические) с хорошо известным оркестром исторических инструментов в Торонто, просили не играть украшений, не записанных в партиях.
[Закрыть].
Повторяемость подразумевается в письменной музыке; произведение записывается с целью его повторения. Однако важно количество повторений. Когда слушатель достаточно понимает произведение, его опыт слушания превращается в ритуал. Как говорит Норт: «Удивительно, что в первый раз мелодия никогда не кажется такой хорошей, как во второй раз, но немногие [мелодии. – Б. Х.] продержатся дольше» [295]295
Цит. по: Wilson 1959:177.
[Закрыть]
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.








































