Текст книги "Виллет"
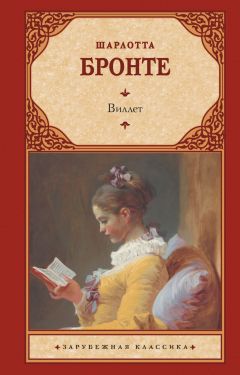
Автор книги: Charlotte Bronte
Жанр: Литература 19 века, Классика
Возрастные ограничения: +12
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 15 (всего у книги 38 страниц) [доступный отрывок для чтения: 11 страниц]
Глава XVII
Терраса
Постоянная борьба с природой собственной души, с сердечной склонностью может показаться тщетной и бесплодной, но в конечном итоге принесет благо. Она ненавязчиво направляет поступки и поведение по пути разума, которому так часто противостоит чувство. Борьба эта, несомненно, изменяет течение жизни, делает его более размеренным, ровным и внешне спокойным. А ведь со стороны только поверхность и видно. Все, что находится в глубине, ведомо одному лишь Богу. Человек, равный нам и такой же слабый, не способен нас судить, а потому должен быть отвергнут. Откроем глубины Создателю; покажем тайны данного им духа; спросим, как пережить посланную им боль; преклоним колени и помолимся о свете во тьме, о силе в достойной сострадания слабости, о терпении в крайней нужде. В один прекрасный час, хотя, возможно, мы его и не увидим, стоячие воды тронутся. В некой форме – хотя, возможно, и не той, о которой мы мечтали, которую любили наши сердца, – с небес спустится исцеляющий вестник. Тогда омоются убогие и слепые, немые и одержимые. Приди же скорее, вестник! Тысячи лежат вокруг водоема, в слезах и отчаянии глядя на стоячие воды. Медленно текут «времена» небес: орбиты ангельских посланников кажутся смертному взору бесконечными, – могут заключать в себе века. Цикл единственного ухода и возвращения способен растянуться на несколько поколений. Прах, воплотившись в короткую, полную страданий жизнь и через боль снова обернувшись пылью, может снова и снова исчезнуть из памяти. К миллионам страждущих и скорбящих явится первый и единственный ангел, которого люди Востока зовут Азраилом!
Следующим утром я попыталась встать, и пока одевалась, то и дело останавливаясь, чтобы в надежде унять дрожь и слабость сделать несколько глотков из стоявшего на умывальнике кувшина, в комнату вошла миссис Бреттон и решительно заявила:
– Это абсурд! Ничего не выйдет.
В своей энергичной, деятельной манере, которую я когда-то с удовольствием наблюдала в применении к сыну, равно как и его активное сопротивление, уже через две минуты она уложила меня обратно в постель и строго наказала:
– Лежи до вечера. Перед уходом мой мальчик оставил распоряжение на этот счет, а уж он-то знает, что говорит, и не потерпит своеволия. Скоро принесут завтрак.
Завтрак она принесла собственноручно, не доверив меня слугам, а пока я ела, сидела на кровати. Сейчас даже среди уважаемых друзей и дорогих сердцу знакомых найдется не много таких, кому мы с радостью позволим сидеть рядом, наблюдать, ухаживать, находиться в непосредственной близости сиделки к больному. Далеко не каждый друг обладает таким добрым взглядом, далеко не всякое присутствие доставляет облегчение, но миссис Бреттон, как и прежде, принесла с собой спокойствие, заботу и утешение. Еда и напитки никогда не радовали меня так, как поданные ее руками. Не помню случая, чтобы появление крестной матушки не обрадовало. Наши натуры обладают симпатиями и антипатиями в равной мере странными. Существуют люди, которых мы интуитивно сторонимся, тайно избегаем, хотя разум подсказывает, что они хорошие, но есть и такие, чьи недостатки очевидны, и все же мы живем рядом с ними, делая вид, что всем довольны. Живые черные глаза крестной матушки, ее румяные щеки, теплые ловкие руки, уверенность в себе, решительные манеры действовали на меня так же благотворно, как свежий воздух и целительный климат. Сын называл ее старушкой, а я с радостным удивлением замечала, как бурно в ней кипела энергия двадцатипятилетней.
– С удовольствием принесла бы сюда рукоделие и просидела с тобой весь день, если бы безжалостный Джон Грэхем не наложил вето на мое намерение. «Итак, мама, – сказал он, уходя, – постарайся не замучить крестную дочь сплетнями». Приказал сидеть в своей комнате, чтобы избавить тебя от моего великолепного присутствия, и заявил, что, судя по твоему виду, Люси, у тебя случился нервный срыв. Это правда?
Я ответила, что не знаю, в чем заключается болезнь, но что в последнее время действительно страдала от странных проблем с сознанием. Распространяться на эту тему не хотелось, поскольку подробности пережитого относились к той части существования, которой я не собиралась делиться ни с кем – даже с крестной матушкой. В какую далекую, неведомую страну завело бы подобное признание эту здоровую, безмятежную натуру! Мы с миссис Бреттон отличались друг от друга как курсирующий по спокойному морю величавый корабль с умелой командой под управлением веселого, бравого, отважного и дальновидного капитана от спасательной лодки, почти весь год одиноко пролежавшей в старом сарае. Воду несчастное суденышко видит лишь тогда, когда волны вздымаются до облаков, а в море правят опасность и смерть. Нет, корабль «Луиза Бреттон» никогда не выходил из гавани в бурю, его команда не знала жестоких испытаний, а потому много раз тонувший моряк со спасательной лодки полагается на собственный ум и не ждет помощи со стороны.
Миссис Бреттон ушла, а я осталась лежать в душевном покое, радуясь, что утром Грэхем обо мне вспомнил.
День тянулся медленно, но мысль о грядущем вечере скрашивала одиночество, не позволяя скучать, к тому же я все еще чувствовала себя слабой и радовалась отдыху. Когда миновали утренние часы, это беспокойное время прошло, внушающее даже свободным людям ощущение необходимой деятельности, смутных обязательств и требующих решения задач, тихий день приглушил на лестнице и в комнатах деловитый топот горничной, я погрузилась в приятную дремоту.
Спокойная маленькая комната напоминала пещеру в море. Цвета здесь ограничивались белым и светло-зеленым и напоминали пену и воду в глубине. Белые карнизы были украшены завитушками в форме раковин, а на потолке, по углам, то ли плыли, то ли летели белые дельфины. Даже единственное яркое пятно в виде красной подушечки для булавок напоминало коралл, а темное мерцающее зеркало могло бы отражать русалку. Закрыв глаза, я слышала, как стихающий ветер бьется о фасад дома, словно иссякшая волна о подножие скалы, как ветер уходит вдаль, словно отлив отступает от берега небесного мира – такого высокого, что смятение грандиозных волн, неистовство яростных бурунов звучало в этом подводном доме совсем тихо и напоминало невнятное бормотание или колыбельную песню.
В мечтах незаметно настал вечер. Марта принесла свечу и помогла мне одеться. Я чувствовала себя значительно лучше, чем утром, и самостоятельно спустилась в голубую гостиную.
Оказалось, что доктор Джон закончил обход пациентов раньше, чем обычно. Едва войдя в комнату, я сразу заметила его фигуру: он стоял в нише окна, прямо напротив двери, и при тусклом свете угасающего дня читал мелкий газетный шрифт. Камин ярко горел, однако лампа стояла на столе незажженной, и чай еще не подали.
Что касается миссис Бреттон – моей активной крестной матушки, – которая, как выяснилось позднее, весь день провела на воздухе, то она полулежала в своем любимом глубоком кресле и дремала. Увидев меня, Грэхем сразу подошел, причем очень осторожно, чтобы не разбудить спящую, и, пригласив меня присесть возле окна, тихо заговорил. Глубокий голос никогда не звучал резко, а сейчас казался намеренно приглушенным, чтобы продлить, а не нарушить сон.
– Здесь очень спокойно. Не знаю, удалось ли вам рассмотреть дом во время прогулок. С дороги его, конечно, не видно. Выйдя за ворота, через милю надо свернуть на тропинку, которая вскоре превратится в широкую аллею и через луг и рощу приведет сюда, к самой двери. Дом не новый – скорее даже старинный особняк. Его прозвали Террасой, потому что фасад возвышается над широкой, покрытой дерном площадкой, откуда ступени ведут по травянистому склону к аллее. Посмотрите! Поднимается луна! Как красиво она просвечивает сквозь стволы деревьев!
Разве когда-нибудь луна выглядела некрасивой? Красная, словно пламя, она поднялась над склоном, на наших глазах стала золотой и вскоре чистой, без единого пятнышка, вознеслась на безмятежное небо. Умиротворил лунный свет доктора Бреттона или опечалил? Настроил ли на романтический лад? Думаю, да. Обычно не склонный к проявлению чувств, сейчас, глядя на безупречный диск, он вздохнул тихо, почти незаметно. Не оставалось сомнений относительно причины или значения вздоха: я знала, что рожден он красотой, а адресован Джиневре, – и, понимая это, сочла своего рода долгом произнести имя, о котором он думал. Конечно, доктор Джон был готов к обсуждению: в лице читался интерес, подтвержденный массой вопросов и комментариев. Напор чувства и красноречия сдерживался, пожалуй, лишь смущением и боязнью начать разговор. Я могла принести пользу одним-единственным способом: избавить собеседника от неловкости. Достаточно произнести имя идола, чтобы свободно полилась нежная песнь любви. Я придумала удачную первую фразу: «Вам известно, что мисс Фэншо отправилась в путешествие с четой Чолмондейли?» – и уже открыла рот, чтобы начать, когда доктор Джон сел рядом, нарушив мои планы, и, спрятав чувства в карман, заговорил на другую тему:
– Сегодня утром я первым делом отправился на рю Фоссет, чтобы сказать кухарке, что вы в безопасности и в хороших руках. Представьте себе: оказалось, что она до сих пор не заметила вашего отсутствия. Думала, что вы по-прежнему в большой спальне. Заботливая служанка и прекрасный уход!
– О, все это вполне объяснимо. Готон все равно не смогла бы сделать ничего другого, кроме как принести чашку ячменного отвара и кусочек хлеба. Но за последнюю неделю я так часто отказывалась и от того, и от другого, что доброй женщине надоело напрасно бегать из кухни жилого дома в школьную спальню, и она приходила лишь раз в день, чтобы поправить постель. Думаю, однако, что с радостью приготовила бы для меня бараньи котлеты, если бы я смогла их съесть.
– О чем думала мадам Бек, оставляя вас в одиночестве?
– Она же не могла предвидеть, что я заболею.
– Вы много страдали? Как ваша нервная система?
– Не знаю, что там с моей нервной системой, но настроение было ужасным.
– Что лишает меня возможности использовать лекарства. Исправить настроение медицина не способна. У порога ипохондрии врачебное искусство пасует: заглядывает в камеру пыток, но ничего не может сделать и даже сказать. Способно помочь лишь жизнерадостное общество. Вам не следует оставаться в одиночестве и нужно как можно больше двигаться.
За полезными советами последовала исполненная понимания пауза. Я подумала, что рекомендации прозвучали уместно, не выходя за рамки безопасности обычаев и непогрешимости традиций.
– Мисс Сноу, – опять заговорил доктор Джон, к моему огромному облегчению оставив тему здоровья и моей нервной системы, – позвольте спросить: вы католичка?
Я очень удивилась:
– Католичка? Нет! Откуда такая мысль?
– Дело в способе, которым вас поручили мне вчера вечером…
– Меня вам поручили? Ах да, конечно! Я ведь до сих пор не знаю, как я сюда попала.
– Должен признаться, при обстоятельствах, немало меня озадачивших. Вчера я весь день провел в наблюдении за исключительно интересным клиническим проявлением. Болезнь редкая, а лечение сомнительное. Подобный, но еще более острый случай довелось видеть в парижском госпитале. Впрочем, это вас не заинтересует. Наконец смягчение основных симптомов (в том числе и острой боли) позволило мне уйти, и я отправился домой, из-за непогоды – кратчайшим путем, через нижний город. Проезжая мимо принадлежащей общине бегинок старинной церкви, при свете фонаря в глубокой арке входа увидел священника, который что-то пытался поднять со ступеней. Света фонаря было достаточно, чтобы рассмотреть лицо. Этого святого отца я часто встречал у постелей больных, как богатых, так и бедных, но гораздо чаще – бедных. Мне он кажется человеком достойным – гораздо лучше большинства представителей своего сословия в этой стране, причем во всех отношениях: как осведомленности, так и преданности долгу. Наши взгляды встретились, и он сделал знак остановиться. В его руках оказалась женщина – без сознания. Я спешился.
«Это ваша соотечественница, – сказал священник. – Спасите ее, если она еще жива».
При ближайшем рассмотрении соотечественница оказалась учительницей английского языка в пансионате мадам Бек – без сознания, замерзшая и едва живая. Я поинтересовался, что все это значит.
Святой отец поведал, что после вечерни вы пришли к нему на исповедь, но ваш вид да еще признание…
– Интересно, что же я сказала? – полюбопытствовала я, прервав его.
– Несомненно, сообщили об ужасных преступлениях, только он не уточнил, о каких именно. Печать исповеди пресекла как его красноречие, так и мое любопытство. Искренние признания, однако, не вызвали враждебности святого отца. Кажется, он проникся столь острым сочувствием к вам, да еще в такую ужасную погоду, что счел христианским долгом проследить, как выйдете из церкви и доберетесь до дома. Возможно, таким поступком достойный человек бессознательно проявил малую толику хитрости своего сословия, желая узнать, где вы живете. Упомянули об этом в исповеди?
– Нет, напротив: старательно избегала даже намека на любой конкретный признак. А что касается исповеди, доктор Джон… Думаю, вы сочтете меня сумасшедшей, но не смогла удержаться. Полагаю, вина лежит на том, что вы называете нервной системой. Не готова выразить переживания словами, но мои дни и ночи стали невыносимыми. Жестокое одиночество повлияло на сознание. Чувство должно было или найти выход, излиться, или убить меня, точно так же (это вам понятно, доктор Джон), как если тромб или другое непреодолимое препятствие преграждает путь крови через сердце, поток устремляется по другому, смертельному руслу. Я мечтала о сочувствии, дружбе, совете, но не могла найти ничего подобного ни в комнате, ни в саду, а потому отправилась искать в церкви, на исповеди. То, что я сказала, не было ни признанием, ни рассказом. Я не сделала ничего плохого. Жизнь не была достаточно активной для темных свершений, будь то в мыслях или в реальности. Вся моя исповедь состояла из тоскливой, отчаянной жалобы.
– Люси, вам необходимо сменить обстановку – желательно отправиться в путешествие, причем на полгода, не меньше! Ваша спокойная натура становится чересчур возбудимой. Долой мадам Бек! Неужели маленькая жизнерадостная вдовушка настолько безжалостна, чтобы обречь свою лучшую учительницу на одинокое затворничество?
– Мадам Бек ни в чем не виновата, – возразила я. – И никто не виноват. Не смейте никого порицать.
– В ком же тогда причина, Люси?
– Во мне, доктор Джон, во мне. А еще в той великой абстракции, на чьи широкие плечи я готова возложить тяжкое бремя вины, которое они без труда выдержат: в судьбе. Виноваты только я и судьба.
– В таком случае «я» должно в будущем стать осторожнее, – с улыбкой заключил доктор Джон.
Очевидно, моя беспомощная грамматика показалась ему забавной.
– Перемена климата, воздуха, обстановки – таково мое предписание, – заключил практичный молодой врач. – Но вернемся к нашим баранам, Люси. Пока что отец Силас, со всей его хитростью (поговаривают, что он иезуит), не узнал ничего нового, поскольку вместо того, чтобы вернуться на рю Фоссет, вы потеряли сознание от горячки…
– Нет-нет! – опять перебила я доктора. – Лихорадка началась этой ночью. Не приписывайте мне бред: точно знаю, что была в своем уме.
– Отлично! Несомненно, вы мыслили так же четко, как я сейчас. Блуждания завели вас в точку, противоположную пансионату. Возле церкви бегинок, под дождем и ветром, в полной темноте, вы потеряли сознание и упали. Священник пришел на помощь, а потом, как известно, подоспел и доктор. Вдвоем мы нашли фиакр и привезли вас сюда. Несмотря на почтенный возраст, отец Силас сам принес вас в гостиную, уложил на диван и наверняка остался бы рядом до первых признаков улучшения, да и я тоже, но, как назло, нас обоих срочно затребовали к тому умирающему пациенту, которого я недавно оставил. Следовало исполнить непреложный долг: последний визит доктора и обряд священника. Без промедлений. Мы с отцом Силасом отправились к больному, матушка проводила вечер у знакомых, и вас поручили Марте, оставив указания, которые она, судя по всему, успешно выполнила. Итак, вы католичка?
– Пока нет, – ответила я с улыбкой. – Только не говорите отцу Силасу, где я живу, не то он постарается обратить меня в свою веру, однако при встрече передайте, пожалуйста, глубокую благодарность. Если когда-нибудь разбогатею, непременно пожертвую деньги на благотворительность. Смотрите, доктор Джон, ваша матушка просыпается. Пора распорядиться, чтобы принесли чай.
Грэхем позвонил в колокольчик, а когда миссис Бреттон выпрямилась в кресле – негодуя на себя за уступку природе и намереваясь решительно отрицать, что спала хотя бы минуту, – с улыбкой пошел в наступление:
– Баюшки-баю, мама! Поспите еще. Во сне вы – сама невинность.
– Во сне, Джон Грэхем! О чем ты? Сам знаешь, что я никогда не сплю днем: может, забылась на пару минут, вот и все.
– Да-да, конечно! Нежное прикосновение серафима, легкая дремота феи. Мама, в подобных случаях вы всегда напоминаете мне Титанию[162]162
Титания – королева фей, супруга Оберона.
[Закрыть].
– А все потому, что сам ты невероятно похож на Боттома[163]163
Боттом – зд.: чудовище.
[Закрыть].
– Мисс Сноу, вам когда-нибудь приходилось слышать что-нибудь подобное остроумию моей матушки? Это самая находчивая женщина среди представительниц своего возраста и габаритов.
– Приберегите комплименты для себя, сэр, и не забудьте о собственных размерах, которые тоже заметно тяготеют к увеличению. Люси, правда, мой сын похож на Джона Булля[164]164
Джон Булль (букв. – Джон Бык) – кличка, собирательный образ типичного англичанина.
[Закрыть] в молодости? Раньше был худым, как угорь, а теперь начинает приобретать драконовскую тяжеловесность – комплекцию любителя стейков. Осторожнее, Грэхем! Если растолстеешь, отрекусь от тебя.
– Не верю! Скорее уж от самой себя! Я в ответе за благополучие старушки, Люси. Она высохнет в зеленой и желтой меланхолии, если вдруг утратит шесть с лишним фунтов порока в качестве объекта ежедневных нотаций. Они наполняют жизнь смыслом, поддерживают дух!
Мать и сын стояли лицом к лицу по обе стороны камина. Реплики звучали не очень ласково, однако взгляды щедро искупали словесную перепалку. Не оставалось сомнений, что главное сокровище миссис Бреттон таилось в груди сына, где билось драгоценное сердце. Что же касается Грэхема, то сыновняя любовь уживалась в его душе с другой привязанностью, а поскольку новое чувство родилось недавно, именно оно получило львиную долю внимания. Джиневра, Джиневра! Догадывалась ли уже миссис Бреттон, к чьим ногам молодой идол возложил свое сердце? Смогла бы одобрить выбор? Этого я не знала, однако предполагала, что если бы она увидела, как мисс Фэншо обращается с Грэхемом, как манипулирует холодностью и кокетством, неприязнью и обольщением; если бы ощутила испытанную сыном боль; если бы, подобно мне, заметила, как подавляются его благородные чувства, как получает незаслуженное признание и предпочтение тот, кто превратился в инструмент его унижения, – тогда, несомненно, миссис Бреттон провозгласила бы Джиневру слабоумной или развращенной особой, если не той и не другой сразу. И я бы с ней согласилась.
Второй вечер прошел так же мило, как первый. Даже еще приятнее. Мы наслаждались спокойной беседой. О давних неприятностях не упоминали, предпочитая укрепить знакомство. Я чувствовала себя легче, свободнее, уютнее. Той ночью не заснула в слезах, как обычно, а спустилась в страну видений по тропинке, вьющейся среди приятных мыслей.
Глава XVIII
Мы ссоримся
В первые дни моего пребывания в доме Бреттонов Грэхем ни разу не присел рядом, не остановился напротив во время привычных хождений из конца в конец гостиной. Он никогда не выглядел задумчивым или больше, чем обычно, погруженным в себя. Однако я помнила о мисс Фэншо и ждала, что рано или поздно заветное имя сорвется с осторожных губ. Держала уши и мозг в постоянной готовности к болезненной теме, хранила под рукой терпение и регулярно пополняла запас сочувствия, чтобы в нужную минуту рог изобилия мог излиться во всей полноте. Наконец однажды, после недолгой внутренней борьбы, которую я заметила с уважением, доктор Джон отважился заговорить о главном. Тема была обозначена деликатно, едва ли не анонимно.
– Слышал, что ваша подруга проводит каникулы в путешествии.
«Да уж, подруга!» – подумала я, однако возражать не стала: пусть называет как хочет, а я буду думать по-своему. Подруга так подруга. И все же ради эксперимента не удержалась от вопроса: кого он имел в виду?
Доктор Джон присел к моему рабочему столу, взял в руки клубок ниток и начал машинально разматывать.
– Джиневра – мисс Фэншо – отправилась на юг Франции вместе с супругами Чолмондейли?
– Верно.
– Вы с ней переписываетесь?
– Вас изумит то обстоятельство, что я ни разу не задумалась о подобной привилегии.
– А вы видели написанные ею письма?
– Да, несколько. Все были адресованы дяде.
– В них наверняка нет недостатка в остроумии и наивности. В душе мисс Фэншо так много живости и так мало хитрости.
– Месье Бассомпьеру она пишет достаточно обстоятельно: тот, кто платит, имеет право знать все.
(На самом же деле послания Джиневры богатому родственнику обычно представляли собой деловые документы – недвусмысленное требование денег.)
– А почерк? Должно быть, отличается ровностью, легкостью, благородством?
Так и было, что я честно подтвердила.
– Искренне верю, что все, что она делает, получается хорошо, – заметил доктор Джон, а поскольку я не спешила восторженно поддержать высокую оценку, добавил: – Близко зная мисс Фэншо, можете ли назвать качество, которого ей недостает?
– Кое-что она делает очень хорошо.
«Особенно флиртует», – добавила я мысленно.
– Когда, на ваш взгляд, она вернется в город? – спросил Грэхем после недолгого молчания.
– Позвольте объяснить. Вы оказываете мне слишком много чести, приписывая степень близости к мисс Фэншо, которой я не имею счастья наслаждаться. Никогда не хранила ее секретов и планов. Настоящих друзей прекрасной Джиневры найдете в иной сфере: например, в семействе Чолмондейли.
Он явно подумал, что меня гложет болезненная ревность сродни его собственной!
– Простите ее, – попросил доктор Джон. – Не судите строго. Светский блеск влечет мисс Фэншо, но скоро она поймет, что эти люди пусты, и вернется к вам с возросшей привязанностью и укрепившимся доверием. Я немного знаком с четой Чолмондейли: примитивные, самовлюбленные, эгоистичные. Поверьте, в глубине души Джиневра ценит вас в десять раз больше.
– Вы очень добры, – отозвалась я лаконично.
Отрицание приписанных заслуг жгло губы, однако я не позволила ему вырваться и согласилась предстать униженной, отверженной и страдающей наперсницей великолепной мисс Фэншо. Должна признаться, читатель, что смирение далось непросто.
– И все же, – продолжил Грэхем, – утешая вас, я не в состоянии утешиться сам. Не смею надеяться, что она оценит меня по достоинству. Амаль – ничтожное существо, однако, боюсь, мисс Фэншо отдает предпочтение именно ему. Ужасное заблуждение!
Терпение мое лопнуло, причем внезапно, без предупреждения. Очевидно, болезнь и слабость подточили туго натянутый канат, и он не выдержал испытаний.
– Доктор Бреттон, – заговорила я горячо. – Больше всех заблуждаетесь вы. Во всех смыслах, кроме единственного, вы искренний, сильный, здравомыслящий, проницательный человек. И лишь в одном отношении предстаете не кем иным, как рабом. Заявляю, что в сердечной склонности к мисс Фэншо вы не заслуживаете уважения, и я вас не уважаю!
С этими словами я встала и в глубоком волнении покинула комнату.
Эта драматичная сцена произошла утром, а вечером предстояло снова встретиться с Грэхемом. Вскоре я поняла, что поступила опрометчиво. Доктор Бреттон не был слеплен из обычного теста или другого вульгарного материала. Хотя внешняя форма свидетельствовала о мужской силе и выносливости, под обманчивой оболочкой таилась почти женственная тонкость, ранимость и деликатность – куда более изысканная, чем можно было предположить даже после нескольких лет знакомства. Действительно, до тех пор, пока чрезвычайно жесткое столкновение с его нервами не выдавало их чрезвычайную чувствительность, эту сложную конструкцию следовало игнорировать, тем более что способность к сочувствию не была его яркой чертой. Быстро понимать и принимать переживания другого человека – особое качество. Некоторые характеры обладают и тем и другим, некоторые не имеют ни одного. Доктор Джон был в полной мере наделен лишь одним свойством – чувствительностью, однако, несмотря на утверждение об отсутствии в такой же степени второго, читатель не должен впадать в крайность и провозглашать его холодным эгоистом. Напротив, это был добрый, великодушный человек: стоило только рассказать о своей нужде, как ладонь его раскрывалась. Стоило облечь горе в слова, как слух тут же обращался навстречу, – но ожидание тонкости восприятия, чуда интуиции неизбежно вело к разочарованию. Тем вечером, едва доктор Джон вошел в гостиную и попал в свет лампы, я сразу поняла, как работает механизм его души.
К той, что назвала его рабом и торжественно лишила уважения, он должен был питать особые чувства. Возможно, метафора была избрана верно, а отречение прозвучало справедливо. Он не пытался возражать. Сознание его честно прорабатывало унизительную возможность. В обвинении он искал причину неуспеха, столь болезненно лишившего покоя. Погрузившись в самокритичный внутренний монолог, со мной и даже с матушкой он общался до холодности сдержанно. И все же в его внешности, даже в момент глубокой депрессии обладающей высшей мужской красотой, не ощущалось ни тени злобы, жестокости, затаенной вражды, ничтожности. Когда я подвинула его кресло к столу, что поспешила сделать прежде служанки, и дрожащими руками подала чашку чая, он произнес «спасибо, Люси» с такой доброй интонацией низкого бархатного голоса, которую мой слух воспринял с обычной глубокой благодарностью.
С моей стороны существовал один-единственный план: искупить предосудительную несдержанность, тем самым заслужив право на спокойный ночной сон. Ситуация казалась невыносимой. Я даже не пыталась притвориться, что способна вести войну. Школьное одиночество, монастырская тишина и неподвижность – все, что угодно, – казалось лучше жизни в ссоре с доктором Джоном. Что же касалось Джиневры, то она могла обрести серебряные крылья голубки или другой почитаемой птицы, чтобы вознестись на самый высокий шпиль среди самых высоких звезд, куда самый высокий полет фантазии обожателя соблаговолит поместить созвездие ее достоинств. Я знала, что больше ни разу в жизни не осмелюсь оспорить ни одно, даже самое неблагоразумное решение. Как ни старалась я поймать взгляд Грэхема, он то и дело ускользал и, ничего не говоря, удалялся, ввергая в растерянность. После чая, грустный и тихий, доктор Джон сел читать книгу. Хотелось подойти и скромно устроиться рядом, но я опасалась, что он проявит враждебность и негодование. Я жаждала заговорить, но не осмеливалась даже шептать. Но вот матушка вышла из комнаты, и, поддавшись непреодолимому сожалению, я робко пробормотала:
– Доктор Бреттон.
Он поднял глаза от книги. Взгляд не обдавал холодом или неприязнью, губы не выражали цинизма. Он желал услышать то, что я мечтала сказать. Душа его, как доброе вино, была настолько выдержанной и щедрой, что не могла прокиснуть от одного удара грома.
– Доктор Бреттон, простите меня за поспешные выводы и необдуманные слова. Пожалуйста, простите.
Он улыбнулся, хотя я еще не договорила.
– Возможно, я заслужил их, Люси. Если вы меня не уважаете, значит, я не достоин уважения. Боюсь, веду себя, как неуклюжий глупец. Должно быть, часто поступаю плохо: там, где хочу угодить, вызываю лишь раздражение.
– Этого вы не можете знать. Но даже если так, то чья вина здесь: вашего характера или чужого восприятия? Однако сейчас позвольте отказаться от слов, произнесенных в минуту гнева. Глубоко уважаю вас во всех без исключения смыслах и ситуациях. Недооценивать себя и переоценивать других – разве это не достоинство?
– Могу ли я переоценивать Джиневру?
– Я считаю, что можете; вы считаете, что не можете. Давайте согласимся на различии мнений. Простите меня, вот о чем я прошу.
– Неужели вы думаете, что я затаил злость за единственное горячее слово?
– Вижу, что не затаили: вы вообще не способны злиться, – и все же скажите просто: «Люси, прощаю!» Это избавит меня от сердечной боли.
– Забудьте про сердечную боль, как я стараюсь забыть про свою, ибо вы все-таки ранили меня, Люси. Теперь, когда боль ушла, я не просто прощаю вас, а испытываю благодарность за искреннюю благожелательность.
– Да, так и есть: я искренне желаю вам добра.
На этом наша ссора закончилась.
Читатель, если в ходе этого рассказа вам покажется, что мое мнение о докторе Джоне меняется, простите за кажущуюся непоследовательность: передаю чувства так, как чувствовала тогда; описываю понимание характера так, как понимала тогда.
Грэхем проявил присущее тонкой душе благородство и стал обращаться со мной еще доброжелательнее, чем до размолвки. Больше того: инцидент, который, по моим понятиям, должен был отдалить нас друг от друга, в некоторой степени изменил наши отношения, но не так, как я боялась. До этого пространство между нами разделяла невидимая стена: очень тонкая, прозрачная и холодная, – а теперь несколько жарких слов, пусть даже согретых гневом, растопили хрупкую пелену сдержанности. После ссоры и примирения завеса холода полностью растаяла. Думаю, что, начиная с этого дня и на всем протяжении нашей дружбы, доктор Бреттон никогда не разговаривал со мной церемонно. Казалось, теперь он знал, что если заговорит о себе и о том, что особенно занимает мысли, то непременно порадует меня и удовлетворит искренний интерес. Нетрудно догадаться, насколько часто в наших беседах упоминалась мисс Фэншо.
Джиневра! Он считал ее прекрасной, совершенно необыкновенной, с такой чистой любовью говорил об очаровании, доброте, невинности, что, несмотря на прозаическое знание реальности, даже для меня образ начал покрываться неким отраженным сиянием. И все же, читатель, должна честно признаться, что нередко мой друг говорил глупости, но я проявляла ангельское терпение, хорошо запомнив, насколько остра боль, причиненная попыткой переубедить, а тем более разочаровать его. В странном новом смысле я стала более эгоистичной и уже не находила сил отказать себе в удовольствии подчиниться его настроению и угодить его воле. Особенно абсурдным он по-прежнему казался тогда, когда сомневался, а тем более отчаивался в своей способности в конечном итоге завоевать предпочтение мисс Фэншо. Упрямее, чем прежде, в моем сознании укоренилась фантазия, что она лишь кокетничает, отвергая достойного поклонника, в то время как в сердце лелеет каждое его слово и каждый взгляд. И все же порой доктор Джон раздражал даже вопреки твердому решению все слушать и терпеть. В разгар горько-медового удовольствия он вдруг с такой силой ударял кресалом восторженного заблуждения по кремню моей решимости, что время от времени все-таки высекал искры. Однажды, чтобы унять его бесконечные душевные терзания, я осмелилась заявить, что не сомневаюсь в намерении мисс Фэншо принять его ухаживания.
Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?








































