Текст книги "ЖД"
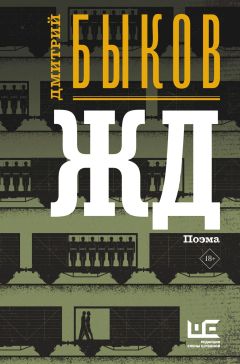
Автор книги: Дмитрий Быков
Жанр: Современная русская литература, Современная проза
Возрастные ограничения: +18
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 38 (всего у книги 45 страниц)
Громов шел по Москве, прежней и все же не прежней, замечая, что все перемены фатально вели к одному: то, от чего только что брезгливо отмахивались, после нескольких лет распрей и разрухи начинало казаться небесной манной; так рабочие, сбросив самодержавный гнет, через десять послереволюционных лет радовались и половине тех послаблений и привилегий, которыми когда-то брезговали. Так убожество позднего социализма вскоре стало казаться пределом мечтаний, образцом социального государства, могучей империей с верными сателлитами. Всякая русская реформа возвращалась к статус-кво, ухудшенному еще на несколько порядков; вот, стало быть, и мы после решительной схватки с ЖДами получим то же самое, только хуже. И я посильно поучаствовал, спасибо большое. Нет, тут была не обида – Громов отлично понимал, что следование долгу и при этом раскладе оставалось лучшей участью; какая разница, к чему все пришло? Важен не результат – он во все времена одинаков, – а честность перед собой: я выбрал единственный вариант судьбы, при котором такая честность достижима.
Послышался нарастающий гул. Громов оглянулся. Он шел по ночному Ленинскому проспекту – здесь никогда не бывало летом так пустынно; сейчас, вот уже минут десять, ему не встречалось ни одной машины, что за черт! Теперь мчалась целая кавалькада – на страшной скорости мимо него пронеслось несколько десятков иномарок; он еще успел застать начало этих гонок – главного развлечения московской молодой элиты. На фронтах никого из них сроду не видали, зато на ночных московских магистралях они готовы были рисковать сколько угодно. Громов подумал, что охотно передушил бы их – и что, если солдатики по возвращении с подложной войны обратят оружие против власти, он к ним примкнет не без удовольствия. Беда, однако, в том, что они либо не обратят – либо, обратив и добившись своего, выстроят мир хуже и жальче нынешнего, и это будет новым наглядным подтверждением вечного здешнего закона. Что это будет за мир? Стариков выселят в поле, а новая элита, из бывших воинов, устроит в центре гонки уже на танках – после войны им понадобятся ощущения поострей…
В переулках, где мы отлюбили… Нет, сейчас все-таки еще не настоящая грусть. Совсем горько тут станет, когда начнет скрестись по асфальту сухая листва, побегут пятилапые кленовые листья, корябая истрескавшийся тротуар, словно пытаясь удержаться. Странно, он редко бывал счастлив в любви и еще меньше счастья приносил тем, кто любил его, – а вспоминает обо всем этом как о лучших временах: неужели и здесь исполнилась общая закономерность и нынешняя его жизнь хуже прежней?
Он дошел до поворота на Кравченко, прошел мимо пустых, спящих троллейбусов автопарка – некоторые спали с открытыми дверями, как люди дремлют с открытыми ртами. Неожиданно во дворах послышался топот и свистки. За кем-то гнался ночной патруль. Громов вжался в стену ближайшего дома.
– Стоять, бля! – заорали во дворе. В следующую секунду раздался выстрел. Похоже, патруль шутить не собирался. Рядом с Громовым распахнулось окно.
– Лезь сюда, идиот, – прошептал невидимый жилец.
Громов не заставил себя уговаривать. Он подтянулся и перевалился через подоконник.
– Обалдел совсем, да? – сказал шепот. – По ночам шляешься. Сейчас бы шлепнули к черту…
Громов присмотрелся к нежданному спасителю. В первый момент он не понял, мужчина перед ним или женщина. Кажется, юноша, бритый наголо, напоминающий новобранца. Спаситель решительно шагнул к окну, закрыл его, опустил штору, и Громов ясно увидел, что это девушка, худая, высокая и носатая; конечно, все это было сном, потому что это была Катя Штейн, а Кате Штейн неоткуда было взяться в городе в разгар войны.
– Чего уставился? – сказала она зло.
– Катя, – прошептал Громов.
Она подошла ближе и вгляделась.
– Громов?
– Да.
– Что, с фронта сбежал?
– Да нет, в отпуске.
– А, – сказала она вполголоса. – Доигралась.
– Почему доигралась?
– Сдавать пойдешь.
– Почему сдавать? Ты с ума сошла?
– А чего ты со мной будешь делать? Ты же офицер, нет? Служебный долг, присяга, все дела.
За окном топотал и свистел патруль.
– Черт, – сказал Громов. – Катька, но ты же…
Меньше всего он ожидал увидеть в Москве эту девочку из своей прежней жизни, ЖД, каких мало было даже в тогдашней московской стихотворческой братии.
– Что я? – резко спросила она. – Договаривай, Громов, договаривай.
Прокурорский тон – это было что-то новое. Ей, значит, теперь что-то лет двадцать шесть. Громову никогда не нравились ее стихи, не нравилась и она сама – девочка из типичнейшей московско-хазарской семьи, с папой-урологом, с мамой – бывшей красавицей в восточном стиле, с сестрой, чьим талантам принято было умиляться, девочке пять лет, а уже и танцует, и рисует… Рисовала сплошных балерин на пуантах, в огромных пачках. Это была неприятная семья, что говорить, – самодовольная, заносчивая, в таких семьях часто вырастали пишущие девочки, подражавшие то Бродскому, то Мандельштаму. Громов однажды был у Кати Штейн на дне рождения, ему страшно не понравилось там, но вместо того, чтобы уйти, он с болезненным любопытством наблюдал чуждую среду: так со смесью отвращения и восторга рассматривают насекомое, распятое под стеклом. Катина семья была настолько типична, что в этом просматривалось уже нечто героическое: чистоту жанра Громов уважал в чем угодно, даже в пошлости.
– Почему ты здесь? – спросил Громов.
– А где мне быть?
– В Штатах, например.
– Я здесь родилась, – сказала Катя с вызовом. – Это моя страна, и я отсюда никуда не денусь.
– Но это сейчас опасно, – сказал Громов неожиданно мягко. Он чувствовал к ней уважение.
– Опасно, – согласилась она.
– Ага, – сказал Громов. Он не знал, о чем еще говорить. Он вообще разучился говорить с людьми.
– Ну, спрашивай, – подначила она. – Ты ж у нас федеральный офицер. Или сразу сдашь?
– Я боевой офицер, – сказал Громов с нажимом. – Штатских не сдаю.
– Тоже трогательно. Сразу убиваешь.
– Я убиваю на войне, – сказал Громов.
– Ай, да какая разница. – Она махнула рукой и отвернулась.
Громов молча курил, разглядывая ее. В нынешней Кате Штейн почти ничего не было от той уютной девочки, и теперь она не врала. Это нравилось ему. Он начал догадываться о причинах ее безумного упрямства, но обсуждать их пока не решался.
– Никогда так не будет, чтобы все наши уехали, – сказала она. – Понял?
– Я и не против.
– Это моя страна и мой язык, ясно?
– Ясно.
– У меня на все это не меньше прав, чем у тебя.
– А я и не спорю.
– Ну и не спрашивай тогда, что я здесь делаю.
– Диверсии устраиваешь?
– Да какие тут теперь диверсии. Скоро само все рухнет.
– Может, и так.
– Громов, – сказала она, уставившись на него в упор. – А ты мне нравился, между прочим.
– Да ну. Вот бы не подумал.
– Я тебе хамила от смущения. Дура была.
– Я тоже хамил, наверное.
– Ты не хамил. Ты молчал и не снисходил. А писал прилично, мне нравилось. Если бы тебя не было, а только стихи были, – ты бы много выиграл.
– Ну а теперь и стихов нет, – сказал он.
Действительно, он подходил стране даже в мелочах: был неловкий, неуклюжий, не умеющий жить с людьми человек, сочинявший приличные стихи. Теперь и с людьми не живет, и стихов не сочиняет.
– И как оно на войне? Много наших убил?
– Немного.
– Почему?
– Не пришлось. Война сейчас позиционная.
– Было бы в Москве подполье, я бы тоже ваших убивала, – сказала она. – Но подполья нет. Мало нас, Громов, понимаешь?
– Понимаю. Я вообще тебя первую вижу.
– Ты Володьку Усова помнишь?
– Помню.
– Ну вот, он меня и спрятал. Его призвали, он мне ключи отдал. Он один жил.
Володька Усов был полусумасшедший графоман, – кто его такого мог призвать?! Здоровое молодое хамье раскатывало по улицам в джипах, искало острых ощущений, – а убогий Володька Усов, не умевший отжаться от пола и ничем, кроме стихов, не интересовавшийся, где-то служил; вот уж кого Громов не мог представить в окопе!
– Тут патрулей мало, район спокойный, – сказала Катя Штейн. – Но это пока. Скоро наведаются, это уж как пить.
Она села к столу и закурила.
– Это чудо еще, что из соседей никто не сдал. Видишь, башку обрила, думаю – не узнают. Обязательно узнают в конце концов.
– Кать, – осторожно сказал Громов. – А чего ради все-таки?
– А чего ради мне валить отсюда? С какой стати? Пусть эти ваши суки едут в свою Гиперборею, понял?
– Ну, шла бы на фронт, в конце концов…
– Да чего мне твой фронт, Громов? Фронт, в рот… Сам иди на фронт, если тебе так нравится.
– Я и пошел.
– А я не хочу! Я не хочу убивать людей, понял, Громов? И я хочу тут жить.
– Нет, я понимаю, – сказал Громов. – Но видишь, как вышло. Этот город не любит тебя.
– А, – снова махнула она рукой. – Ну да, конечно. Ты же теперь тоже хазарофоб, вояка хренов. Вот такие, как ты, нас и сдавали всегда.
– Слушай, хватит, а? Я пока тебя никому не сдал.
– Пока? Спасибо тебе, Громов! Низкий поклон! Пока не начинается война – вы все милейшие люди, а приходит гестапо – и вы нас сдаете списочно, по подъездам, а когда нас уводят в гетто – говорите, что воздух стал чище, чесноком не пахнет…
– Катя, – спокойно сказал Громов. – Есть у тебя аргументы, кроме гетто?
– У меня для тебя, дурака, вообще аргументов нет. Иди стучи.
– Катя!
– Заткнись, Громов. Зря я с тобой вообще трепалась. Просто насиделась дома в углу, говорить не с кем, вижу – живой человек.
– А как ты меня впустила?
– А чего мне тебя не впустить? Вижу – стоит идиот, сейчас повяжут. Меня тоже однажды спасли, когда я днем в магазин вышла. Мне же редко кто продукты приносит, Громов. Осторожные все стали, а напрягать неудобно. Соседи приличные, грех жаловаться, но я сама стараюсь закупаться. Ночные-то лавки позакрывались все. Выхожу днем вся закутанная, платок, юбка длинная… А один мент все-таки заподозрил: документы. Я – бежать, хорошо, мужик какой-то в троллейбус втащил. А то взяли бы – и все, сидеть. Это в лучшем случае.
– Ну уж не расстреляли бы…
– А кто знает? Тут раз на раз не приходится. В общем, когда облавы, многие впускают. А то гребут кого ни попадя. Недавно врача загребли, он шел к однокласснице. Ей плохо, скорая не едет, она позвонила другу, он к ней пошел, а его загребли. Сюжет был по телевизору. Типа правильно сделали, бдительность. Он молдаванин оказался. Ты представляешь, Громов?
Они замолчали.
– Как же тебя родители оставили?
– Папа умер. А мама после его смерти совсем с ума сошла, ей главное было вывезти Лорку. (Лоркой звали младшую сестру, кладезь разнообразных дарований.) Я ей соврала, что выхожу замуж.
– И она поверила?
– А ей думать некогда было, Громов. Ты же помнишь, как тогда уезжали.
– Да, – сказал Громов. – Быстро.
– Ну вот.
– Слушай, – не понял он. – Ну, если бы какая-то дикая любовь… другое дело. Но ведь ты одна.
– А ты думаешь, Громов, бабы только из-за вас могут что-то делать, да? – Она склонила голову набок и сощурилась. Жаль, он не мог разглядеть ее как следует, – нельзя было зажигать свет, квартира считалась пустой, увидят – донесут…
– Нет, почему же.
Он не знал, что возразить, да и не хотел возражать. Пожалуй, в эту секунду он любовался Катей Штейн.
– А есть у тебя на что жить-то?
– Мать оставила.
Он не поверил. Прожить на сбережения больше двух лет нереально при самой жесткой экономии, особенно после запрета доллара. Громов решил не расспрашивать, но понял, что мир не без добрых людей.
– И подрабатываю, – сказала она с вызовом. – Детей по-прежнему надо в институт готовить. А русского языка ваши как не знали, так и не знают. Есть пара надежных детей, родители не сдадут, я дешево беру.
– Дело хорошее.
Он опять замолчал.
– Я пойду, наверное, Кать. Они убежали вроде.
– Оставайся, я тебе здесь постелю. Утром уйдешь. Расскажи хоть, что на войне.
– Ничего на войне. Бегаем друг от друга.
– Никогда не понимала, с чего ты туда пошел.
– Ну вот видишь. Ты не понимаешь, зачем я туда, я не понимаю, зачем ты сюда…
– Я-то никуда не ушла. Где была, там и осталась.
– Ну а я… тут сложно. – Громов сам радовался возможности проговорить это вслух, – в разговоре оформляется то, чего самому себе не скажешь; все-таки другой человек нужен. – Бывают обстоятельства, когда стихи писать нельзя. Вообще ничего писать нельзя. А когда человек пишет, – ты должна понимать, сама писала, – у него масса комплексов, с которыми просто жить немыслимо. Мнительность там, я не знаю, подозрение, что все вокруг врут, включая пейзажи; что надо все время докапываться до какой-то истины… Не будешь работать – или помрешь, или рехнешься. Вот я и почувствовал, что обычная жизнь – уже не мое и надо куда-то себя деть. Оказалось, это не худшее. Не так тошно, как здесь стало в последние годы. И главное – там, понимаешь ли… Там некогда думать, что я не могу больше писать.
– А ты не можешь? – спросила она с живым интересом. Все-таки кое-что общее у них было.
– Не могу.
– Обстановку сменить не пробовал?
– Видишь, сменил, – усмехнулся он.
– Нет, я в другом смысле. Может, тебе надо было уехать?
– Может. Здесь что-то такое случилось, как будто весь воздух выкачали. Какое там писать – вообще все смешно стало. Любить, думать… Иные идут в солдаты от несчастной любви, вот и у меня нечто вроде. Я на людей смотреть не мог, понимаешь? Я не понимал, чем они занимаются.
– «Порой во сне я думаю, зачем живут они, но смысла не нахожу», – пропела она полушепотом.
– Да, близко к тому. «И не мог им простить того, что у них нет тебя и они могут жить». Вот и я смотрю – они не пишут и живут, а как я могу жить и не писать? Для чего я еще гожусь? Ты по себе должна знать, что это заменить нечем. Никакая любовь не помогает.
– Да, да. Любовью вообще бесполезно замещать… Если бы я уехала и влюбилась, у меня все равно было бы чувство… ну, не знаю. Картон вместо хлеба. Ну ладно. Я тебе чаю сделаю все-таки.
Она пошла на кухню, зажгла газ под чайником и вернулась.
– Усов как питекантроп жил. Даже электрочайника нету.
…Потом они разговорились – он выложил кое-какие подробности первого года войны, она рассказала о патрулях, облавах, бесконечных предосторожностях, с которыми покидала убежище. Он начал догадываться о быте немногих ЖД, оставшихся тут. Они занимались чем-то вроде диверсий, но не слишком опасных: им до сих пор казалось, что в нынешней цивилизации все решают компьютеры. Хакерствовали, влезали в Сеть, развешивали правду о военных действиях (то есть брали официальные сводки и переписывали наоборот) – все это никому не мешало, но разыскивали их всерьез, как молодогвардейцев.
– Кстати, – сказал Громов со смехом. – Ты знаешь, что они договорились?
– Кто?
– Кто, кто… Наши с вашими. Я от Бахарева слыхал, он теперь шишка.
– Как договорились? – не понимала она.
– Обычным образом. Договорная война.
– Этого не может быть, – сказала она с такой страстной убежденностью, что Громов устыдился собственного легковерия.
– А почему?
– Ваши еще могут. А наши никогда.
– Как же, как же. Ваши ведь чистые. Это наши за грош родину продадут.
– Наши всякие, – сказала она. – Пойми, я не хочу сейчас наезжать… или что-то… Будем считать, что перемирие, два человека на голой земле. Я просто знаю. Наши могут быть плохие и хорошие, но они не будут договариваться.
– Видишь, я тоже думал, что наши не будут.
– Ты не понимаешь. Это в крови.
– А наша кровь – водица? – спросил Громов.
– Не знаю. – Она хотела сказать что-то еще, но был барьер, которого в разговоре с чужими ЖД не переходят. – Наши не помирятся.
– Слушай! – Он встал и подошел к Кате Штейн. – А не может быть такого закона, при котором мы как-то уживались бы? Я честно не знаю, самому интересно.
– Нет, – твердо сказала Катя Штейн. – Такого закона быть не может.
– Почему? Мы же с тобой уживаемся!
– Уже два часа целых уживаемся. Но это временно. И потом, всех же не сделаешь поэтами, да? Ладно, ложись. Я сейчас постелю.
Она постелила ему на старом матрасе. Громов долго лежал без сна, смотрел на белый фонарь, яркий даже сквозь штору, на тени веток на стенах и потолке. Хорошо жить на первом этаже. Иногда далеко, на Ленинском, ревели машины ночных гонщиков.
В половине седьмого утра он проснулся, взглянул на часы, оставил благодарственную записку и тихо вылез из окна, осторожно закрыв его.
6
– Надо платить за квартиру, – сказал отец.
Отношения с отцом были у Громова странные: когда-то они отлично понимали друг друга в главном и ничего не проговаривали вслух. Это было особенное целомудрие мужского взаимопонимания и дружбы. Теперь, увы, все выглядело подделкой – они молчали не потому, что хорошо понимали друг друга, а потому, что им нечего было сказать.
– Я заплачу, – сказал Громов. – Чего тебе таскаться, отдохни. Мне все равно в паспортный стол и еще в поликлинику эту идиотскую.
– Там очереди везде.
– Ничего, постою. Делать все равно нечего.
– Ты знаешь, – сказал отец после долгого молчаливого чаепития, – ты все-таки не торопись с выводами. У нас тут, конечно, убого. Я знаю, что ты скажешь. Погоди. Убого, да, но если бы тебе было сколько нам, – Громов заметил это «нам», хотя отец был старше матери на семь лет, все-таки они, видно, очень несчастны, если уже сплотились в столь неразрывное целое, – если бы ты был, как мы, на пенсии, ты бы понял. У всего этого есть свои удобства. Не думай, пожалуйста. Ты, наверное, осуждаешь нас, что мы переехали. Это ведь была и твоя квартира, но…
– Ладно, пап, ладно.
– Нет, погоди. Тебя давно не было, я разучился с тобой разговаривать. Пойми, что так лучше. Тут зелено, – ах, опять не то. Я не про то говорю. Я хочу сказать, что здесь тот темп жизни, который нам подходит. Ты понимаешь?
– Понимаю, – машинально сказал Громов, отхлебывая жидкий чай; и чай они тут пили жидкий! Неужели так экономили, неужели им не присылали пособия за сына-офицера? Чай-то могли себе позволить!
– Тут все удобно, под рукой, – торопливо продолжал отец, – и маме удобно, ателье близко, ей одно надо чинить, другое… Мы не покупаем нового, ты знаешь. Мы тебе откладываем.
– Не надо мне откладывать! – разозлился Громов.
– Ну, не сердись. Я все не то говорю. Я хочу тебе сказать, что такая жизнь, как у нас… не надо ее осуждать.
– Я никого не осуждаю.
– Но я же вижу. Я сам понимаю, что было лучше. Но и ты понимай, мы все-таки уже с матерью…
– Господи, пап. Я и так об этом много думаю, как вы здесь.
– Ну ладно. Все-таки сходи куда-нибудь… к друзьям… Что тебе в эту сберкассу?
– Нет, мне все равно на регистрацию. Это же по пути, наверное?
– По пути, да…
«По пути всякой плоти», – сказал бы ему отец, если бы мог. По вечному пути, по которому пройдешь и ты, – тебя тоже постепенно перестанут интересовать все вещи, кроме собственной физиологии; мир устроен справедливо – так, чтобы уходящий утратил почти все способности и не мог уже в полную меру переживать ужас своего распада и ухода; так, чтобы и миру не жаль было терять отработанный материал. Ты будешь когда-нибудь как мы, и сам захочешь жить на окраине, по образцу спального района семидесятых, устроенного как раз для стариков, потому что и время было старческое, все в прошлом, – жалкое, неуверенное в себе. Ты когда-нибудь непременно приедешь сюда – и поймешь, что не надо было никого осуждать, но сказать об этом будет некому. Всякий старик утешается тем, что молодые когда-нибудь раскаются, – других утешений в его убожестве нет. Все это Громов-отец обязательно сказал бы сыну, постаравшись передать всю свою заваленную глыбами старости тоску и нежность, – но сил у него уже не было, как и ни на что и ни у кого уже не было сил.
В спальных районах стариков действительно загружали по полной программе: у них едва оставалось время проглотить обед. Жизнь здесь – стихийно или по иезуитскому плану социального министерства – была организована так, чтобы старики плавно перетекали из одной очереди в другую, устраивая свои пустяковые дела. Очередь стояла за всем – за дешевым обезжиренным творогом в молочной палатке, за справкой, которую требовалось возобновлять ежемесячно, за одеждой, выдаваемой по социальной программе и все равно никуда не годной, – но старики, по вечной неуверенности и скопидомству, брали и такую. Все они жили в ожидании загадочного крайнего случая, не догадываясь, что крайний случай давно наступил и что в их ситуации такое ожидание было непозволительным оптимизмом.
Старики не только не жаловались – они были горды такой жизнью. Очереди были их клубами, их митингами, их средством самоутверждения. Громов заметил, до чего медленно все тут делалось: в очереди на обследование старики успевали обсудить десятки своих болезней, в очередях на оформление пенсий – неблагодарность детей, в очередях за хлебом – дороговизну; все были больны и еле-еле скрипели, но этот скрип мог продолжаться бесконечно. Все были бессмертны.
Громов высидел подобную очередь в паспортный стол, оттуда его отправили за справкой в ЖЭК, в ЖЭКе должны были выдать бумажку о метраже родительской квартиры и о том, что родители не нуждаются в дополнительной жилплощади для размещения сына, прибывшего в отпуск; если бы нуждались, пришлось бы идти еще в инспекцию по распределению жилья, где должны были бы выдать справку о том, что свободной жилплощади в районе нет, но можно получить компенсацию в размере 13 рублей 29 копеек, обязательно с простыми числами; отказ от получения компенсации был чреват штрафом на сумму пяти компенсаций, который вычитался из пенсии. В ЖЭКе пили чай две тетки, несмотря на июль, в мохеровых кофтах, высоких шапках и зимних сапогах. Громов сначала заподозрил, что это чучела, но тетки периодически прерывали чаепитие и запускали по одному человеку; к часу дня он получил бланк, который следовало заполнить в ближайшей сберкассе, но сберкасса работала по прихотливому графику – по четным числам с утра, по нечетным с обеда, в первую половину месяца обед был с часу, во вторую с двух, к тому же была больна кассирша, и Громову пришлось час курить на качелях, на детской площадке в серо-зеленом дворе, обрызганном теплым дождиком. Маленькая девочка, похожая на старушку, крутилась на скрипучей карусели, отталкиваясь ногой и выкрикивая монотонное «Трамбал! Трамбал! Трамбал!». Что это было – то ли подслушанное у больной бабки название трамала, то ли странно искаженный трамвай, – Громов не догадался. По мусорным бакам шныряли пестрые кошки.
К дверям Сбербанка Громов подошел за десять минут до конца обеда, но выяснилось, что перед его началом старики успели записать свои номера и тут же восстановили искусственно прерванную очередь; Громов был теперь пятнадцатым. Все стояли за пенсией, у всех пахло изо рта, и у каждого в горле что-то булькало. Каждый, подходя к окошечку, униженно здоровался, после чего заявлял, что он инвалид второй группы. Далее извлекался ворох обтерханных справок. Девушки в Сбербанке высохли прежде времени, ибо выслушивали эти разговоры ежедневно, с перерывом на чай с булкой или китайскую лапшу, и от едкой, с поддельными специями лапши сохли дополнительно. Вот что Громов охранял, вот за что воевал.
Он отстоял очередь в Сбербанк, вернулся в ЖЭК, отстоял очередь за справкой, узнал все о состоянии здоровья пяти старух, томившихся в приемной под неизменным антиалкогольным плакатиком, и к семи вечера подошла его очередь регистрироваться. Без пяти семь пыльный милиционер закрыл паспортный стол.
– Извините, – сказал Громов, – я в отпуске, может быть, можно…
– Послезавтра, – сказал мент.
– Почему не завтра? – опешил Громов.
– Что значит – почему? – сухо спросил мент. – Существует известный распорядок.
– Но мне надо в комендатуру…
– Что значит – в комендатуру? – спросил мент. – Всем надо в комендатуру. Надо было вовремя приходить, и вы бы имели успеть. Но как вы пришли, так вы и имеете. Не задерживайте, не загораживайте.
– Слушай, служивый, – сказал Громов. – Я офицер, у меня тоже служба…
– Что значит – тоже служба? – спросил мент. – Если вы будете туг разглагольствовать, если имеете тут загораживать, то мы можем поговорить иначе, и тогда выяснится, какая служба.
Громов повернулся и вышел. Он все уже понял и, если честно, втайне догадывался о том, что не зарегистрируется сегодня. Страна превратилась в обитель самоуничтожающейся молодежи и непрерывно, как дворовая карусель, скрипящих по кругу стариков. Громов понял, что тоже стоит в очереди на эту участь. Идти домой пешком ему было невыносимо. Он сел в троллейбус. От паспортного стола до дома было три остановки.
Троллейбус ехал медленно, тоже скрипя и дребезжа. Тут все делалось медленно, ме-е-едленно, ибо медлительность есть власть, а тут было сразу много властей: власть времени, власть распада, просто власть, а человек, существо быстрое, ничего тут не мог и не значил. Человеку тут ничего было нельзя в силу этических, физических, юридических, биологических и климатических причин, и каждый имел девяносто девять оснований ничего не делать, а тот, кто делал, был всегда и во всем виноват. Тесно мне, тесно мне. Мне душно, мне медленно. Так медленно идет жизнь, а когда проходит, оказывается, что все произошло очень быстро. Я вхожу в эту жизнь, как в воду, я чувствую, как она тормозит, расхолаживает, поглощает меня. Пожалуй, мне надо поскорей убираться отсюда. Пассажиров было мало. Молодой человек, то есть подросток, или там отрок, короче, существо лет восемнадцати, для которого в русском языке не было подходящего слова, не юношей же называть грязного, прыщавого типа в косухе, орал на толстую накрашенную деваху в платье с голубыми и розовыми разводами. Деваха оглушительно рыдала. Она хватала отрока за косуху. Еще бывает слово «парень». Я люблю, когда мой парень сзади. Мой парень требует, чтобы я себе брила. Подскажите, дорогая редакция, не опасно ли это. Ее парень отпихивал ее, упираясь в толстые сиськи. Она рыдала и умоляла. Он орал «Отвяжись, сука!» и наконец вмазал ей по толстой морде. Публика наблюдала без особенного интереса, в сериалах она видала и не такое.
Тут в Громове наконец распрямилась пружина, сжимавшаяся весь день, а может, и все эти два года, а может, и всю жизнь. Он вскочил с изрезанного кожаного сиденья, одним прыжком достиг парня и принялся мутузить его так, что в первые секунды сквозь красный туман перед глазами и красный шум в ушах ничего не воспринимал. Ему казалось, что парень визжит толстым женским голосом. Это злило Громова дополнительно. Он бил его так и еще вот так, до хруста, повалил, уселся сверху, заломил руку и бил теперь лицом об пол. Каким-то образом парень, лежа на полу с заломленной рукой, ухитрялся хватать Громова за волосы и за уши, царапать ему щеки и звать на помощь. Вскоре до Громова дошло, что его оттаскивает девка.
– Убил! – орала она. – Петю убил! Сука, тварь, он убил Петю! Милицию зовите! Ой, зовите милицию!
Громов перестал бить юношу и переключил внимание на юницу. Он тупо смотрел на нее, не понимая. Потом до него дошло. Он понял, что девушка горячо вступается за любимого.
– Он же тебя бил, – пробормотал Громов.
– Кто бил? Он бил?! Кто видел, что бил?! Ты сам, сука, ты первый, сука…
Троллейбус остановился. Громов вышел. На остановке было пусто. Последнее, что он видел в окне троллейбуса, был неуверенно поднимающий голову отрок – и отроковица, влюбленно хлопочущая над ним.
Громов стоял на городской окраине и вдруг увидел поезд. Поезд шел далеко за домами, медленно, как все на этой окраине. Над ним стоял бледный месяц. Небо на западе синело, а на востоке еще голубело, и по нему плыли розовые полосы. Поезд шел на восток.
Громов бросился бежать и в минуту достиг железной дороги, проходившей за тремя высокими, длинными серыми домами. Поезд был длинный, его оставалось еще много. Громов впрыгнул в ближайший вагон, приоткрытый ровно настолько, чтобы туда можно было пролезть. Поезд подали словно нарочно. Земля тут сама управляла поездами, переводила стрелки и меняла направления. Громов не знал, куда едет этот поезд, но с детства мечтал уехать на поезде, идущем мимо дома. В вагоне лежала охапка сена. Кажется, такая охапка сена лежала в каждом вагоне.
Делать тут больше было нечего. Громов улегся на сено и стал смотреть в приоткрытую створку вагона. Поезд медленно шел мимо домов, остановился, прошел в серые стальные ворота и двинулся дальше, прочь из этого города.
7
Если сесть на этот поезд, можно ехать вдоль окраин, мимо школ и поликлиник, гаражей и огородов, мимо фабрик и заводов, мимо свалок и отходов, медленно переходящих в состояние природы; если сесть на этот поезд, можно ехать вдоль природы, пригородов, переездов, полустанков, семафоров, элеваторов, заборов, рек под хлипкими мостами, текстов с темными местами, грядок, гравийных карьеров, недокрашенных сараев, перекрашенных бараков, перекошенных подъездов, недокошенных оврагов, недокушанных объедков, недостроенных объектов, недостреленных субъектов, многих слов с при-ставкой «недо» и других, с приставкой «пере», – а меж ними только поезд, золотая середина. Он идет с привычным грузом по дороге по железной. Если сесть на этот поезд, можно выехать отсюда.
Можно выехать в пространство промежуточное, в область умолчаний и догадок, пешеходов, пассажиров, путешествующих, плавающих и обремененных, в промежуточную область переходов, переносов, сдвигов и анжабеманов, будок, стрелок и клетушек, станций, пристаней, причалов, накопителей и стоек регистрации; короче – в область меж собой и миром, в ту, где бодрствует дежурный и командует диспетчер, отправляя самолеты и встречая пароходы.
Миновавши эту область, можно выехать в другую, безграничную, в которой только небо, только ветер, только радость, но не радость, а какое-то другое; вот летит веселый аист, цапля серая пухпухга или вещий Вяйнямёйнен – кто их знает, угро-финнов; вот растет степное чудо – гомерический подсолнух, вот цветут ночные травы, это те ночные травы, что не любят света солнца; вот гуляет глупый пингвин, жирной молнии подобный, шаровой, – а буревестник громко дразнится, подобный глупой молнии; а дальше стонут вещие гагары, ноют тощие верблюды, веют воющие ветры Средней Азии. И степи превращаются в пустыни.
Если сесть на этот поезд, наконец увидишь своды бледновыцветшего неба, арки, парки, минареты Ашхабада, Самарканда, Бухары и Хоросана, огнедышащее небо Закавказья и Кавказа, под которым копошатся и пируют дети юга, у которых нету сердца, но зато избыток фруктов. Если сесть на этот поезд, можно выпасть отовсюду – так солдат, уехав в отпуск, выпадает из сраженья. Вскочишь в темный куб вагона, проползешь по гулким рельсам, выйдешь из повествованья – и вернешься в эпилоге.
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.








































