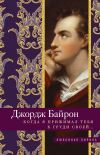Текст книги "Люди возле лошадей"

Автор книги: Дмитрий Урнов
Жанр: Биографии и Мемуары, Публицистика
Возрастные ограничения: +12
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 29 (всего у книги 42 страниц)
– Взгляни, на какой машине приехал. По машине и цену запросим.
Некоторых лошадей я демонстрировал под седлом, на разных аллюрах и в прыжке.
Самый торг состоялся в среду, и публики съехалось порядочно. Оркестр реликтовых пожарных старался сделать «Подмосковные вечера». Шла реклама: «ВПЕРВЫЕ НА АНГЛИЙСКОЙ ЗЕМЛЕ АУКЦИОН РУССКИХ ЛОШАДЕЙ: ТА ЖЕ ЧЕРНАЯ ИКРА, ТОЛЬКО О ЧЕТЫРЕХ НОГАХ И БЕГАЕТ».
– Надо было «советских» поставить, – заметил наш консул, который прибыл на аукцион.
К нам он подвел из публики какого-то высокого седого старика, державшегося, сразу видно, по-военному, и у него же спросил:
– Ну, Алексей Степаныч, как вам нравятся наши орлы?
А тут подошла еще старушка англичанка, перед которой все расступались (ну, это понятно было по деньгам, которые она за лошадей давала), и говорит, дотрагиваясь до драгомановского плеча:
– Когда я думаю о России, мне представляются такие люди.
– Он, – заметил ей высокий старик, – как видно, в казачьем типе.
И спрашивает у Драгоманова фамилию, а потом спрашивает:
– Не ваш ли батюшка в Третьем Терском вахмистром был?
– Так точно, – чеканит Драгоманов.
– А сами вы, позвольте поинтересоваться, где служили?
– В Первой конной.
– Это, – пояснил нам про высокого старика Выжеватов, – тот, что ответил Гитлеру.
– Как ответил Гитлеру?
– В первую мировую попал в плен. В тюрьму. А в той же тюрьме сидел тогда Гитлер. Потом, когда уже Гитлер до власти добрался и пошел на нас… то есть на вас, он этого полковника решил использовать и вызывает. «Как вы относитесь к России?» А тот ответил: «Так же, как всякий истинный немец к Германии». Гитлер язык прикусил, но по старому знакомству его не тронул.
– Так я говорил, – заметил насчет рекламы Драгоманов, – как надо было написать.
– Ребята, – ответил Выжеватов, – не учите. Пробовал я гаванскими сигарами под новым названием торговать: не идут! Сомневается публика: что это такое? А те ли это сигары, что называются «Гаваной»? И – карман худеть начинает. Русское Англия со времен Шекспира покупает. Обозначьте русского соболя или икру другим артикулом, что получится?
– Шекспир, – сказал переводчик, – называл хорошую пьесу русской икрой в «Гамлете», в третьем акте.
– Вот видите! Ведь большинство покупает не вещь, а вывеску. Думаете, многие понимают в мехах, соболях или в тонкостях вин? Главное сказать: «У меня русский соболь. Да, да, тот самый, что со времен Шекспира…» – и пошло. Спутник – это уже другое дело. Это советский, не отымешь!
Тем временем специально приглашенный аукционер взялся за дело.
– Господа, – воззвал он, – взгляните на этого жеребенка, господа! Тетка у него выигрывала, бабка – выигрывала, а мать у него – внучка самого Риголетто, который приходится полубратом нашему чемпиону чемпионов Скажи-Смерти-Нет!
Покупатели рассматривали жеребенка со всех сторон.
– Породистые лошади, – не унимался аукционер, – это единственная аристократия, которую признают Советы.
– Что он городит, что он городит? – опять взволновался Драгоманов.
– Прошу, – успокаивал его Выжеватов, – не в свое дело не вмешивайтесь. Лишнего он не скажет, а без перчика у них тут… у нас тут нельзя. Это же не дипломатические переговоры, а торговля.
На расчудесной «тетке» я выступал, «бабка» была знаменитой спортсменкой. Она прошла фронт и первенствовала в послевоенных стипль-чезах. Вот была талантлива, просто талантлива! Можно сказать – «класс», «сердце». «Много сердца у лошади» означает буквально большое по размеру сердце. У лучшего из скакунов Австралии Фар-Лэиа, которого никто не мог обыграть, а только отравили его в Америке, сердце в два раза превосходило норму. Но кто измерит, сколько в нем было еще души, благородства спортсмена! Красный Викинг, от Грусти, был так азартен, что бросался кусать соперника, если его обходили. Одним нужен хлыст и шпоры, другим – узда. Если чувствуешь под собой бойца, то остается думать лишь о том, чтобы не сгорело его «сердце» раньше времени, чтобы прирожденная пылкость темперамента не «сожгла» лошадь до срока.
– Четыреста фунтов, господа! – объявил аукционер. – Кто больше?
Это теперь аукционы вошли у нас в правило, стали ежегодными, традиционными, теперь мы сами проводим аукцион у себя, а тогда мы это дело начинали, и не очень нам было ясно, как «пойдут» наши лошади. Ныне всем ясно – это живое золото.
– Кто больше, господа?
Поднялась рука с табличкой, на которой номер покупателя.
– Четыреста пятьдесят! (По пятьдесят добавляется до тысячи.)
Но дальше произошла заминка, и аукционер сделал свой «ход», он сказал:
– А за такую цену я и не отдам лошадь – это же класс, это кровь! Пропадай четыреста пятьдесят фунтов, но честь породы дороже! Уберите лошадь!
И как только жеребчика стали уводить, чье-то сердце не выдержало, и поднялась еще одна рука.
– Пятьсот! – тут же подхватил аукционер. – Кто больше?
Руки поднимались одна за другой, и аукционер, словно дирижер над оркестром, покрикивал:
– Девятьсот! Девятьсот пятьдесят! Тысяча! Тысяча сто!
После тысячи добавляется по сотне. На тысяче пятьсот цена замерла, и аукционер, смилостивившись, произнес:
– Продано!
– Дело знает, – прошептал Выжеватов, – такой молодой товар и трехсот не стоит.
Но уже вели следующий «лот» (так называется каждая продажная лошадь) – кобылку.
– Тысячу пятьсот! – сразу выкрикнул аукционер, как бы продолжая прежнюю игру.
Ему ответили молчанием.
– Хорошо, – сказал он как ни в чем не бывало. – Сто пятьдесят.
Поднялась рука. За ней – другая. Третья. Не успели покупатели опомниться, как за эту кобылку, происходившую от Лунатика 3-го, надавали шесть тысяч! Оказывается, и тут, чтобы удача была, свой пэйс понимать нужно. Тактика требуется. Принял «тихо» (правда, с одним фальстартом), зато что за резвый «кончик» сделал: тысячи дали! Кажется, и сам аукционер не уследил, как это у него так резво получилось. В пылу коммерческой агитации сбросил он с себя пиджак, сорвал галстук, весь взмок, будто в самом деле галопировал и теперь, вытирая платком потный лоб, пытался осознать, что же вышло. Еще меньше понимал происшедшее новый владелец «лота». Ему аплодировали, ему трясли руки: «Вот азарт! Вот спортсмен, вот уж истинный любитель лошадей!» Однако энтузиаст, спортсмен и любитель, готов был, судя по всему, отдать все эти лестные титулы, чтобы получить назад хотя бы половину своих денег.
Ликовал Выжеватов:
– Гипнотизер! Кудесник! – не мог он нарадоваться на этого аукционера, который, может быть, и знал свое дело, но знал и свою выгоду – процент от каждого проданного «лота». Так что «резвые концы» делал он не из одной любви к искусству.
На полубрате этой кобылки я тоже скакал. Способный был, но слишком впечатлительный. Полузнакомая мне сестричка моего скакуна прошла, конечно, по хорошей цене, а следом за ней стали бойко раскупаться полукровки, четверки, осьмушки – по крови. В некоторых лошадях, особенно в головах и шеях, сильно проглядывала арабистость. Ее сразу видно по «щучьему» сухому и острому носу, по крупным и блестящим глазам, широкому лбу и лебедино-изогнутой шее.
– Сын Тарзана! – объявляет аукционер.
Как живой встал перед глазами у меня Тарзан, немного цибатый (на ногах приподнятый, голенастый), однако резвый. Был он, этот Тарзан, безбожным блютером: кровь у него носом шла. Поседлают утром на пробный галоп, а у него – кровь. Работа, естественно, откладывается. А как можно подвести кровную лошадь к скачке без резвых галопов или хотя бы подгалопчиков? Замучил он нас кровотечениями. Обратились к Вильгельму Вильгельмовичу. Он по книгам сразу все вывел. Дело, говорит, в том, что ген – гомозиготен, ломкость сосудов рецессивна, а у него в пятом поколении с материнской стороны Сатрап, бывшим тайным носителем того же порока, а в четвертом – явно кровоточившая Прелесть. Все ясно, но нам-то на другой день скакать! А Тарзан стоит худой, кровь приостановили, и скачку я выиграл. Посылал поводьями и поводом. Хлыстом не трогал, хотя меня стали уже захватывать. Перенапрягать жеребца не стал, а то вдруг опять эта гетерозиготность начнется…
Да, отскакавшие копыта стучат в голове. Жеребята, появлявшиеся на выводном кругу, прежде всего напоминали мне об Артемыче. Сколько ночей со своими табунщиками выстоял он на посту в горах, оберегая коней от волков, непогоды и прочих напастей. Сколько сил потрачено было, прежде чем причесанных, только что не напомаженных, нарядных коньков вывели на манеж и потребовали: «Кто больше?» Стучи, стучи крепче, говорил я про себя аукционеру. Выколачивай все, что в этих жеребят вложено! При мысли об Артемыче я невольно поглядывал на небо: где-то он сейчас там, в облаках, движется на своем Абреке? Надо будет ему каталог с аукциона привезти, пусть посмотрит цены. Вспомнился мне и малыш, бедняга… Мог бы вместе с нами все сейчас наблюдать. Жесток же конный спорт, ничего не поделаешь. Кочевники говорили: «В степи конский череп найдешь – и тот взнуздай». Лошадь есть лошадь, и, как ни сживешься с ней, все-таки зверь.
Задумавшись, я и не заметил, что на аукционе наступила странная тишина. Я засмотрелся на небо, но, взглянув на круг, увидел, что стоит там караковый жеребенок. Кличка у него была Потомок. На этот раз аукционер, выдержав паузу, сказал очень просто:
– Перед вами, господа, внук Петра Великого.
Силу своих слов он, видно, рассчитал. Единодушный и напряженный возглас всей публики был ему ответом. Затем установилась напряженная тишина, и аукционер, работая на контрасте, еще спокойнее произнес:
– Пятьдесят… Пятьдесят тысяч, господа.
Трудно теперь установить, почему когда-то одному американскому заводчику взбрела в голову фантазия назвать родившегося у него в хозяйстве жеребенка Петром Великим. Однако именно этой лошади, когда она выросла, суждено оказалось сыграть роль, достойную своего исторического тезки. Правда, распознали Петра Великого не сразу. Особенного класса в призах он не показывал, и тогда в поисках сбыта привезли нескольких его детей в Россию, а вместе с ними – влияние Запада. Тут же началась борьба, жестокая борьба кровей, но история решает такие конфликты по-своему, и в результате возникла еще одна племенная линия. Резвачи этой линии стали совершать чудеса. И потомки Петра Великого стали цениться на вес золота. «Нам очень, очень нужен Петр Великий!» – говорят теперь заводчики Америки так, как говорим мы: «Где достать Святого Симеона?» Нужная линия, которая, обогнув полсвета, освежилась и теперь сказывается в триумфах призовых бойцов по обе стороны Атлантики.
За Внука давали уже семьдесят пять тысяч, когда среди публики у входа в торговый зал появился невысокий плотный мужчина, а с ним еще один, державшийся при нем неотступно, все время возле плеча, в седелке у него он ехал «вторым колесом», заместо поддужного. Окинув по-хозяйски взглядом весь зал, вошедший даже не посмотрел на Внука, он сделал своему спутнику едва заметный знак, и тот, выступив на этот раз чуть вперед, сказал:
– Сто.
Выжеватов тихо пояснил нам:
– Это Пламмер, американец.
– Сто тысяч! Кто больше? – не дрогнув, делал свое дело аукционер.
И, надо вам сказать, поднялась рука, но, вероятно, только для того, чтобы, при бессилии в самом деле с ним бороться, все-таки раскошелить его. Американец сделал своему спутнику знак, а тот объявил:
– Сто пятьдесят.
– Сто пятьдесят тысяч – раз! – подхватил аукционер. – Сто пятьдесят тысяч… два!
Окинув взглядом весь зал, он почти одновременно с ударом молотка произнес:
– Три! Продано.
К Пламмеру кинулись корреспонденты, но его спутник оттеснил их, говоря:
– Мистер Пламмер комментировать своей покупки не будет. Не-е бу-дет!
* * *
Однако же мистер Пламмер предложил встречу нам. Выжеватов посоветовал:
– Сходите. Ведь он сам торгует лошадьми. У него есть жеребец-производитель линии Святого Симеона.
– Кто же? – спросил Драгоманов, потому что все Святые Симеоны наперечет.
– Слепой Музыкант.
Слепой Музыкант! Подумать только! Он был вторым на Дерби, но выиграл Аскот (соответствует у нас призу имени Ворошилова), потом, правда, вскоре захромал, сделавшись полулегендой. Его продали в Америку – и вот предлагали нам. Овладевшие им чувства, которые я прекрасно понимал, Драгоманов скрыл, он выразился так:
– Что ж, поговорить можно.
Пламмер с первых слов сказал:
– Отдам почти даром. Для России я сделаю все. Это моя родина.
– ???
– Слесарев я, из Курогиберники.
«Слесарев» – Пламмер, это мы поняли, а вот про «Курогиберники» – сообразили не сразу. Угадал Выжеватов:
– Из Курской губернии?
– Райт (right – верно). Нет, по-русски я не говорю. Что вы хотите, пятое поколение! В Америку приехал прапрадед. Отец, тот еще знал по-русски несколько слов.
– Что вы за коня просите? – поинтересовался Драгоманов.
«Почти даром», как понимал это Пламмер-Слесарев, было вроде удара молотом по голове.
– Но поймите, – говорил он, – тогда уж нужно просто подарить вам жеребца, чего я все-таки позволить себе не могу, или уж держаться достойной его имени цены. Дешевле никак не могу.
– Нам уже предлагали дешевле, – сказал Драгоманов.
– Кто же? Кто мог вам предложить дешевле производителя линии Святого Симеона?
А дело было так. Возвращались мы вечером с уборки, и к нам возле самого выжеватовского дома подошел человек и сказал, что у него есть продажный Святой Симеон. Я уже говорил вам, что каждый представитель этой линии известен всему скаковому миру. Обмана тут быть не может. Это был Сэр Патрик, не без фляйерства, но все же чистейший Святой Симеон, и сходной цене. Мы хотели с этим человеком условиться, как на машине подкатил Выжеватов и, увидев незнакомца, бросился к нам бегом. А человек этот пропал.
– Ребята, ребята, – не находил себе места Выжеватов, – вы это что? Вы это с кем? Хотя бы меня и детей моих пожалейте, я вас прошу. Я сорок лет с Россией торгую, и вы мне фирму не подводите, никаких переговоров ни с какими случайными людьми.
На аукционе, между прочим, человек этот появился, но Выжеватов от нас не отходил ни на шаг, и он держался в тени.
– Какой же это из Святых Симеонов? – спросил еще раз Пламмер.
Драгоманов взглядом дал ему понять, что бизнесмены таких вопросов не задают.
– Ладно, – сказал Пламмер, – подумайте.
А спутник его сказал, что мистер Пламмер очень просит нас с ним пообедать.
– Нет, – сказал Драгоманов, – это мы его приглашаем. У нас есть картошка, селедка и черный хлеб. (У нас имелся такой специальный гостевой набор, пользовавшийся большим успехом у высшего дипломатического круга.)
Пламмер сразу согласился и еще выразил желание купить весь имевшийся у нас черный хлеб.
– Не продажный, но мы подарим.
За повара был доктор. Это дело он знал не хуже своего коновальства. У него даже такое фирменное блюдо было – «коновальское»: готовил он его после холощения жеребцов из того, чего сам же несчастных коней лишал. Такое блюдо среди конников считается даже обязательным – вроде ритуала: скорее у них все заживет! Но доктор на это был мастер, что холостить, что потом жарить: пальчики оближешь! А уж картошку с селедкой да с луком он как-нибудь да по охоте мог изготовить. И вскоре мы уже окружили дымящийся котелок.
Пламмер причмокивал. Пламмер качал головой. Пламмер рассуждал:
– Мы, американцы, ищем духовных путей возвращения на родину. Делали мы Америку, делали, многое сделали: автомобили, автоматы, холодильники, стиральные машины, телевизоры, противозачаточные средства… Нет, чего-то не хватает! Делаем, делаем, а что-то все равно не получается. Тут мы вспомнили: родина! Отчий дом! Мы вспомнили: кто из нас швед, кто немец, кто англичанин, я – русский.
– «Оглянись на отчий дом» – есть такой американский роман, – сказал переводчик.
– Да, – подтвердил Пламмер, – но у того же автора есть роман «Домой все равно не вернешься», и сам он, этот автор, не дожил до сорока лет.
После обеда Пламмер предложил нам поехать с ним посмотреть землю, которую он покупает здесь для конефермы: хочет учиться у английских «бридеров», знатоков породы.
– Мистер Пламмер, – пояснил его спутник, – коневод начинающий. Еще дилетант. Его дело – текстиль, гостиницы, газеты и такси. А лошади – для души.
Я вспомнил, что в Америке, когда я прибыл с Анилином, мы то и дело видели «Пламмер» – на вывесках, на рубашках, на авторучках. Гостиница была «Пламмер», и на попоне, которую подарили Анилину, стояло «Пламмер». Но как-то в голову не приходило, что за этим стоит реальный человек, да еще из Курогиберники.
На пути, в машине, попали мы на некоторое время в атмосферу деловой жизни мистера Пламмера.
– Душить, душить и еще раз душить их, негодяев, – говорил он о каких-то поставщиках шерсти своему спутнику, которого называл Смит. – Или же купить их на корню! А что Австралия?
Смит ответил, что Австралия пока молчит.
– Подлецы! Закажи на завтра три билета. Вылетаем. Надо скупить на корню их там, вместе с пастбищами.
– Смотрите, какой замок, – сказал переводчик.
– Плевать я хотел на замок, – отозвался Пламмер, – не занимаюсь замками. Вот церковь небольшую, православную, на вывоз, но чтобы подлинная, примерно семнадцатый век, я бы взял.
– Смит, – обратился он снова к спутнику, – соедини меня с братом. Надо будет решить, кто будет разделываться с этими новоявленными «Джонсон энд Джонсон». Н-негодяи! Дай знать Картеру, что о’кэй, я покупаю все его дело на корню.
– Джонни, – так называл Смит Пламмера, – можешь ты хотя бы полчаса в день говорить не о деле? Тебе же советовали доктора, иначе это плохо кончится. Сколько же еще ты денег собираешься сделать, прежде чем умрешь? Давай лучше поговорим о лошадях.
При слове «лошади» в свирепом взгляде Пламмера мелькнула теплая искра, но тут же он сказал:
– Бизнес есть бизнес, мой Смит.
А на прощание он нам заметил:
– Подумайте, прошу, подумайте! Мне было бы приятно сознавать, что мой Слепой Музыкант отправляется на землю моих отцов.
Утром переводчик открыл газету и охнул.
– Пламмер умер…
«Скоропостижная смерть американского магната», – шли заголовки на том месте, где еще недавно писали про нас. «Он умер, – передавал переводчик, – с телефонной трубкой в руках, ведя по международной линии переговоры о покупке земель в Новой Зеландии. Это был второй сердечный приступ за последние пять с половиной недель. В прошлую субботу ему исполнилось сорок два года. Остались две дочери. С женой находился в разводе.
Стараясь не попадаться на глаза Выжеватову, отправились мы смотреть Сэра Патрика.
– Что он нам за указ, – говорил о выжеватовских угрозах Драгоманов, – кто нас обманет? Или мы лошадей не покупали?
Поистине покупали! Немногие ремонтеры покупали столько, сколько Драгоманов на своем веку лошадей перевидал. Покупал табунами, полками, армиями. Целыми конными заводами покупал. Это ведь он тогда у внучки Байрона приобрел гнездо арабских кобыл, а в Австрии подобрал к ним жеребцов, и высочайшей породности арабские лошади появились у нас у подножья Кавказских гор.
– Ты представляешь, – начал уже мечтать в пути Драгоманов, – какую мы с тобой, Коля, эпоху сделаем? Всю жизнь я мечтал заполучить кровь Святого Симеона и выиграть Дерби. Педигри (родословная) этого Сэра Патрика у меня стоит перед глазами. Тут слева, с материнской стороны, и Флоризель, и Флореаль, ну, словом, порода! А справа, по отцу, спид, спид, спид… – Драгоманов зажмурился. – Когда я думаю о том, каких маток тех же линий ему можно подобрать, то меня мороз по коже подирает. Что будет? Что будет? Что будет!
И он запел:
Ты лети с дороги, птица,
Зверь, с дороги уходи…
– Странно, однако, – заметил Эрастыч, – что при фешенебельной родословной за него просят скромную сумму.
– А я тебе сейчас все объясню, – отвечал Драгоманов таким тоном, словно Сэр Патрик уже принадлежал нам, – он мало скакал. И у него, кроме того, такое сочетание предков, что здесь он нужен, как у нас Петр Великий: вот, сыты по горло! Обмануть? Пусть попробуют. Что у нас глаза не на месте?
У нас было шесть наметаннейших глаз, три пары таких глаз. (Фокин с доктором остались при лошадях, переводчик не в счет).
Жеребца сразу вывели из конюшни на коротком поводе.
– Э, да у него пипгаки! – присвистнул Драгоманов разочарованно.
– Это же, друзья мои, не порок, а несчастье, – отвечал хозяин. – Что такое пипгаки для производителя? Что ему, призовую нагрузку нести?
Пипгаки, конечно, пустяки. Это такие на задних ногах наросты. Вроде мозолей. От прежних напряжений. От старости. Драгоманов и сам это, конечно, понимал, но хотел у хозяина гонора поубавить. Но Сэр Патрик был Сэр Патрик, порода светилась в нем насквозь.
– «Сколько мужчины! Сколько в нем мужчины», – простонал про себя Драгоманов, а потом попросил: – Вукол, ну-ка взгляни…
Маэстро, слегка откинув манжеты, сделал шаг к жеребцу, и один этот шаг, и один только взгляд, которым окинул он лошадь, дал понять хозяину, с кем имеет он дело. Хозяин сам под этим взглядом съежился и заюлил:
– Эмфиземка, эмфиземка у него небольшая в легких, знаете ли…
– Уважаемый, – обратился к нему Драгоманов, – теперь уж мы сами все увидим.
Могут поинтересоваться, почему беговой наездник, а не жокей стал осматривать скаковую лошадь. А я скажу, не смущаясь: Эрастыч увидел бы больше, он рассмотрел бы все, что нам в данном случае нужно. Ведь изнутри рысак от скакуна ни в чем, в сущности, не отличается. А нам и нужно было попять, каков у него организм. Вот если бы речь шла о скаковых формах, о выдержке лошади перед скачкой, то с завязанными глазами я бы все сказал: готов скакать или нет? Тогда Костя вот так же просил, когда Ратмира на Всесоюзный готовили.
– Николай Насибович, приезжай, посмотри.
Я едва из машины вышел, еще не успел дверь запереть, как тут же увидал: «Костя! Недотянут! Натощак его галопируй, а вечером парь его в попоне». Разумеется, у каждой лошади свои кондиции. Одни скачут в теле, других надо сушить, сушить и сушить.
Приблизившись к Сэру Патрику, начал Вукол Эрастыч, разумеется, с конечностей. Пальцы наездника скользили по копыту, по бабке, по ноге, Эрастыч, словно скульптор, ногу лошадиную обтачивал, не упуская малейшего выступа сухожилий или мускулов. Потом он встал перед лошадью, обнял коня за грудь и слегка сжал. Жеребец тут же слегка осадил, подался назад. Жалуется…
– Что же вы хотите, – вставил все-таки хозяин, – призовую карьеру лошадь прошла. Плечи потрепаны, это я не отрицаю. Но ведь вы не скакать его покупаете, а производителем. Вам нужно его кровь. Порода!
Вукол стал выслушивать Сэра Патрика.
– Да, легкая эмфизема есть. Это не опасно. Так называемая «рабочая эмфизема». Она больше нервного свойства. В заводе будут его шагать по утрам, купать будут, витамины, сено посвежее, она и пройдет.
Эрастыч погладил жеребца по шее, потом по животу, потом слегка потрепал по крупу и стал осматривать его в паху.
– Правое чуть-чуть увеличено, – заведомо старался предупредить его хозяин.
– 3-забыл, забыл, как это все по-английски! – воскликнул переводчик.
Драгоманов только знак ему рукой сделал: «Помолчи!»
Мы дыхание затаили, а Сэр Патрик от естественного возбуждения во время невольного такого «массажа» стал слегка похрапывать.
Наконец Эрастыч ударил слегка жеребца пальцами по крестцу, чтобы возбуждение перебить, и сказал:
– В порядке.
Сэра Патрика тут же увели, а конюшню на замок закрыли.
– Ну, хозяин, – вздохнул всей грудью Драгоманов, – по рукам.
* * *
Едва к самолету в Шереметьево (а домой мы летели, о, мы летели не только на самолете, но на крыльях надежды и мечты) подошел трап, нам сразу передали, что маршал просил с жеребцом прямо к нему. Покупку мы и сами, надо признаться, как следует раскусить еще не успели. В Англии прямо на погрузку привели его, Сэра Патрика, которого Фокин тут же перекрестил для удобства обращения в Сережу (Последнюю-Гастроль называл он Полиной, а Эпигенеза, своего правого пристяжного, – Генкой). Драгоманов хотел было сделать все по охоте, как на ярмарке, повод из полы в полу передать, но хозяин предупредил: «Слишком разволнуется». Из уважения к нервам, столь «аристократическим», нарушили мы обычай. Жеребец был непосредственно в боксе поставлен в самолет, где простоял два с половиной часа, коротко привязанный. Трансатлантические рейсы были для него привычны, скакал он и в Кентукки, где был шестым, и на Мельбурнский кубок, где пришел третьим, уступив Питеру-Пену и Эмили. Перед отлетом нас поздравляли из Посольства с обновой. Правда, Выжеватов провожать нас не пришел, но Драгоманов объяснил: «Ревнует. Сватал, сватал нам жеребца, а мы и без него нашли». Он то и дело проверял самочувствие жеребца. Бывает, лошади на самолете впадают в истерику. Почему так получается, но дело это плохое: лошадь тогда надо стрелять, под ударами копыт может разгерметизироваться кабина, и тогда… Но Сэр Патрик, или по-нашему Сережа, пассажир был испытанный.
– Сережка, а Сережка, – обращался к нему Драгоманов по-свойски, – на большие дела летишь. Ты только подумай!
Всем, когда мы приземлились, хотелось взглянуть на самого Сэра Патрика, которою наши специалисты знали по книгам. Но тут уж Драгоманов воспротивился.
– Не зоопарк! Не зоопарк! – твердил.
Мы поспешили поставить жеребца из бокса прямо в наш комфортабельный автобус, привязали его там и поехали к маршалу. Драгоманов волновался ужасно.
– Перед ним я мальчишка, – твердил он дорогой, – мы с ним из одной станицы. Только он много старше. Он уже за девками шил, а я еще сопли утирал.
Маршал жеребца увидел и тут же сказал разочарованно:
– Пипгаки!
– Это не порок, товарищ маршал, – отвечал ему, стоя навытяжку, Драгоманов.
– Понятно, не порок, но, знаешь, все-таки… Когда смотришь на лошадь с таким именем, то уж хочется видеть безупречную картину.
Долго всматривался он в жеребца, а потом попросил Драгоманова:
– Поддержи меня, слушай, с этой стороны, а то у меня что-то левая задняя шалит.
Драгоманов подставил ему плечо, и наш маршал, опершись на него, стал смотреть у коня ноги.
– В порядке, – сказал он, поднимаясь с колена и тяжело дыша.
Еще раз осмотрел жеребца со всех сторон и произнес:
– Молодцы! Ну, молодцы! Такую кровь достали, такую породу привезли. Большое дело. Теперь остается только разумно его использовать. Если у наших специалистов головы хватит, они могут ему правильных кобыл подобрать, и на этих лошадях мы до звезд олимпийских достанем.
Жеребца мы поставили в автобус. Тронулась машина, а сами мы все смотрели назад.
– Молодцы, молодцы, – говорил на прощанье маршал.
И та рука, которая столько раз вздымала легендарную боевую саблю, поднялась, хотя и не без труда, нам вослед.
Ночью я очнулся, как от толчка. Сначала явилась у меня мысль: «Почему же это я на конюшне?» Надо мной склонялось лицо ночного конюха. Окончательно проснулся и понял, что я дома все-таки, в собственной кровати. Но конюх-то что здесь делает? Где жена?
Жену я разглядел в полумраке у конюха за спиной. В чем дело?
– Насибыч, – просвистел конюх, складывая руки на груди, – Насибыч!
– Чего тебе?
– Крутится. Жеребец крутится!
И как от удара поплыли от этих слов у меня перед глазами потолок, конюх и жена.
– Драгоманов знает?
– Он уже на конюшне.
Спешить было некуда. Шли мы с конюхом по уснувшим улицам. Конюх повторял:
– Крутится и крутится… Вроде как дурной.
Есть – глотают воздух, прикусочные. Есть – кусают себя. Есть «ткачи», которые имеют привычку, стоя в деннике, качаться из стороны в сторону или непрерывно переступать на месте передними ногами. Иные «закачиваются» до того, что стоят с ног до головы мокрые, как после тяжелой работы. Есть – копают. А этот – выходит… С таким пороком племенная нагрузка не под силу.
В едва освещенном коридоре конюшни высился силуэт драго-мановской фигуры. Молча стоял директор перед денником, в котором, не останавливаясь, кругами, кругами, кругами ходил Сэр Патрик. И столь же беспрерывно, как ходил жеребец, смотрел на него Драгоманов, хоронивший, должно быть, в душе радужные свои надежды. Когда же я подошел к нему, он, против ожидания, оказался довольно спокоен.
– Деньги они должны вернуть, – сказал. – Это же фирма.
Молчали пока шли в его кабинет. Что говорить? У нас перед глазами кружил жеребец, породен и правилен, но порочен, порочен, порочен…
– Будем прямо сейчас говорить с англичанами, – разъяснил Драгоманов, – переводчика я уже вызвал.
Несмотря на поздний час, малый не заставил себя ждать. А может, он и не ложился, потому что прибыл в белой рубашке и при галстуке. Было около четырех утра.
– Международной связи нет, – сказал переводчик, взяв трубку.
– Плохо просишь, – сказал Драгоманов.
Было очень тихо, и было слышно, как в трубке, когда переводчик настаивал: «Нам же очень нужно», – металлический девичий голос отвечал: «А другие, по-вашему, что – не люди?»
Драгоманов взял трубку сам.
– Девушка, – произнес он, – нам бы поговорить с Англией. У нас плохо с лошадью.
Тихо. Ночь. Все слышно. Голос отозвался:
– Что ж сразу не сказали? Что нужно в Англии?
– Ипподром.
– Ждите, не опуская трубку.
Прошло немного времени, и тот же голос заговорил совсем другим тоном:
– Что же вы меня обманываете? Никакого ипподрома там нет! Там ночной… там ночной клуб!
– Не может быть, – возмутился Драгоманов, – там выступали наши лошади.
– Проверяю, – отвечала девушка металлическим голосом, но через минуту заговорила иначе, чуть всхлипывая:
– Какие лошади? Они говорят, сколько хотите голых баб, но ни одной лошади!
– Барышня, не шутите, – строго сказал Драгоманов.
– Хорошо, слушайте, соединяю напрямую.
В трубке щелкнуло, и где-то, очень издалека, но отчетливо в телефоне слышалось: «Ах вы сени, мои сени…» Что это были за «сени»! «Кленовые» да «новые»… Уж и «новые»! Там, казалось, не пляска, а рубка, казалось, ломают потолок и выносят на улицу фрамуги. Но отчетливо делал свое дело оркестр, и так они выкаблучивались, что Драгоманов заслушался. Ведь где-то здесь, в двух шагах от ипподрома, в точности такие «сени» откалывали лет шестьдесят назад, и мальчишкой слышал он это, – оркестранты и цыгане шли по утрам с работы, а тренперсонал – на конюшню, на работу… Вслушивался он в эхо своей юности. Но быстро очнулся и сказал:
– Да, но ипподром все-таки где?
– Минутку, – спохватился тут наш толмач, – «ипподром» по-английски и есть «клуб», вернее, не клуб, вроде кабаре. Вместо «ипподром» по-английски надо говорить «трэк».
– Видишь, брат ты мой, – единственный раз с укоризной обратился Драгоманов к переводчику, – за точным словом ты гонишься, а ясности вовремя внести не можешь.
Сказали «трэк» – сработало. Загудело в трубке. Девушка предупредила:
– Сейчас будете говорить.
– Действуй, – передал трубку переводчику Драгоманов.
Скоро тот заговорил по-английски. Сначала спокойно. Потом вдруг забеспокоился. Стал в трубку кричать. Капли пота выступили у него на лбу. И разговор, видимо, оборвался. Он взглянул на нас, продолжая держать в руке трубку, в которой девичий голос тревожно вопрошал: «Разговор окончили? Абонент, разговор, я вас спрашиваю, закончили?»
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.