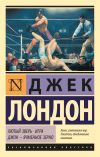Текст книги "Джон Ячменное Зерно. Рассказы разных лет (сборник)"

Автор книги: Джек Лондон
Жанр: Зарубежные приключения, Приключения
Возрастные ограничения: +12
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 13 (всего у книги 26 страниц)
Глава XXXIII
Я отправился в Австралию, чтобы лечь там в больницу и подлечиться; после этого я собирался продолжить путешествие. Я провел в больнице много долгих недель, но ни разу не вспомнил о выпивке. Я знал, что это меня ждет, когда я встану на ноги.
Однако, когда я поднялся с постели, оказалось, что мои главные болезни так и остались невылеченными. Таинственная солнечная болезнь, ставившая в тупик лучших австралийских специалистов, продолжала по-прежнему разрушать мои ткани, да и малярия не оставляла меня, сваливая с ног в самые неожиданные моменты. Она заставила меня однажды отказаться от турне по городам, в которых мне предложили прочесть ряд лекций.
Все это заставило меня отказаться от путешествия на «Снарке» и поискать более прохладного климата. Выйдя из больницы, я в тот же день начал пить. Это вышло само собой. Во время еды я пил вино, а перед едой – коктейли. А если мои собутыльники предпочитали виски с содовой, то и я пил вместе с ними виски. Я чувствовал себя до такой степени господином Ячменного Зерна, что мог приниматься за него или бросать его по желанию, как делал это всегда, и думал, что так будет всю жизнь.
Некоторое время спустя в поисках более прохладного климата я отправился на крайний юг Тасмании и очутился в местности, где нельзя было достать ничего спиртного. Это обстоятельство не огорчило меня, и я попросту перестал пить. Лишение это не было мне в тягость. Я наслаждался прохладным воздухом, ездил верхом и отстукивал ежедневно свою тысячу слов, за исключением тех случаев, когда у меня с утра начинался приступ малярии.
Боюсь, как бы читатель не объяснил мои болезни тем, что в предшествовавшие годы я злоупотреблял алкоголем. Но ведь и мой японец-слуга Наката, до сих пор живущий при мне, сильно страдал от малярии, а Чармиан, кроме малярии, схватила еще тропическую неврастению, от которой избавилась лишь после нескольких лет лечения в умеренном климате. Между тем ни она, ни Наката ничего не пили.
Вернувшись в Хобардт-Таун, где можно было достать алкоголь, я начал пить по-прежнему. То же продолжалось и в Австралии. Однако, уезжая из Австралии, я очутился на пароходе, капитан которого был трезвенником, и перестал пить. За сорок три дня пути я не взял в рот ни капли хмельного. В Эквадоре, под экваториальным солнцем, где люди умирали от желтой лихорадки, оспы и чумы, я тотчас же снова начал пить. И пил все, что только могло возбудить меня. Я не заболел ни одной из этих болезней, но Чармиан и Наката ничего не пили и тоже не заболели.
Несмотря на все зло, которое мне причинили тропики, я все же продолжал питать к ним глубокую нежность и по пути задерживался в различных местах, не спеша вернуться к чудесному умеренному климату Калифорнии. Но где бы я ни путешествовал, я неизменно отстукивал ежедневно свою тысячу слов; приступы моей малярии становились все слабее, серебристая кожа исчезала, разъеденные солнцем язвы благополучно рубцевались, и я при этом пил, как только может пить здоровый, крепкий мужчина.
Глава XXXIV
Вернувшись домой в Лунную Долину, я продолжал регулярно пить. Распорядок дня остался тот же: утром – ничего; первый бокал я выпивал, только окончив свою тысячу слов. Затем, в промежутке между этим бокалом и обедом, я выпивал достаточное количество вина, чтобы почувствовать себя в приятном возбуждении. За час до ужина я снова взвинчивал себя таким путем. Никто никогда не видел меня пьяным по той простой причине, что я никогда не был пьян. По два раза в день я бывал в очень веселом приподнятом настроении, а количество алкоголя, которое я поглощал для этого, свалило бы с ног непривычного человека.
Повторялась старая история. Чем больше я пил, тем больше мне требовалось, чтобы добиться прежнего эффекта. Пришло время, когда коктейли перестали действовать на меня. Их нужно было столько, что у меня не хватало времени на их приготовление и места для хранения множества бутылок. Виски действовало гораздо сильнее, быстрее и употреблять его приходилось в несравненно меньшем количестве. Я стал пить перед обедом ржаную или виноградную водку, а в конце дня – шотландское виски с содовой.
Раньше я всегда спал превосходно, но теперь мой сон немного испортился. Прежде, когда мне случалось проснуться среди ночи, я начинал читать и очень быстро засыпал. Но теперь чтение не помогало. Я мог читать час или два кряду и все-таки не засыпал; и тут я убедился, что виски прекрасно помогает мне. Иногда для того, чтобы уснуть, требовалось два или три бокала.
После этого до утра оставался такой небольшой промежуток, что организм мой не успевал во время сна переработать алкоголь, и я просыпался с ощущением сухости и горечи во рту, тяжестью в голове и легкими спазмами в желудке. Мне порой бывало очень скверно по утрам. Я страдал от похмелья, обычного для людей, постоянно и много пьющих. Мне тотчас же нужно было снова выпить чего-нибудь возбуждающего, укрепляющего. Раз уж вы позволили Ячменному Зерну захватить власть над собой, доверьтесь ему и в дальнейшем. Итак, я начал пить перед утренним завтраком, чтобы оказаться в силах проглотить его. Я приобрел в это время и другую привычку – ставить на ночной столик кувшин с водой, чтобы освежать свою обожженную и зудящую слизистую оболочку.
Теперь мой организм находился постоянно под действием алкоголя, и я не позволял себе передышки. Отправляясь в какое-нибудь захолустье и не зная наверняка, найдется ли там алкоголь, я брал с собой в чемодан одну или несколько кварт виски. Прежде меня поражало, когда это делали другие, но теперь я сам, не краснея, проделывал то же самое. Когда же я попадал в компанию пьющих, то все правила и порядок летели к чертям, и я пил все, что пили они, и в таком же количестве, что и они.
Я превратился в великолепный ходячий спиртовой факел. Он питался собственным жаром и разгорался все неистовее. За весь день я не знал минуты, когда мне не хотелось пить. Я начал прерывать свою работу на середине, выпивая бокал после пятисот написанных слов. Вскоре я стал выпивать и перед началом работы.
Я слишком хорошо понимал, чем это грозит, и принял меры. Я твердо решил не прикасаться к вину, пока не закончу своей работы. Но тут передо мной возникло новое дьявольское осложнение. Я уже не мог работать, предварительно не выпив. Я обязательно должен был выпить, чтобы быть в состоянии писать. Я начал бороться с этим. Мучительная жажда одолевала меня, но я продолжал сидеть за своим письменным столом, вертеть в руках перо и карандаш, хотя слова так и не выливались на бумагу. Мой мозг не в силах был думать о чем-либо, кроме одного, что там, в другом конце комнаты, в винном погребце стоит Ячменное Зерно. Когда я, прийдя в отчаяние, уступал и выпивал, мой мозг сразу прояснялся и тысяча слов бывала написана без всякого усилия.
В своем городском доме в Окленде я прикончил запас вина и намеренно не стал возобновлять его. Это оказалось бесполезным, ибо, к несчастью, на нижней полке буфета оставался еще ящик пива. Тщетно пробовал я писать. Пиво, убеждал я себя, жалкий суррогат благородной влаги; к тому же я его не люблю. Однако мысль об этом ящике, находящемся так близко под рукой, не выходила у меня из головы. Только выпив бутылку, я мог писать. И немало бутылок пришлось мне опорожнить, прежде чем вся тысяча слов оказалась на бумаге. Хуже всего было то, что пиво вызывало у меня изжогу. Однако, несмотря на это, я скоро прикончил ящик.
Теперь в погребце было пусто. Я не делал новых запасов. Путем поистине героических усилий мне удалось под конец заставить себя писать ежедневную тысячу слов без помощи Ячменного Зерна. Но все время, пока я писал, мучительная жажда не покидала меня. И как только утренняя работа заканчивалась, я убегал из дому и устремлялся в город, чтобы выпить. Какой ужас! Если хмель мог до такой степени поработить меня, не алкоголика по природе, как же должен страдать настоящий алкоголик, ведя борьбу против потребности организма, в то время как самые близкие ему люди не только не сочувствуют этим мукам, не понимают их, но еще презирают и высмеивают его.
Глава XXXV
Час расплаты приближался. Джон Ячменное Зерно начал собирать свою дань не столько с тела, сколько с души. Старая долгая болезнь, исключительно психического порядка, вернулась снова. Давно похороненные знакомые призраки опять подняли головы. Но теперь они были грознее и страшнее, чем прежде. Прежние призраки были чисто интеллектуального происхождения. Вот почему их побеждала здравая и нормальная логика. Но теперь их воскрешала Белая Логика Джона Ячменное Зерно, а Ячменное Зерно никогда не пойдет против призраков, вызванных им самим. При таком заболевании пессимизмом человек непременно будет пить дальше, ища облегчения, которое Ячменное Зерно обещает ему, но никогда не дает.
Как мне описать Белую Логику тем, кто никогда не испытывал ее на себе? Можно ли вообще описать ее? Возьмем Страну Гашиша, страну беспредельного протяжения во времени и пространстве. В прошлые годы я совершил два незабываемых путешествия в эту далекую страну. Впечатления, которые я пережил там, сохранились в моей памяти до мельчайших подробностей. Однако я напрасно пытался описать хотя бы одну незначительнейшую особенность этого царства людям, никогда не бывавшим в нем.
Я пускал в ход всевозможные метафоры и гиперболы, стараясь объяснить им, как целые века и бездны невообразимого ужаса и муки могут быть пережиты в промежутке между двумя нотами джиги, которую быстро играют на рояле. Я бился целый час, пытаясь втолковать им это свойство Страны Гашиша, и в результате так ничего и не объяснил. А раз я оказался не в силах описать им хотя бы одну особенность из всех безмерно ужасных и чудесных свойств этого царства, значит, я не сумел дать им ни малейшего представления о Стране Гашиша в целом.
Но стоит заговорить об этой очаровательной стране с кем-нибудь, кто побывал в ней, как мы сразу поймем друг друга. Одна фраза, одно слово вызовут в уме его то, чего не могли вызвать целые часы объяснений в воображении людей, никогда не странствовавших там. Так же обстоит дело и с царством Ячменного Зерна, где правит Белая Логика. Тем, кто ни разу не был там, рассказ путешественника покажется непонятным и фантастическим. Я могу только попросить не бывавших в царстве Ячменного Зерна постараться принять мой рассказ на веру.
Алкоголь внушает человеку роковые истины. В этом отношении трезвый ум уступает пьяному. По-видимому, истины не всегда бывают одного порядка. Одни истины более правдивы, другие менее, и эти-то как раз и полезнее остальных, так как живое хочет жить. Вы видите теперь, о неискушенный читатель, как безумно и богохульно царство Ячменного Зерна, о котором я рассказываю языком его поклонников. Этот язык чужд вам, ибо все трезвенники уклоняются от путей, ведущих к смерти, и избирают лишь пути жизни. Ибо существует много дорог, как и разных истин. Но имейте немного терпения. Быть может, через то, что покажется вам сперва лишь набором слов, вы случайно увидите едва намеченные очертания других далеких стран и поймете людей другого склада.
Алкоголь говорит правду, но эта правда не соответствует привычным нормам. Все нормальное способствует здоровью. То, что здорово, ведет к жизни. Нормальная правда – правда иного, низшего порядка. Возьмем ломовую лошадь. Несмотря на всю безотрадность своего существования, от первого момента до последнего, она каким-то загадочным, непонятным для нас образом верит, что жизнь хороша, что тяжелая работа в хомуте полезна, что смерть ужасна и что жить стоит; что в конце, когда силы ее ослабеют, ее не станут подгонять пинками, бить и понукать, заставляя трудиться свыше сил, что старость имеет свои хорошие стороны, ценится и пользуется уважением. Хотя на самом деле старость ужасна, и животное, спотыкаясь при каждом ударе, на каждом шагу, среди безжалостного рабства и медленного разложения будет тянуть свой груз, вплоть до конца, а конец этот – живодерня, распределение частей клячи (ее чувствительного мяса, ее розовых крепких костей, ее соков, ферментов и всех ощущений, которые когда-то воодушевляли ее) по птичьим дворам, по кожевенным заводам, по клеевым фабрикам и по заводам для выработки искусственных удобрений. Но до последнего неверного шага эта ломовая лошадь должна верить в низшую правду, в правду жизни, которая вообще только и делает ее существование возможным.
Эта ломовая лошадь, как все остальные лошади, как вообще все животные, включая человека, ослеплена жизнью, все чувства ее притуплены. Она будет жить, какой бы ценой ей ни приходилось расплачиваться за это. Жизнь хороша, несмотря ни на какие страдания, жизнь хороша, несмотря на то, что всегда завершается гибелью. Вот какого рода истины необходимы если не для вселенной, то для населяющих ее живых существ, чтобы они могли вынести жизнь, пока не умрут. Такого рода истины, как бы ошибочны они ни казались, – разумные и нормальные истины, которые должно исповедывать все живое, чтобы не погибнуть.
Одному только человеку из всех животных дана привилегия мыслить. Человек силой своего разума может проникнуть в обманчивую видимость вещей и стать лицом к лицу со вселенной, холодно и равнодушно взирающий на него и его мечты. Он может сделать это, но тем хуже для него. Чтобы жить полной кипучей жизнью, чтобы быть жизнерадостным, то есть быть таким, каким он создан, нужно быть ослепленным жизнью и притупленным ею. Но что хорошо, то и истинно. И только этот род истины, эта правда, хоть она и ошибочна, – единственное, что должен исповедовать человек. Только подобного рода истиной он и должен руководствоваться в своих поступках, с непоколебимой уверенностью, что это единственная истина и другой не существует. Человеку следует принимать за чистую монету обман ума и чувств, насмешки плоти и сквозь туманы чувственности преследовать неуловимые лживые призраки страсти. Ему лучше не замечать мрачных сторон жизни, ее пустоты и не слишком копаться в собственной алчности и похоти.
Человек так и поступает. Тысячи мельком заглянули в лицо тем, другим истинам высшего порядка и отступили перед ними. Множество людей прошли через тяжкую болезнь и, оставшись жить, сознательно постарались забыть о ней и не вспоминать до конца своей жизни. Они остались жить и поняли смысл жизни, ибо жизнь в этом и заключается. Они поступили правильно.
Но тут является Джон Ячменное Зерно и налагает свое проклятие на одаренного воображением человека, страстно любящего жизнь и жаждущего жить. Ячменное Зерно посылает ему свою Белую Логику, посеребренного вестника высшей истины, антитезу жизни, жестокую и холодную, как надзвездные пространства, бестрепетную и замороженную, как абсолютный нуль, сверкающую инеем неопровержимой логики и незабываемых фактов. Ячменное Зерно не хочет, чтобы мечтатель грезил и живущий жил. Он уничтожает рождение и смерть и распыляет в прах парадокс бытия, пока жертва его не возопит, как в «Граде страшной ночи»:
Наша жизнь – обман, наша смерть – мрачная бездна.
И тот, кто попал в тенёта Ячменного Зерна, вступает на путь смерти.
Глава XXXVI
Вернемся к моим личным переживаниям, к влиянию, которое оказала на меня в то время Белая Логика Ячменного Зерна. Я живу на своем прелестном ранчо в Лунной Долине. После многих месяцев отравления алкоголем мой мозг насквозь пропитан им, а я сам подавлен мировой скорбью, которая всегда была наследием человека. Тщетно стараюсь я понять причину этой тоски. Я ни в чем не нуждаюсь. Крыша моя не протекает, и я имею возможность удовлетворять малейшие капризы своего аппетита. Пользуюсь полным комфортом. Физически я совершенно здоров, не испытываю ни болей, ни страданий. Мой налаженный механизм работает без сучка и задоринки. Ни мозг мой, ни мускулы не переутомлены чрезмерной работой. У меня есть земля, деньги, влияние, слава, сознание, что я вношу свою лепту в дело служения ближним, любимая жена, дети – плоть от моей плоти. Я выполняю свой долг гражданина. Я выстроил на своем веку много домов, вспахал много сотен акров земли и насадил тысяч сто деревьев. Из каждого окна своего дома я вижу эти посаженные мною стройные деревья, поднимающиеся ввысь, к солнцу.
Моя жизнь сложилась счастливо. Вряд ли из миллиона людей наберется сотня, которой так повезло бы в жизни, как мне. И однако, несмотря на удачи, которые не покидают меня, я тоскую. И тоскую потому, что со мной Ячменное Зерно, а он со мной потому, что я родился в темную эпоху, как назовут это время наши далекие потомки, в эпоху, предшествовавшую разумной цивилизации. Ячменное Зерно со мной, потому что во все неразумные дни моей юности он был доступен для меня. Он манил и призывал меня на каждом углу и на каждой улице. Псевдоцивилизация, царившая в эпоху, когда я родился, разрешала открывать лавки для продажи отравы души. Жизнь была так устроена, что меня и миллионы мне подобных тянуло, увлекало и заманивало в кабак.
Попробуйте разделить со мной один из тысячи приступов тоски, в которые загоняет человека Джон Ячменное Зерно. Я объезжаю свое прекрасное ранчо. Я сижу на великолепной лошади. Воздух пьянит, как вино. Виноградники на покатых склонах холмов пылают огнями осени. Из-за Сономских гор украдкой проскальзывают пряди морского тумана. Полуденное солнце томится в задремавшем небе. Судя по всему, я должен испытывать безмерную радость от того, что живу. Я полон грёз и тайн, я весь пронизан этим солнцем, воздухом и блеском, я живу, мои органы работают в совершенстве, я двигаюсь, я управляю своими движениями и движениями живого существа, на котором сижу верхом. Я полон гордости от того, что существую, от возвышенных страстей и вдохновения. У меня десять тысяч божественных задач в этом мире. Я царь в царстве чувства и попираю ногами непокорный прах.
А между тем я с горечью взираю на всю эту красоту и дивлюсь самому себе. Какое жалкое место занимаю я в этом мире, который так долго жил до меня и так же спокойно будет продолжать жить дальше, когда меня не станет. Я думаю о людях, которые надорвали свои жизни и сердца, обрабатывая эту упрямую землю, которая теперь принадлежит мне. Разве что-нибудь вечное может принадлежать тем, кто так быстро переходит в ничто? Эти люди исчезли, я также исчезну. Они трудились, очищали землю, засеивали ее и, останавливаясь, чтобы расправить онемевшие от работы члены, так же, как и я, смотрели усталыми глазами на те же восходы и закаты, на то же великолепие осенних виноградников и на пряди тумана, выползающие из-за гор. И они исчезли. И я знаю, что настанет день, может быть, скоро, когда исчезну и я.
Исчезну! Но я уже понемногу исчезаю. У меня в челюстях хитроумное изобретение дантистов, заменяющее те части моего Я, которые уже исчезли. У меня никогда уже не будет таких пальцев, как в юности. Былые драки и борьба непоправимо изувечили их. Большой палец погиб навсегда от удара по голове человека, имя которого я давно забыл. Другой палец погиб в драке. Мой поджарый живот спортсмена отошел в область преданий. Мышцы моих ног работают уже не так дружно, как раньше, – в буйные дни и ночи труда и безумств я слишком часто напрягал и растягивал сухожилия. Никогда уже я не смогу больше раскачиваться на головокружительной высоте, уцепившись за веревочную петлю, среди бушующего шторма. Никогда больше я не смогу гонять собачьи упряжки по полярной пустыне.
Я знаю, что в своем распадающемся теле, которое начало умирать с момента моего рождения, я ношу скелет; что под покровом плоти, которая называется лицом, скрывается костлявая застывшая маска смерти. Все это, однако, не страшит меня. Бояться – значит быть здоровым. Страх усиливает жажду жизни. Проклятие Белой Логики в том, что она не вызывает в человеке страха. Мировая скорбь Белой Логики заставляет вас усмехаться прямо в лицо Курносой и презирать все иллюзии жизни.
Во время прогулки я оглядываюсь кругом и повсюду вижу одно только бесконечное, безжалостное разрушение – результат естественного отбора. Белая Логика заставляет меня раскрыть давно заброшенные книги и по пунктам и по главам устанавливает всю ничтожность и суетность красоты и чудес, которые я вижу перед собой. Вокруг меня все гудит и жужжит, но я знаю, что это копошится жалкая мошкара, довольная уже тем, что может хоть на мгновение поколебать воздух своей пискливой жалобой.
Я возвращаюсь на ранчо. Надвигаются сумерки, и хищники выходят из своих берлог. Я слежу за жалкой трагикомедией жизни: сильный пожирает слабого. Мораль отсутствует. Она свойственна только человеку, который сам и создал ее – кодекс правил, стремящихся охранять жизнь, основанных на истине низшего порядка. Все это я познал уже раньше, в томительные дни моей долгой болезни. Это были высшие истины, которые я так хорошо заставил себя забыть. Истины эти были настолько серьезны, что я отказывался принимать их всерьез и играл с ними так осторожно, точно это были сторожевые псы, уснувшие у порога сознания, которых мне не хотелось будить. Я только чуть-чуть прикасался к ним, следя за тем, чтобы они не поднялись. Я был слишком благоразумен, научен слишком горьким опытом, чтобы будить их. Но теперь Белая Логика, независимо от моей воли, будила их для меня, ибо Белая Логика обладает бесстрашным мужеством и не боится никаких чудовищных порождений земного сна.
«Пусть мудрецы всех направлений осуждают меня, – нашептывает мне Белая Логика во время прогулки, – что из того? Истина со мной, и ты это знаешь. Ты не в силах одолеть меня. Они говорят, что я веду к смерти. Что ж из этого! Это истина. Жизнь лжет, чтобы заставить тебя жить. Жизнь – это беспрерывная сеть обмана, это безумная пляска в призрачном изменчивом царстве теней, где явления, в образе мощных приливов, поднимаются и опадают, прикованные цепями к колесам лун, светящих за пределами нашего сознания. Все явления призрачны. Жизнь – страна призраков, где явления меняются, распыляются, переходят одно в другое. Они есть и их нет, они горят, мигают, угасают и исчезают, чтобы снова вернуться в новом образе. Ты сам такая же видимость, составленная из бесчисленных видимостей, ведущих свое начало из далекого прошлого. Видимость знает одни только миражи. Тебе известен мираж желания, и самые эти миражи не что иное, как неисчислимые, невообразимые скопления видимостей, которые теснятся в тебе, создавая твой образ. Они влекут тебя к растворению в других, невообразимых, неисчислимых скоплениях видимостей, из которых произойдут будущие поколения страны призраков. Жизнь – только преходящая видимость. Ты сам только видимость. Ты вышел, невнятно бормоча, из эволюционного болота, как порождение всех призраков, предшествовавших тебе и вошедших в тебя, и точно так же, невнятно бормоча, снова исчезнешь, растворишься, слившись с новыми призраками, которые придут тебе на смену».
На все это, конечно, мне нечего возразить, и, окутанный вечерними тенями, я усмехаюсь в лицо Великому Фетишу, как Конт окрестил жизнь. Я вспоминаю также изречение другого пессимиста: «Все преходяще. Тот, кто родился, должен умереть, а умерший радуется обретенному покою».
Но вот в вечерних сумерках ко мне подходит человек, который не стремится к покою. Это рабочий с ранчо, старик, выходец из Италии. Он раболепно снимает передо мной свою шляпу, ибо я действительно являюсь властелином его жизни. Я даю ему пищу, кров и возможность существовать. Он проработал всю свою жизнь, как скотина, и жил с меньшим комфортом, чем мои лошади в своих устланных соломой конюшнях. Работа искалечила его. Он прихрамывает, одно плечо у него выше другого, узловатые руки его отвратительны, пальцы ужасны, как настоящие когти. Это по виду очень жалкий образчик человеческой породы, и мозг его так же туп, как уродливо тело.
«Тупость не позволяет ему понять, что он только призрак, – хихикает Белая Логика, подмигивая мне. – Чувства его одурманены. Он рабски предан миражу, называемому жизнью. Мозг его набит навязчивыми идеями. Он верит в потусторонний мир. Он воспринял фантазии попов, которые подсунули ему роскошный мыльный пузырь райского блаженства. Он чувствует какое-то неясное сродство между собой и несуществующими духами. Он как бы в тумане видит себя странствующим дни и ночи в межзвездных пространствах. Он непоколебимо убежден, что вселенная была создана именно для него и что он будет вечно жить в сверхчувственном мире, который он и ему подобные воздвигли из иллюзий и обманов.
Но ты, который раскрыл книги и удостоился моего ужасного доверия, ты знаешь, что он такое на самом деле – брат тебе и праху, шутка космических сил, химическое соединение, принаряженный зверь, который возвысился над другими рычащими зверями благодаря тому, что большие пальцы его рук по счастливой случайности оказались перпендикулярны остальным. Он одинаково близок тебе, горилле и шимпанзе. В гневе он выпячивает грудь, рычит и дрожит в бешенстве. Ему знакомы чудовищные звериные порывы, ибо он сплошь состоит из пестрых лоскутьев забытых первобытных инстинктов».
«Однако он верит в свое бессмертие, – слабо возражаю я. – Согласись, что для такого олуха это недурно – усесться верхом на плечи времени и разъезжать по вечностям».
«Ба! – следует возражение. – Уж не намерен ли ты закрыть свои книги и поменяться местами с этим существом, состоящим только из аппетита и низменных желаний, с этой марионеткой, пляшущей на веревочке желудка и похоти?»
«Быть глупым – значит быть счастливым», – настаиваю я.
«Значит у тебя такой же идеал счастья, как и у примитивных медуз, плавающих в стоячих тепловатых сумеречных водах, а?»
О, жертва не может сражаться с Ячменным Зерном!
«Отсюда один шаг до блаженного небытия буддийской Нирваны, – добавляет Белая Логика. – Ну, вот мы и дома. Выпей и подбодрись. Мы, прозревшие, понимаем все, всю блажь и пошлость этого фарса».
В своем кабинете, стены которого уставлены книгами, в этом мавзолее человеческих мыслей, я пью и пью, расталкиваю псов, спящих в сокровенных глубинах мозга, и напускаю их через извилины суеверия и веры на стены предрассудка и закона.
«Пей, – говорит Белая Логика. – Греки верили, что вино дано им богами для того, чтобы они могли забыть убожество своего существования. Вспомни, что сказал Гейне».
Я хорошо помню слова этого пылкого еврея. Все кончается с последним вздохом: и радость, и горе, и любовь, макароны и театр, зеленые липы и малиновые леденцы, власть человеческих отношений, сплетни, собачий лай и шампанское.
«Твой ослепительный белый свет – болезнь, – говорю я Белой Логике. – Ты лжешь».
«Лгу, потому что говорю слишком жестокую правду», – возражает она.
«Увы, да, все в этом мире шиворот-навыворот», – с грустью соглашаюсь я.
«Ну, Лиу Лин был мудрее тебя, – издевается Белая Логика, – помнишь его?»
Я утвердительно киваю: Лиу Лин, большой пьяница, принадлежал к кружку пьянствующих поэтов, которые жили в Китае много веков тому назад и называли себя «Семью мудрецами бамбуковой рощи».
«Это Лиу Лин, – торопится Белая Логика, – сказал, что пьяного житейские треволнения трогают не больше, чем водоросли на дне реки. Прекрасно. Выпей-ка еще, и пусть иллюзия и обманы жизни превратятся и для тебя в речные водоросли».
Пока я наливаю и пью своё виски, мне вспоминается еще один китайский философ, Чан Цзы, который за четыреста лет до Рождества Христова бросил вызов призрачному миру:
«Откуда я знаю, не раскаиваются ли мертвые в том, что когда-то цеплялись за жизнь? Тот, кому снится пир, просыпается для горя и печали. Тот, кому снились горе и печаль, просыпается, чтоб присоединиться к веселой охоте. Во сне они не сознают, что спят. Некоторые пытаются даже разгадать во сне то, что им снится, и, только проснувшись, убеждаются, что это был сон… Дураки воображают после этого, будто они и в самом деле проснулись и льстят себя уверенностью в том, что они действительно принцы или крестьяне. И ты, и Конфуций – только сны, и я, который утверждаю, что вы сны, сам только сон.
Однажды мне, Чан Цзы, приснилось, будто я бабочка, с легкостью порхающая по воздуху то тут, то там. Я помню, что следовал при этом только капризам бабочки и совершенно утратил ощущения своей человеческой личности. Вдруг я проснулся и почувствовал себя человеком, самим собой. Но не знаю – был ли я человеком, которому приснилось, что он бабочка, или я теперь бабочка, которой снится, что она человек».
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.