Текст книги "Что-то случилось"
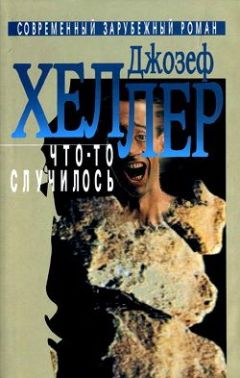
Автор книги: Джозеф Хеллер
Жанр: Современная проза
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 20 (всего у книги 35 страниц)
О Господи. О Господи, Господи, Господи! Не мог я этого сказать, пока она была жива, даже в мыслях не мог. Но чувствовал, наверно, так. Теперь можно это сказать. Так долго ждать чьих-то похорон мне никогда не приходилось, и почти так же долго ждала со мной она. Если Богу будет угодно, своей собственной смерти мне придется ждать еще дольше. Скоро уже надо будет приступить к ожиданию. Я знаю, с чего все начнется. С мочевого пузыря и предстательной железы – если повезет и еще прежде у меня не случится закупорка коронарных сосудов и не хватит удар. Может, покуда я стану тянуть время, поджидая законного часа для начала похоронной церемонии, мне, для разнообразия, в придачу подкинут операцию грыжи или геморроя. Но, вероятно, я тоже захочу тянуть как можно дольше и наперекор боли, сожалениям, отвращению к себе слабеющими пальцами буду цепляться за возникающие над простынями смутные миражи, и до самого конца из моей постели будет слышаться не «ха-ха-ха», а «Мама! Мама! Мама!». Быть может, когда в мозгу останется место лишь для одного-единственного воспоминания, а у губ способность выговорить лишь одно-единственное слово, тогда Грин, Уайт, Блэк, Браун, Кейгл, Артур Бэрон, сестра жены, трехминутные речи в Пуэрто-Рико и пьяная, толстая и краснощекая молоденькая шлюшка, громогласно поднявшая меня на смех на вечеринке в Детройте неделю назад и отвергавшая мои заигрывания, хотя и заигрываний-то никаких не было, я даже и не хотел ее, – только тогда, быть может, все эти докучные события и лица будут вычеркнуты из обширной описи мелких обид и поражений, которые я так и не сумел переварить и к яду которых не притерпелся, списаны будут в архив и навсегда преданы забвению. Вот как я покончу с этим светом. Уходить я не захочу. Им придется тащить меня силком, а я буду корчиться и стонать и, хочется думать, всеми силами ума, зрения и слуха буду воевать, чтобы остаться, но, боюсь, пока буду отчаянно защищать верхний этаж, под меня подкопаются, нанесут удар ниже пояса в печень и почки и я проиграю бой, даже не поняв этого. Даже и не почувствую, что спускаю дух. Морфий меня одурманит. Не хочу уходить. Хочу пережить всех, даже детей своих, и жену, и даже Скалистые горы. Едва ли это удастся. В сердце у меня есть клапаны; и в моей машине есть клапаны; если уж «Дженерал моторс» не способна производить клапаны с гарантией больше, чем на год, на что же тогда надеяться несовершенной природе человеческой? Не могу не пожалеть себя. Не могу не пожалеть моего мальчика). Я жалел его тогда (жалею его и сейчас); он уже тогда тянул время с отсутствующим видом, с безразличием, что свойственно угасающим старикам, лишенным желаний и жизненных сил, как больная мать в доме для престарелых, которая знает, ее отправили туда умирать. Он почти не разговаривал. Его ничто не радовало, казалось, он и не ждал ничего (как рано он сдался!), разве только что кончится знойное удушливое лето, и начнется эта страшная школа, и опять закрутит его оглушающая непостижимая карусель непонятных столкновений и возмездий. Не было в нем ни искры задора. Он был скучный. Просто кое-как тянул время. Чем бы играть с друзьями в бейсбол, ловить мячи, бегать по площадке, он плелся за нами на прогулку или на пляж, держась всегда поодаль, и почти не раскрывал рта.
(– А домой когда пойдем?
Плавать он не хотел. Всякий раз, как он увязывался за нами, везде, кроме темного зала кино, он чувствовал себя не в своей тарелке, его тянуло куда-то прочь, обычно назад домой.
– А вечером вам опять надо уходить?)
И вяло копался в песке. (Нам совсем не хотелось брать его с собой.) Стоило мне на него взглянуть, и он ежился, втягивал голову в плечи, словно ждал – вот сейчас я рванусь к нему, накинусь с угрозами. Похоже было, он болен. (К моему немалому смущению, нас часто потихоньку спрашивали, здоров' ли он. Порой я просто видеть его не мог.) Чего только я не делал, чтобы помочь ему.
– Чем бы ты хотел заняться? – спрашивал я.
Куда бы хотел пойти?
Чего тебе хочется?
В кино хочешь? Может, и мы с тобой пойдем. Какой фильм тебе хочется посмотреть?
Есть же у тебя хоть какое-нибудь желание? Скажи мне. Может, я помогу, чтоб оно сбылось. Ну чего тебе сейчас хочется больше всего на свете?
– Ничего.
Ничем.
Никуда.
Ничего.
Никакой.
Пожалуйста, не спрашивай.
Я готов был его задушить. Исколотить. (Вот чего хотелось мне.) А у него, сколько ни бейся, на все один ответ – ничего. Он палец о палец не ударил, чтобы помочь нам облегчить ему жизнь. Просто сил не было вечно видеть его неприкаянным и одиноким. Он неотступно был с нами. С самого утра, едва проснемся. Казалось, он никогда не спит. Как бы поздно мы с женой ни возвратились, он всегда лежал с открытыми глазами, дверь своей комнаты не затворял, чтобы убедиться, что мы вернулись, именно мы, а не кто-нибудь еще. Разговаривать с теми, кого мы обычно нанимали сидеть вечерами с ним и с Дереком, он даже не пытался.
– Вы куда? Что будете делать? – с пристрастием допрашивал он нас всякий раз, как ему казалось, что мы с женой собираемся уходить.
Он плелся за нами всюду, куда мы только позволяли. Он уже действовал мне на нервы. (Уж слишком часто приходилось его жалеть. Ну почему такое выпало именно мне? Он стал вызывать у меня тогда то самое чувство, какое теперь вызывает Дерек. Но Дерек по крайней мере не мозолит мне глаза, от него можно сбежать.) От него сбежать было невозможно. Он повсюду плелся за нами, и то был явный, для всех очевидный знак некоей поразившей нашу семью гнусной болезни, которую мы предпочли бы сохранить в тайне.
– Мне нечем заняться, – говорил он всякий раз, когда мы гнали его от себя и велели чем-нибудь заняться.
Нередко мы чувствовали себя в дурацком положении. Люди вечно видели его с нами. Всегда казалось, у него в горле ком. Знакомиться с теми одинокими мальчиками, которых мы для него подыскивали, он не хотел.
– Посмотри-ка, это Дикки Дейр. Он славный мальчик и почти твой ровесник. Почему бы тебе с ним не поиграть?
Но он не желал.
– Почему бы не поиграть?
(Он не желал оказаться в компании того, кому тоже не с кем играть. Он восхищался парнишкой из своей бывшей группы, который однажды хотел с ним подраться, и мечтал хоть немножко ему понравиться – пусть бы тот сам захотел с ним подружиться.)
Когда знакомые, стараясь нам помочь, предлагали свести его с другими детьми, чтоб ему было с кем играть, нам приходилось отказываться. И мы ничего при этом не могли им объяснить. Не скажешь ведь, что он нипочем не хочет. (У нас стоял в горле ком.)
– Нет больше моих сил, – горевала жена и чуть не плакала. – Он тает как свечка. Он такой несчастный. Сил моих нет на него смотреть. У меня сердце разрывается.
– И у меня, – признавался я.
Только и бывало мне в то лето хорошо, когда я сидел у себя в кабинете на службе. У меня тоже разрывалось сердце. Он не катался на роликах, не ездил на велосипеде. Я теперь чаще терял терпенье. (Я был мерзок.)
– Ступай играть, – резко приказал я ему как-то на пляже, когда уже не в силах был сдерживаться.
Он заморгал.
– Боб, – предостерегающе сказала жена.
– А? – спросил он.
– Ты что, глухой?
– Я не слыхал.
– Нет, слыхал. Иди играй.
– С кем?
– Вон там сидит мальчик, рядом с полной дамой.
– Ну пап.
– Похоже, он твой ровесник. Похоже, ему хочется с кем-нибудь поиграть.
– Я и так играю.
– Как?
– С песком.
– С песком, – зло передразнил я, опять показал в ту сторону и пригрозил: – Не то приволоку туда за руку и сам его попрошу. – (Я так и собирался сделать. В том месяце я прочел в дамском журнале статью, в которой родителям советовали строже обходиться с норовистыми детьми. А другой дамский журнал советовал жалеть их и быть терпимыми. Черт с ними, с журналами. Я не на шутку разозлился. Жена взглядом пыталась меня остеречь. Я не обращал внимания. Мне важно было одно – показать этому несчастному, растерянному малышу, что командую тут я.) – Понравится тебе это?
– Я не смогу разговаривать, – сказал он, и лицо у него было белое как мел.
– Сейчас-то ты говоришь.
– У меня комок в горле. Меня сейчас вырвет.
– Смотри, дождешься комка на затылке: как стукну, вскочит шишка, – не мог не сострить я. – Иди.
Он нехотя поднялся и медленно, неверными шагами поплелся исполнять то, что ему было велено.
– Вот видишь? – прошептал я жене со страхом и раскаянием, я жаждал немедленного отпущения грехов. – Идет.
– По-моему, это ужасно.
– Но он послушался.
Он заговорил с тем рыженьким, явно болезненным мальчиком, тот, не поднимая глаз, помотал головой и долго, с трудом отвечал. Губы его двигались как-то странно. Мне стало тошно. Полная дама смотрела свирепо. Мой мальчик возвращался к нам, коленки у него подгибались, словно каждый шаг причинял ему боль, и чуть не со слезами, запинаясь, срывающимся голосом он рассказал, что тот мальчик сильно заикается и играть не захотел.
– Вот, я сделал, как ты велел! – с горечью бросил он мне, ударил меня взглядом, как ножом, и снова уселся на песок, поодаль от нас. И опять посмотрел на меня горящими гневом глазами.
Я был расстроен и взбешен.
Все у меня шло вкривь и вкось, одно за другим, у жены и то зажим ослабел. (Черт бы его побрал.) В то лето ей было больно сжиматься, время от времени воспалялось влагалище, и когда я приезжал на эти томительно долгие, невыносимые субботу и воскресенье, ни я, ни даже она до последней минуты не знали (пока я не попробую), сумеем ли мы на сей раз как следует трахнуться.
(Было бы куда лучше оставаться в городе. Мне и бывало куда лучше, когда я оставался там на субботу и воскресенье. Там я получал все, что хотел.) А здесь, на берегу, мне только и дела было, что пялить глаза на чутких жен да заигрывать с молоденькими девчонками. Так что я по-прежнему выходил из себя и пытался ему помочь. (Я выходил из себя, когда видел, что ничего у меня не получается. Меня угнетало, что я бездарен, бессилен, не умею его развеселить, облегчить тоску и жалкое одиночество, подыскать ему какое-нибудь новое занятие.) Опять и опять я грубо приказывал ему браться за то, чего он не хотел и, пожалуй, просто не мог делать – мешало, что вечно натянут каждый нерв и теряется чувство равновесия и координации движений, мешал ком в горле. Я чувствовал, он боится океана, а потому заставил вместе со мной войти в воду, и он едва не утонул: неожиданно накатила высокая волна, оторвала его от меня, сбила нас с ног, и он беспомощно барахтался в глубоком, бурном водовороте несущего его к берегу буруна. Когда ему наконец-то удалось встать на ноги (меж тем я кое-как сражался с откатывающейся волной, пытаясь добраться до него и помочь), он едва дышал и так крепко зажмурился, что напрягшиеся пылающие щеки с обтянутыми скулами походили на багровые стиснутые кулаки. Он раскрыл глаза, лишь когда я взял его снова за руку и повел к берегу. Иногда я и сейчас все это вижу.
– Знаешь, пап, – сказал он тогда, – я боялся открыть глаза. Я не знал, где я, и боялся открыть глаза и посмотреть. Боялся, открою глаза и увижу – меня унесло далеко-далеко от берега, и я не хотел смотреть.
Я удивился, что он заговорил со мной, удивился, что у него еще хватает доверия делиться со мной. (Ведь он мог утонуть, или разбиться насмерть, или уцелеть, но остаться калекой. Оторвав его от меня, отступающая волна в два счета могла смыть его в море. Однажды я помог спасателям вытащить малыша: он плыл на надувном круге, и его мигом отнесло на тридцать ярдов от берега. Мой мальчик мог погибнуть. Такая смерть всегда меня пугала. Утони он тогда, я, наверно, никогда бы себе этого не простил. Наверно, жена никогда бы мне этого не позволила. Мне пришлось бы с ней развестись, что для меня было бы, наверно, не так уж плохо даже теперь, оставить ее с Дереком, который, как нам давно объяснили, уже родился неполноценным, и с дочерью, от которой помощи и утешения не было ни на грош. Я и правда часто думаю о разводе и всегда думал. Даже еще до того, как женился, думал о том, как стану разводиться. Представляю себе свою вторую жену: она была бы моложе, красивее, глупенькая и смирная. Была бы она блондиночка, небольшого росточка, пухленькая, веселая и всегда готова мне угодить, за столом и в постели. Скоро я уже не мог бы выносить ее дольше часа или двух подряд и пришлось бы развестись и с ней тоже. Я рад, что он появился на свет. Это я захотел жениться. Я всегда рад взять в работу свою жену. Она позволяет делать с ней все, что мне вздумается. «Освобождение женщин» не для нее. Это удел мужеподобных поборниц эмансипации. Я не мог как следует уработать жену: днем он вечно слонялся где-нибудь неподалеку, а ночью нередко лежал без сна. Зачастую из-за этого я и гнал его. Если мы запирались в спальне, у нас не было уверенности, что он в унынии не пристроился у самых дверей и ему нас не слышно. Я почти все время ходил надутый и без конца на всех ворчал.)
Я чудовищно с ним обращался. И тогда казалось, иначе нельзя. Ничего другого я придумать не мог. Отделаться от него не удавалось, а он понимал, что я только о том и мечтаю. Однажды он все же поехал на велосипеде, но налетел на деревянный забор и так разбил колено, что целую неделю прихрамывал, а в руку пониже локтя впилась длинная черная заноза, которую мне пришлось вытаскивать иголкой (при этом я чувствовал себя воплощением зла. Я мрачно спорил сам с собой, не зная, брать ли полагающийся двухнедельный летний отпуск. Жена настаивала, говорила, что оставаться на побережье без меня она больше не в силах и тогда вернется в город. Итак, отпуск я взял. И в иные дни охотно заплатил бы Фирме вдвое против того, что получил, лишь бы мне позволили вернуться на службу). Надраться и то я теперь не мог. В час коктейля я не мог вволю налакаться мартини: он вечно был где-нибудь поблизости, прислушивался, приглядывался. (Но у меня и без похмелья начались головные боли.) Мы не могли развлекаться неприличными анекдотами, я не мог себе позволить никаких непристойностей, даже когда у нас бывали гости. Не мог ни с кем заигрывать. Он всегда был поблизости и мог увидеть. (Слава Богу, хоть у дочери хватило великодушия и такта уложить свои огорчения в старый рюкзак и чемодан, уехать на все лето в лагерь и уж там предаваться унынию и донимать нас издалека.) Он был тут. Всегда тут. (Я не мог ни сказать, ни сделать ничего такого, что не хотел бы, чтобы он видел или слышал. Ведь его было так легко огорчить.) Иной раз повернусь, а он тут как тут, и я наступил ему на ногу, и обоим нам худо, и мы бессвязно бормочем неловкие извинения. (Мне хотелось ругаться. Хотелось заорать на него. Хотелось заорать: «Пошел вон!») Я не знал, что сказать. Не знал, как быть. И наконец надумал. И сказал ему:
– Заблудись.
Я заставил его пойти погулять без нас: пускай поймет, что вполне может не заблудиться, – и, конечно же, он заблудился.
– Заблудись, – резче повторил я, видя, что он не понял.
– А?
– Мне делать нечего, – канючил он за минуту до этого.
– Пойди куда-нибудь.
– А куда?
– Куда угодно. Погуляй.
– С кем?
– Один. Мы с мамой хотим хоть немного побыть на берегу без тебя.
– Я не знаю как.
– Нет, знаешь.
– Я не найду дорогу назад.
– Найдешь.
– Прямо сейчас?
– А когда же?
Жена смотрит в сторону, лицо у нее каменное.
– Иди, иди, – холодно советует она. – Пройди по пляжу до эстрады. И потом обратно. Просто иди по берегу вдоль самой воды. Сперва туда, а потом обратно.
– Я хочу остаться здесь.
– А я хочу, чтоб ты пошел.
– Я заблужусь.
– Для этого нужно здорово изловчиться.
Я был непреклонен. Он поднялся, медленно отряхнул с ладоней песок и, покорный, подавленный, молча пошел прочь, ни разу не оглянулся. Скоро его уже заслонили чужие головы и тела, на берегу было полно народу. Эстрада казалась сейчас особенно далекой, пляж людным, как никогда. А вдруг и вправду заблудится! (Пожалуй, я и сам бы заблудился, если б мне предстоял такой поход, в какой я его отправил.)
– Зачем ты так? – упрекнула жена, пожалев, что не помешала мне.
– Ты же сама хотела, чтоб я его услал, верно?
Я вертел головой, вытягивал шею, следя за крохотной фигуркой, которая то исчезала, то мелькала вдалеке, и, когда он совсем скрылся из виду, меня охватили раскаяние и тревога.
– Верно, – призналась жена. И рассеянно кивнула. – Просто я уже не могла вынести, что он вечно крутится поблизости.
– И я.
– Вечно он тут. У меня сердце разрывается.
– И у меня.
– И лицо всегда такое несчастное.
– Вот это и невыносимо.
– Думаешь, он заблудится?
– Не может он заблудиться. А все эта проклятая детская площадка, черт бы их подрал. Ничего бы такого не случилось, если б они получше смотрели за детьми. Пускай сам увидит, что может пойти куда-то один и ничего страшного с ним не случится.
– На пляже такая тьма народу.
– Не заблудится.
Заблудился.
(Так мы по крайней мере подумали.)
Прошло двадцать пять минут, а он все не возвращался, и мы в страхе кинулись его искать, жена побежала вдоль самой кромки воды, а я, утопая ногами в сухом песке, двинулся прямо посреди пляжа – к эстраде. (В голову лезли то гомосексуалисты, то мальчишки из его бывшей группы – увидали его, задразнили, набросились всей оравой.
– Беда! Помогите! – готов я был в ужасе кричать, торопливо протискиваясь мимо обсевших берег взрослых компаний, сердце у меня неистово колотилось. – Маленький мальчик пропал! Такой испуганный. Заблудился.)
Мы нашли его шагах в двухстах – он одиноко кружил на одном месте и потерянно озирался: боялся, не проскочил ли уже нас, и не знал, в какую сторону идти. Он был очень бледен, взгляд отрешенный, зубы стиснуты. Видно, как неестественно напряглась шея, и, конечно, в горле ком. Все вехи на дорожке вдоль берега, знакомые приметы, тенты ничего ему не говорили.
Я чуть не убил его.
– Ты что, заблудился? – крикнул я.
– Не знаю. – Он пожал плечами.
Да, я готов был его убить. Его бессилие и беспомощность возмущали меня, были мне отвратительны (это ж Надо, стоять вот так средь бела дня на пешеходной дорожке, словно у него лодыжки переломаны. И это мой сын. Стыд и досада бушевали во мне, я хотел бы от него отказаться), а через минуту я уже хотел прижать его к груди, защитить и горько, с безмерным состраданием плакать над ним (потому что перед тем готов был его убить. Каково это, иметь отца, который готов тебя убить. Эту часть истории Эдипа все опускают. Несчастного Эдипа оклеветали. Он вовсе не хотел убивать отца. Наоборот, отец хотел убить его). Сам не знаю, что я испытал, когда увидел его, такого жалкого, на этой дорожке: огромную благодарность, что он цел и невредим, или острое, гнетущее разочарование во всем на свете; неуправляемые, противоречивые чувства захлестнули меня, и никакие приметы уже и для меня не имели никакого смысла. (Я и теперь не всегда способен разобраться в собственных чувствах.)
(Жаль, что я не обезьяна.)
На другой день дома мы с женой жестоко разругались из-за денег и секса, он тут был совершенно ни при чем (хотя он не мог этого знать). Мы грызлись, рявкали, рычали, словно бешеные шакалы. Она орала на меня, я на нее (она обзывала меня ублюдком, я ее – сукой, и мы посылали друг друга куда подальше), потом я ринулся в кухню, бросил в стакан с виски немного льда, причем в ярости чуть не раздавил стакан, – и вдруг слышу, мой мальчик робко вошел к жене и спрашивает вполголоса:
– Мне опять пойти погулять? К площадке, где эстрада?
У меня вырвался тяжелый вздох. Хотелось разреветься.
– Папа расстраивается из-за этого, да?
Мне впору было провалиться сквозь землю.
В кухню тихонько вошла жена.
– Слыхал? – прошептала она, злость ее против меня испарилась. (Я промолчал.) – Он спрашивает, не пойти ли ему опять погулять. Он думает, ты расстраиваешься из-за этого.
– Не мог он так сказать, – наконец промямлил я.
– Тебе самому бы его услышать. Поди спроси его.
– Не верю я тебе.
– Когда на тебя находит, ты прямо как сумасшедший, – горько пожаловалась жена. – Нет у меня сил с тобой разговаривать. Ни у кого из нас нет сил. Ничего не слушаешь, ничего не видишь. Поди спроси его сам. Поди посмотри на него сейчас, если не веришь мне.
Я знал, что увижу (и не хотел этого видеть). Я обошел жену, не взглянув на нее, не коснувшись ее, и вернулся в комнату. Он стоял у двери на веранду – покорный, воплощенное раскаяние (словно это он виноват, что мы поссорились) – и ждал моих распоряжений. Бледен был до синевы. (Он сделал бы все, что я велю. Он не хотел, чтобы из-за него я сердился или огорчался. Он смотрел на меня серьезными, широко раскрытыми глазами. Никогда в жизни, ни прежде, ни после, не чувствовал я себя таким жестоким, дрянным, расстроенным, таким бесчеловечным. Он готов был принести любую жертву, какую бы я от него ни потребовал. Не хотел я, чтоб он был таким.) Были в этом его взгляде ожидание, печаль, смирение. Я заговорил не сразу. (Не мог.) У меня ком стоял в горле.
– С этого дня и по крайней мере до конца лета можешь не делать ничего такого, чего не хочешь, – мягко сказал я. – И тебе будет разрешено все, что захочется. Идет? – Я говорил ласково и точно извинялся.
Он поглядел недоверчиво.
– Правда?
– Обещаю тебе.
– Я люблю тебя, папа, – сказал он и прижался ко мне головой, успокоенно меня обнял. – Ты самый лучший папа на свете.
Я самый худший папа на свете.
Вчера я перевел через улицу слепого и удивился, что взял его под руку без отвращения. (Вообще-то под руку взял меня он. Я хотел сам его подхватить, но он сказал:
– Нет, позвольте мне за вас держаться.)
Пожалуй, теперь я буду так поступать почаще (убедился, что могу).
Данное ему обещание я выполнял далеко не всегда.
Но он все равно меня любил.
Пожалуй, я уж слишком влезаю в его шкуру, и, помню, однажды, когда он был еще младенцем в пеленках, лежал в резиновой ванночке и дрыгал ножками, отчаянно ее раскачивая, так что с треском разлетались по комнате коробочки с тальком и английские булавки, жена вскрикнула, тревожно позвала меня и показала красный воспаленный прыщик сбоку, на головке его пениса. (Был он, должно быть, крохотный, наверняка крохотный, но показался тогда огромным волдырем). И едва я увидел это грубое (крохотное) ярко-красное пятно, меня пронзила острая, режущая боль в моем члене, и я невольно обеими руками прикрыл свои детородные органы, оберегая и успокаивая их. Мне тогда было больно. Больно и теперь, когда вспоминаю. А там ничего нет, я знаю, можно и не смотреть. Однажды – я был еще совсем маленький – я почувствовал в самом кончике зуд и жжение и увидел, как оттуда выполз муравей, но я больше никому про это не рассказываю – никто не верит. Сдается мне, я и вправду люблю этот свой предмет, а почему – неясно. Что бы я был без него? Ни то ни се. Он уводил меня в удивительные места. Я его уводил. Благодаря этим возбужденно трепетным, нежным, истекающим соками тканям, я не один десяток лет испытывал беспредельные, подчас непереносимые радости и получил трех большущих детей, и один из них неполноценный. С первой же минуты они по сравнению с ним гиганты. На фабрике такого забраковали бы. Страдает он меньше других. Мы не подчеркиваем разницу. А тот, что всему причиной, в сущности, уже не доставляет мне прежней радости, хотя я, пожалуй, не прочь попользоваться им еще немного, ха-ха… Мне не всегда нравится, когда он ныряет, а заставлять его выныривать и того хуже. Хорошо бы найти ему еще какое-нибудь применение. Однажды, еще подростком, я дал десятицентовик младшей двоюродной сестренке, чтобы она его подергала, а потом до смерти перепугался: вдруг расскажет моей матери или брату, или кому-нибудь из своих. Интересно, не совратило ли это ее с пути истинного. Могло и совратить. Она осчастливила меня. Всего за десять центов. В моей памяти она так и осталась – озадаченная малышка, ни искорки озорства, любопытства или чувственности, едва ли она хоть что-то почерпнула из этого опыта. Ей было скучно и немного не по себе. Я осторожно тронул ее. Я приставал к малолетней. Ко мне в детстве тоже приставали. Ко всем пристают. Может, потому я так и тревожусь за моего мальчика. Прежде я так же тревожился за дочь. Теперь она выросла и уже сама может приставать к малолетним. Сколько раз я с тех пор платил куда больше десятицентовика.
Я дожил до среднего возраста и уже сменил позу эмбриона на позу трупа. Теперь, ложась спать, я не укладываюсь на бок и не подтягиваю колени, защищая живот, и большой палец руки не касается губ. Я лежу на спине, пуки чинно сложены на груди, точно у покойника, а лицо обращено вверх, к потолку. Когда повезет, я ночью чувствую, слышу, как начинаю храпеть; какая-то пленочка болтается глубоко в горле и дразняще и сладко щекочет, и еще меня умиротворяет приятная догадка: наверно, храп мой досаждает жене и мешает ей спать. Не выношу, когда жена спит, если самому не спится; в такие минуты иной раз хочется лупить ее кулаками. Люблю, когда сам я сплю, а ей не спится. Просыпаюсь я однако всегда на боку, и одна рука по-прежнему оказывается между ног, подле причинного места. Видно, хочу за него держаться как можно дольше, пока есть силы. Когда мне стали сниться сны, будто я напустил в постель, я понял, что старею. Я просыпаюсь с полным пузырем и на миг холодею от стыда и страха, что уже намочил постель. И что скоро это станет известно всем.
Наконец-то я знаю, кем хочу стать, когда вырасту.
Когда вырасту, я хочу стать маленьким мальчиком.
Хочу еще раз начать все сначала. А потом еще раз. (А потом еще не раз. Столько я встретил девчонок, с которыми мог бы перепробовать, когда был молодым, а я тогда еще боялся, что не умею и не смогу. Я тогда не знал, как это просто. И мне даже в голову не приходило, что им тоже хочется того же. У меня даже тяги к этому не было. Просто я ходил влюбленный. Вот бы мне начать все сызнова. Ха-ха. Думаю, на сей раз была бы и тяга. Когда вырасту, я хочу стать человеком значительным, с чувством собственного достоинства и со вкусом, заниматься своим настоящим делом и получать от этого удовольствие. Я бы хотел стать Вильямом Шекспиром.) Может, потому я так и тревожусь за своего мальчика (я слишком влезаю в его шкуру), потому так бешусь и раздражаюсь, когда он застревает на мертвой точке, когда вижу, что ему что-то не удается или он и пытаться не хочет. (Уж Не разочаровался ли я в нем?) Дочь утверждает, что мы в ней разочаровались. Да, верно, я думал, из всех нас получится что-то совсем другое. Я так и не стал тем, чем хотел стать, хотя и получил все вещи, какие хотел, включая две автомашины и два цветных телевизора. Мы в числе семейств, которые обладают двумя автомашинами и живут в первоклассном предместье в штате Коннектикут. По данным рекламы и Статистического бюро, мы из категории тех американцев, которые пользуются всеми благами жизни. Я так хочу, чтобы он рос беспечным и уверенным в себе, задиристым, дельным, удачливым и притом зависел от меня, – так что, может, я и правда разочаровался в нем, ведь ничего этого в нем нет, одна только зависимость от меня. Может, потому-то он и боится, что я заведу его в какое-нибудь незнакомое опасное место и там брошу. Может, он и прав. Я и сам боюсь, как бы с ним не случилось чего-то в этом роде; мне чудится: он потерялся, и нет надежды его найти. Вот удивительно – о его безопасности я тревожусь больше, чем о своей.
Когда он пугается, я тоже пугаюсь, хотя то, что его испугало, меня не пугает. (Когда что-то у него не так, я вне себя. Вот бы знать наверняка, что он больше никогда и ничем не выведет меня из равновесия. Я ведь не могу платить ему тем же.)
Когда он трепещет, я содрогаюсь. Когда он простужен, у меня течет из носу, к тому же я чихаю и у меня свербит в горле. Когда у него температура, у меня горит голова, стучит в висках, болят и немеют суставы и мышцы. (Вот что значит любовь!)
Мой мальчик из того же теста. Когда другие попадают в беду, он тоже сразу влезает в их шкуру. Думаю, потому он и отдает свои печенья и монетки тем, кто, как ему кажется, по ним страдает: он знает, каково это – очень чего-то хотеть. (Он хочет вместе с ними.) Помню, как он в ужасе, в изумлении, не веря своим глазам, смотрел раньше на калек и уродов, на горбунов, на карликов, на безруких и безногих. Я читал его мысли: он боялся, как бы и с ним не случилось того же, что с ними, и успокоить его бывало не просто. (Не мог я поручиться, что он никогда не станет жертвой несчастного случая и никогда его не поразит какая-нибудь страшная болезнь.) Я замечаю, теперь он старается не смотреть на таких бедняг. (В нем закипает гнев и он, как и я, отводит от них взгляд. На них не принято смотреть, не принято и отворачиваться.) Раньше у него тотчас в каком-нибудь неестественном повороте цепенела рука или нога. (– Смотри! – Он показывал, как у него свело судорогой мышцу, как дергаются пальцы рук или стопа – случалось это всякий раз, как он видел человека с изуродованной рукой или ногой, и эта непостижимая способность изумляла и смущала его, и он спрашивал, почему это так.
– У меня тоже.)
– А я скажу тебе еще смешную штуку, – недавно признался он мне. – Я, когда начну кого-нибудь щекотать, сразу и сам хохочу.
– Как так? – удивился я. И тотчас мне стало смешно, и я расхохотался.
– Не знаю, – крикнул он, заливаясь хохотом. – Ты почему смеешься?
– По-моему, это смешно! А ты почему?
– Потому что ты! – весело кричит он и хохочет еще громче, его так и распирает от восторга, и он обхватывает себя руками, словно душа и ребра могут взорваться от такой исступленной радости.
Мой мальчик любит смеяться, и, не будь вокруг него так много нас, которые сдерживают его и подавляют, он бы не переставая смеялся и беззаботно шутил. Меня неотступно преследует страх, что с ним что-то случится. (Это его тело, покрытое ножевыми ранами, находят где-нибудь в парке, либо его сгубила болезнь Ходжкина или глазная бластома. И так всякий раз, когда я знаю, что он пошел купаться. Всякий раз, когда его нет дома. Всякий раз, когда я знаю, что дочь покатила на машине с ребятами постарше, я со страхом жду: позвонит или придет полицейский, и мне скажут, что она погибла в страшной автомобильной аварии. Подчас мне хочется, чтобы они поспешили, и пусть бы уж все это осталось позади, тогда бы можно перевести дух и уж больше не маяться неотступной тревогой. Подчас мне хочется, чтобы все, кого я знаю, уже умерли и освободили меня от этих мучительных переживаний, от великодушной заботы об их благополучии. Моя тревога за жену не так остра, хоть я и знаю, что днем она часто водит машину после того, как выпьет. О ее смерти я почти и не думаю. Только о разводе. Не люблю автомашины. И плавательные бассейны, и океан.)
Я думаю о смерти.
Все время о ней думаю. Мысли о ней меня не отпускают. Страшусь ее. Видно, смерть – это у нас семейное. Смерть уносит людей и снится мне, и, думая о ней, я не без иронии опять и опять предаюсь прихотливой игре воображения. (А меж тем, о Господи, я все еще хочу произнести ту трехминутную речь. И всерьез жажду занять место Кейгла. Прошлой ночью, в постели, я на время перестал размышлять о смерти и принялся составлять планы обеих речей, с которыми мне, возможно, предложат выступить. А возможно, и вовсе не предложат, но я для обеих подыскал хорошие фразы.) Прошлой ночью, в постели, когда я придумал эти хорошие фразы – а может, утром, когда я уже в целости-сохранности выплывал из сна? – мне под конец примерещилось, что служанка звонит мне на службу, покуда жена где-то выпивает (или где-то с кем-то занимается любовью – последнее время у меня бывают и такие сны, и я терпеть их не могу), и, по обыкновению невнятно, на южный лад выговаривая слова, низким, как у всех цветных, почти мужским голосом говорит:
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.








































